Образ природы в творчестве И. -В. Гёте и его значение для экологической эстетики Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»
2013
ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Сер. 17
Вып. 3
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 7.01
Т. А. Акиндинова
ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И.-В. ГЁТЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ*
Природа была для Гёте предметом глубокого благоговейного осмысления на протяжении всей жизни поэта и ученого. Программно заявив о себе сначала в философ-ско-поэтическом эссе «Природа», в котором мыслитель уже на склоне лет отметил «склонность к своего рода пантеизму», интерес Гёте к изучению природного мира неизменно тяготел к строгому естествознанию.
«Критика способности суждения» стала первой из «Критик», всерьез заинтересовавшей Гёте кантовской философией. Эта книга побудила его к изучению предшествующих «Критик», в результате чего он, с уважением отзываясь о Фихте, Шеллинге, Гегеле, всё же назвал Канта «лучшим среди новейших философов».
Кант с самого начала своих занятий философией глубоко осознавал сложность познания органических феноменов: «. ..Пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» [1, т. 1, с. 127]. В «Критике способности суждения» Кант вводит понятие телеологической рефлексии как способа рассмотрения явлений природного мира как если бы они имели некоторую сверхчувственную цель, что является необходимым регулятивным принципом целостного осмысления мироздания. Гёте, разумеется, было близко кантов-
..Пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» [1, т. 1, с. 127]. В «Критике способности суждения» Кант вводит понятие телеологической рефлексии как способа рассмотрения явлений природного мира как если бы они имели некоторую сверхчувственную цель, что является необходимым регулятивным принципом целостного осмысления мироздания. Гёте, разумеется, было близко кантов-
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 12-03-00533 «Роль экологической эстетики в сохранении ценностей культуры».
© Т. А. Акиндинова, 2013
ское определение организма: «…Органический продукт природы — это такой, в котором всё есть цель и в то же время всё есть средство. Ничего в нём не бывает напрасно, бесцельно и ничего нельзя приписать слепому механизму природы» [1, т. 5, с. 401].
Не принимая в естествознании ни механицизма, ни витализма, Гёте высоко оценил прежде всего определение Кантом онтологического статуса телеологического суждения, отрицающего объективную целесообразность природы. Оно оправдывало для Гёте его «отвращение» к идее «конечных целей природы», выработанное многолетними занятиями естественными науками. «.Убежденность, что любое создание существует для себя самого, — говорил Гёте своему секретарю И. Эккерману, — и что пробковое дерево растет не затем, чтобы у людей было чем закупоривать бутылки, — вот в чем была наша общность с Кантом, и меня радовало, что мы сошлись в этой точке» [2, с.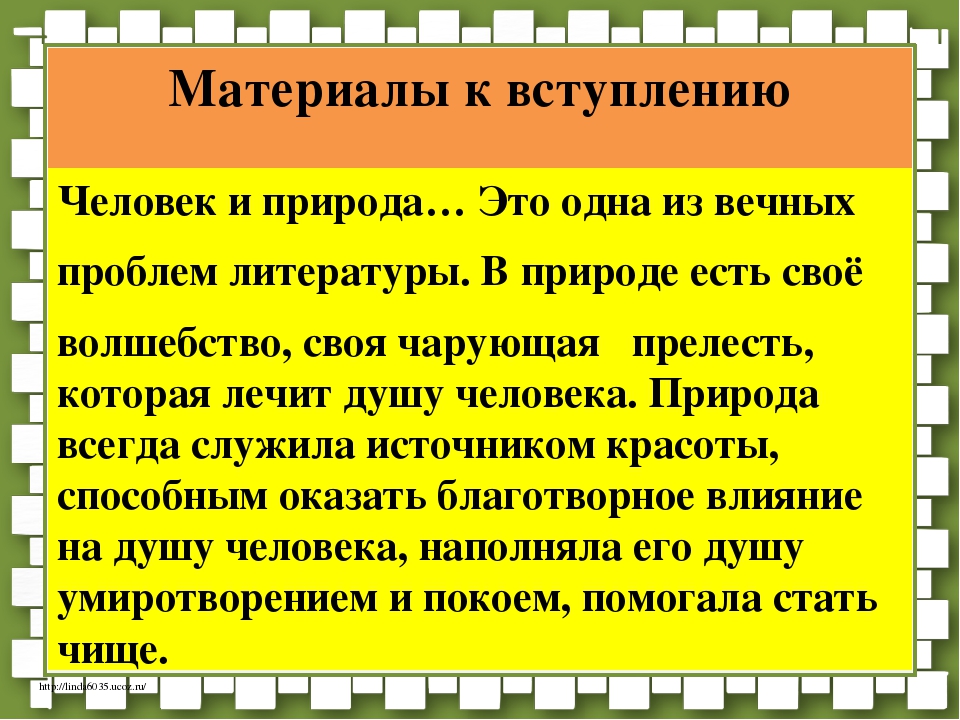
Таким образом, в трактовке эстетической и телеологической рефлексии — нескончаемом размышлении о таинствах природы и свободы, об их единении в жизненном мире человека — Гёте, как поэт и ученый, увидел «полную аналогию со своим творчеством, деятельностью и мышлением»: «Меня радовало, что поэтическое искусство и сравнительное естествознание находятся в столь близком родстве, подчиненные одной и той же способности суждения. Эстетическая и телеологическая способность суждения взаимно освещали друг друга» [3, с. 214].
Гётевская интерпретация эстетики Канта может поэтому в определенной мере быть путеводной нитью в движении к осмыслению ученым телеологии природы, выходящей за пределы как религии, так и механистического естествознания.
Отметим самые существенные для нашей темы моменты. Во-первых, это стремление избежать в духе Канта методологической ограниченности эмпиризма и рационализма. Гёте не принимал рационализма классицисткой эстетики. Он раздраженно говорил о критиках, пытавшихся рассматривать художественное произведение только как иллюстрацию абстрактных понятий. «Вот подступают они ко мне и спрашивают, какую идею я хотел воплотить в моем Фаусте? — жаловался он Эккерману. — Как будто я сам это знаю и могу это выразить. В самом деле, хорошая это была бы штука, если бы я пытался такую богатую, пеструю и в высшей степени разнообразную жизнь, которую я вложил в моего Фауста, нанизать на тонкий шнурочек одной-единственной для всего произведения идеи?» [2, с. 718-719].
Дистанцированность Гёте от классицизма выразилась также в утверждении особой значимости воображения в художественном творчестве: «Если бы фантазия не могла создавать вещи, которые навсегда останутся загадками для рассудка, то фантазия вообще немногого бы стоила» [2, с.
Однако Гёте далек и от принижения роли мышления в познании или в художественном творчестве: «Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, всё сводится к концепции» [4, с. 718]. Вместе с Кантом, полагавшим необходимым, чтобы свободно созданные воображением образы сохраняли всё же некоторую «правильность» в отношении к реальному миру, Гёте требовал от художника учиться «верно и смиренно копировать природу».
Определение Кантом предназначения эстетической рефлексии — судить о красоте природы как если бы она несла в себе сверхчувственный нравственный смысл — отвечало стремлению Гёте создавать средствами искусства целостный жизненный мир человека — явить в художественном феномене единство природного и духовного бытия. Но размышляя над этой проблемой, Гёте обнаружил лакуну в эстетической мысли Канта. Ведь философ детально анализировал суждение вкуса об эстетической идее как она явлена в произведении искусства или — по аналогии с ним — в природе, т.
Размышления над проблемами творчества привели поэта к выводу, не предусмотренному кантовской эстетикой: эстетическая идея не просто соотносит содержание теоретического и практического разума, не имея собственного объекта; наряду с законами природы и свободы, она претворяет его в новый объект — конкретную индивидуальность, содержание которой не вмещается в общие понятия ни науки, ни морали и потому для них не представляет «интереса». По мысли Гёте, «каждый характер, как бы своеобразен он ни был, и всё изображаемое, начиная от камня до человека, заключает в себе нечто общее» [2, с. 182], однако художника делает художником именно способность схватить и выразить «общий смысл» в единичном случае. Тогда для него «должен начаться прорыв к наиболее высокому и трудному в искусстве, к постижению индивидуального.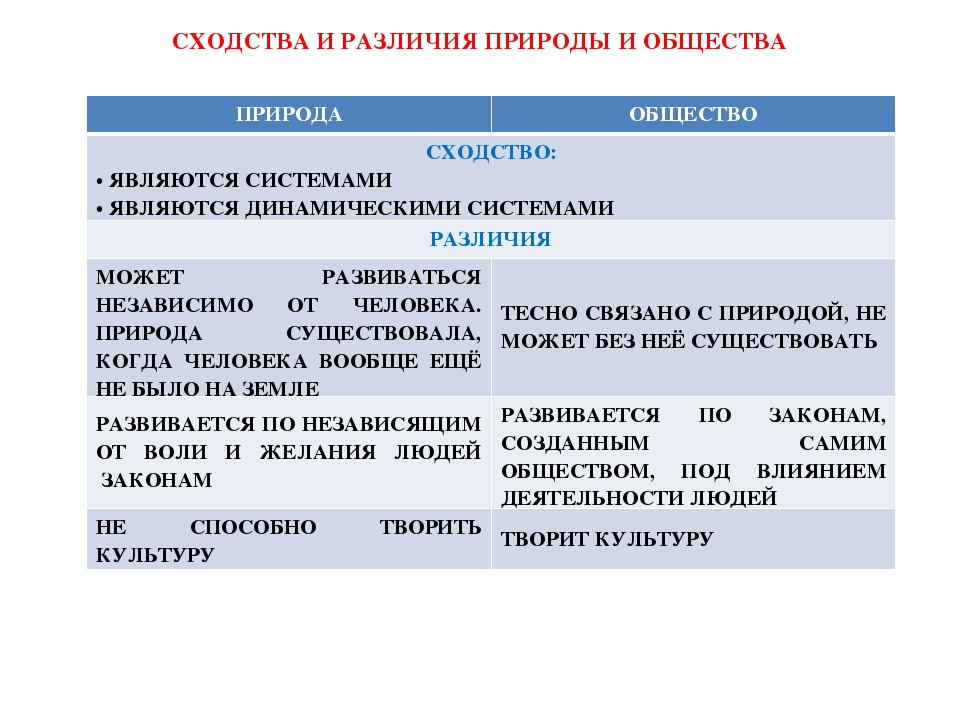
Представляется, что точка зрения Гёте на индивидуальность как объект и субъект художественного творчества ближе монадологии Лейбница. Интерес Гёте к философии великого предшественника Канта, вероятно, имел множество мотивов. Однако можно предположить, что философская мысль Лейбница была особенно важна для Гёте потому, что анализ самых разных проблем производился там в контексте онтологии, а главное, чего Гёте, по его признанию, «недоставало» в философии Канта, всё же было то, что она лишена «выхода к объекту» [5, S. 82].
Гётевское понимание индивидуальности как объекта и субъекта искусства, несомненно, складывалось в русле идей монадологии. Не случайно одной из самых расхожих характеристик человека было для Гёте понятие «монада». По Лейбницу, весь мир — совокупность абсолютных индивидуальностей — монад, а самопроизвольность их развития на уровне человеческого сознания являет себя как свобода.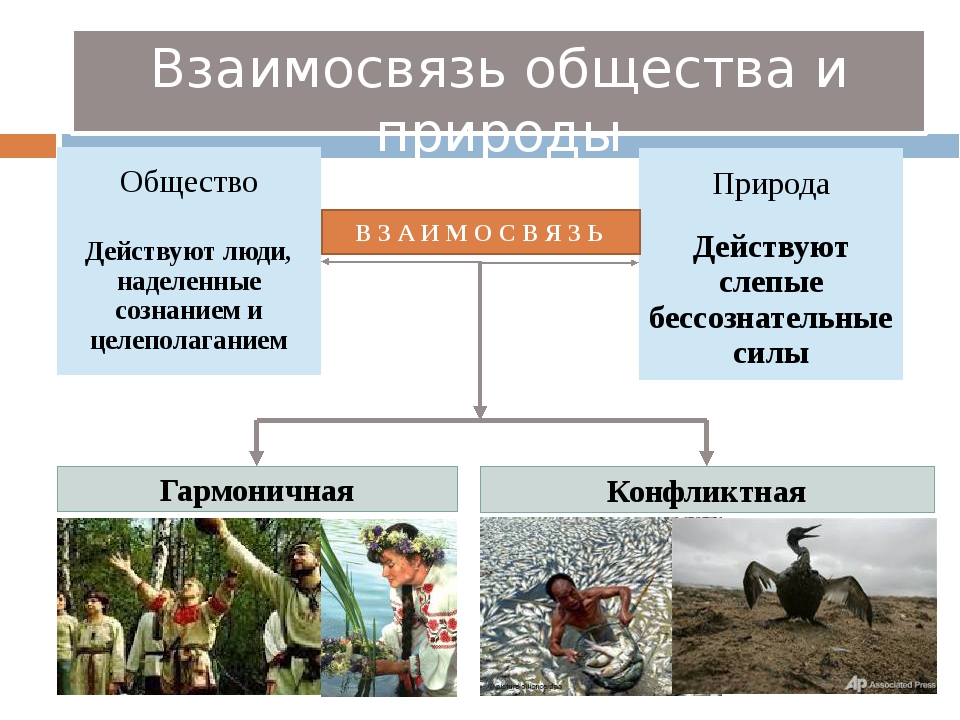 Поэтому нравственный выбор, нравственное решение у Лейбница — абсолютно индивидуальный
Поэтому нравственный выбор, нравственное решение у Лейбница — абсолютно индивидуальный
акт. Такой тезис философа, однако, необходимым образом вызывал вопрос: как возможно в этом случае нравственное законодательство, если нравственный закон по определению должен обладать всеобщностью?
Общепризнанным ответом на поставленный вопрос и была кантовская формулировка категорического императива: «Поступай так, чтобы максима твоей воли во всякое время могла стать основой для всеобщего законодательства».
Решение названной этической проблемы Лейбницем оказалось парадоксальным для всей философской традиции, как докантовской, так и последующей, поскольку монадологическая формула решения действительно соединила в органическое целое всеобщность и абсолютную уникальность нравственного действия. Императив доброй воли с лейбницианской позиции, по существу, гласит: поступай так, чтобы другой, если бы он был тобой и находился в твоих обстоятельствах, поступил бы так же, как ты. Следовательно, оценка такого поступка этим другим предполагает признание: если бы я был тобой и находился в твоих обстоятельствах, я поступил бы так же, однако я — не такой, как ты, и нахожусь в других обстоятельствах, поэтому я поступлю иначе.
Следовательно, оценка такого поступка этим другим предполагает признание: если бы я был тобой и находился в твоих обстоятельствах, я поступил бы так же, однако я — не такой, как ты, и нахожусь в других обстоятельствах, поэтому я поступлю иначе.
О том, насколько позиция Гёте сближается здесь с лейбницианством, говорит уже его признание: «Истина — ничто само по себе и для себя. Она развивается в человеке, если он позволяет миру воздействовать на его чувства и дух. Каждый человек, сообразно своей организации, имеет собственную истину, которую только он может понять в ее интимных чертах. Кто достигает всеобще-значимой истины, не понимает себя» [6, S. 349].
Именно такая трактовка проблемы нравственного выбора, исходящая из признания неповторимости личностного бытия, получила наиболее полное отображение в художественном творчестве Гёте. Неудивительно, что Гёте придавал принципиальное значение использованию имен собственных в качестве названий для своих художественных произведений: «Фауст», «Страдания юного Вертера», «Годы учения Вильгельма Майстера», «Эгмонт», «Гёц фон Берлихенген». .. Герои произведений Гёте наделены сложным внутренним миром, они совершают трагические ошибки, их поступки не защищены от влияния случая, т. е. художественные образы здесь отнюдь не представляют идеал, но тем не менее вызывают общий интерес. Читатели сочувствуют героям, входят в их положение, понимают мотивы их действий, но только эстетически наивное сознание отождествляет себя с ними или пытается им подражать.
.. Герои произведений Гёте наделены сложным внутренним миром, они совершают трагические ошибки, их поступки не защищены от влияния случая, т. е. художественные образы здесь отнюдь не представляют идеал, но тем не менее вызывают общий интерес. Читатели сочувствуют героям, входят в их положение, понимают мотивы их действий, но только эстетически наивное сознание отождествляет себя с ними или пытается им подражать.
Искусство предоставляет возможность не только проживания в воображении и осмысления множества жизней, но и их соотнесения друг с другом. Духовный мир читателя разрастается в упорядоченную целостность — неповторимый духовный космос, включающий множество вариантов возможного осуществления человеческого бытия, что предполагает и развитие способности сочувственного понимания уникальности реального человека. У Гёте эстетический субъект (и творчества, и восприятия) характеризуется прежде всего продуктивностью: он формирует объект, недоступный общим понятиям рассудка и разума, — индивидуальность: индивидуальность другого человека, вещей, всего предметного нравственно осмысляемого мира. Этот индивидуализированный образ мира является выражением индивидуальности художника. Интерес Гёте к онтологии Лейбница, рассматривавшего индивидуальность в гармонической соотнесенности с миром в целом, по сути, предвосхищал движение философской мысли к новому прочтению «Монадологии». Важно, однако, что, в отличие от Лейбница, Гёте видел в искусстве возможности постижения индивидуального бытия человека
Этот индивидуализированный образ мира является выражением индивидуальности художника. Интерес Гёте к онтологии Лейбница, рассматривавшего индивидуальность в гармонической соотнесенности с миром в целом, по сути, предвосхищал движение философской мысли к новому прочтению «Монадологии». Важно, однако, что, в отличие от Лейбница, Гёте видел в искусстве возможности постижения индивидуального бытия человека
в единстве его духовной (нравственной) и телесной природы, поскольку «материя без духа, а дух без материи никогда не существует» [3, с. 40]. Индивидуальность Гёте рассматривает не только на уровне сознания, но, отступая от традиции всего классического идеализма, как форму самого бытия — как индивидуальное бытие (Dasein). Обладая автономией, это индивидуальное бытие органически связано со всем природным и социальным контекстом, исторически формируется в диалоге с другими людьми как «коллективное существо».
Стремление Гёте выйти к онтологической проблематике, историзм мышления, претворенные в художественное творчество, предопределили расширение философского горизонта за пределы и трансцендентального идеализма Канта, и гегелевской диалектики мирового духа, и идеалистической монадологии Лейбница. Индивидуальность человека как предмет искусства рассматривается Гёте в целостности духовно-телесной природы, и его интересует человек не только как субъект деятельности сознания, но и как субъект реального действия. Поэтому и дальнейшее развитие философии («замыкание круга» философии) для Гёте предполагало созидание более полной, по сравнению с трехчленной кантовской, философской системы, включающей метафизику повседневности как аналитику особого пласта бытия — повседневного человеческого существования, действительно не представлявшего теоретического интереса для классического идеализма. Тем самым понятие субъекта приобретает новое измерение: субъектом любой деятельности оказывается не носитель трансцендентальных способностей, а индивидуальное человеческое бытие в своей духовно-телесной целостности, исторически формирующееся во взаимодействии с другими людьми, в ориентации на диалог.
Индивидуальность человека как предмет искусства рассматривается Гёте в целостности духовно-телесной природы, и его интересует человек не только как субъект деятельности сознания, но и как субъект реального действия. Поэтому и дальнейшее развитие философии («замыкание круга» философии) для Гёте предполагало созидание более полной, по сравнению с трехчленной кантовской, философской системы, включающей метафизику повседневности как аналитику особого пласта бытия — повседневного человеческого существования, действительно не представлявшего теоретического интереса для классического идеализма. Тем самым понятие субъекта приобретает новое измерение: субъектом любой деятельности оказывается не носитель трансцендентальных способностей, а индивидуальное человеческое бытие в своей духовно-телесной целостности, исторически формирующееся во взаимодействии с другими людьми, в ориентации на диалог.
Воплощение индивидуальности в искусстве, позволяющее в любом, даже самом отвратительном персонаже разглядеть человека, т.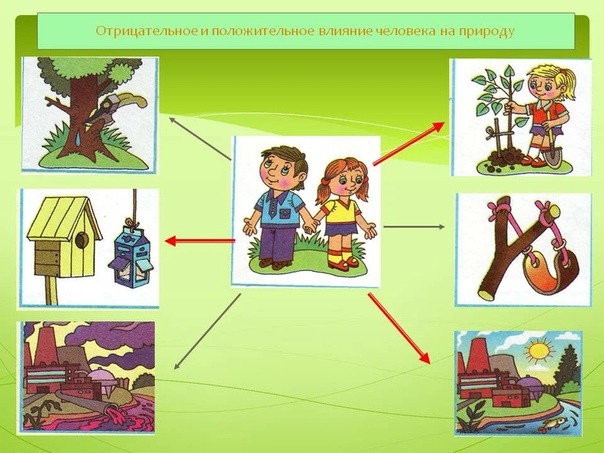 е. видение того уникального, без чего наше понимание человека как родового существа, общего для всего человечества, будет неполным, у Гёте представало и как пример научного познания общего в индивидуальном. Поэт видел опасность для ученого в том, чтобы начинать познание «с отыскания подобия или сходства между вещами в угоду своей гипотезе или способу представления… легко проглядеть такие признаки, в силу которых вещи очень различаются между собой». «Нам нужно было бы, — продолжает Гёте, — подмечать в вещах, познания которых мы добиваемся, больше то, в чём они отличаются друг от друга, чем то, в чём они сходны. Различение труднее, кропотливее, чем отыскание сходства, а раз приобретено правильное различение, предметы сравниваются сами собой» [3, с. 49]. Такой способ познания Гёте называл не чувственным, но интеллектуальным созерцанием; его результатом становилось усмотрение в частном случае первофеномена — общего, вмещающего в себя необозримое множество вариаций в их неповторимости. Этим первофеномен для Гёте отличался от общего понятия, отбрасывающего различия между вещами.
е. видение того уникального, без чего наше понимание человека как родового существа, общего для всего человечества, будет неполным, у Гёте представало и как пример научного познания общего в индивидуальном. Поэт видел опасность для ученого в том, чтобы начинать познание «с отыскания подобия или сходства между вещами в угоду своей гипотезе или способу представления… легко проглядеть такие признаки, в силу которых вещи очень различаются между собой». «Нам нужно было бы, — продолжает Гёте, — подмечать в вещах, познания которых мы добиваемся, больше то, в чём они отличаются друг от друга, чем то, в чём они сходны. Различение труднее, кропотливее, чем отыскание сходства, а раз приобретено правильное различение, предметы сравниваются сами собой» [3, с. 49]. Такой способ познания Гёте называл не чувственным, но интеллектуальным созерцанием; его результатом становилось усмотрение в частном случае первофеномена — общего, вмещающего в себя необозримое множество вариаций в их неповторимости. Этим первофеномен для Гёте отличался от общего понятия, отбрасывающего различия между вещами. Научиться видеть первофеномен в индивидуальном феномене означало найти путь к сохранению богатства чувственной конкретности в научном знании. Как это часто происходило у Гёте, итоги размышлений о перспективах науки отлились в лаконичный афоризм:
Научиться видеть первофеномен в индивидуальном феномене означало найти путь к сохранению богатства чувственной конкретности в научном знании. Как это часто происходило у Гёте, итоги размышлений о перспективах науки отлились в лаконичный афоризм:
Что такое общее?
Единичный случай.
Что такое частное?
Миллионы случаев.
Такое видение общего в частном, по Гёте, предполагает бережное признание ценности индивидуального не только в искусстве, но и в науке: «Научиться можно только тому, что любишь, и чем глубже и полнее должно быть знание, тем сильнее, могущественнее и живее должна быть любовь» [5, S. 7]. Целостность отношения Гёте к миру нашла отражение в поздних записях его дневника: «Без занятий естественными науками я никогда не научился бы познавать людей такими, каковы они есть.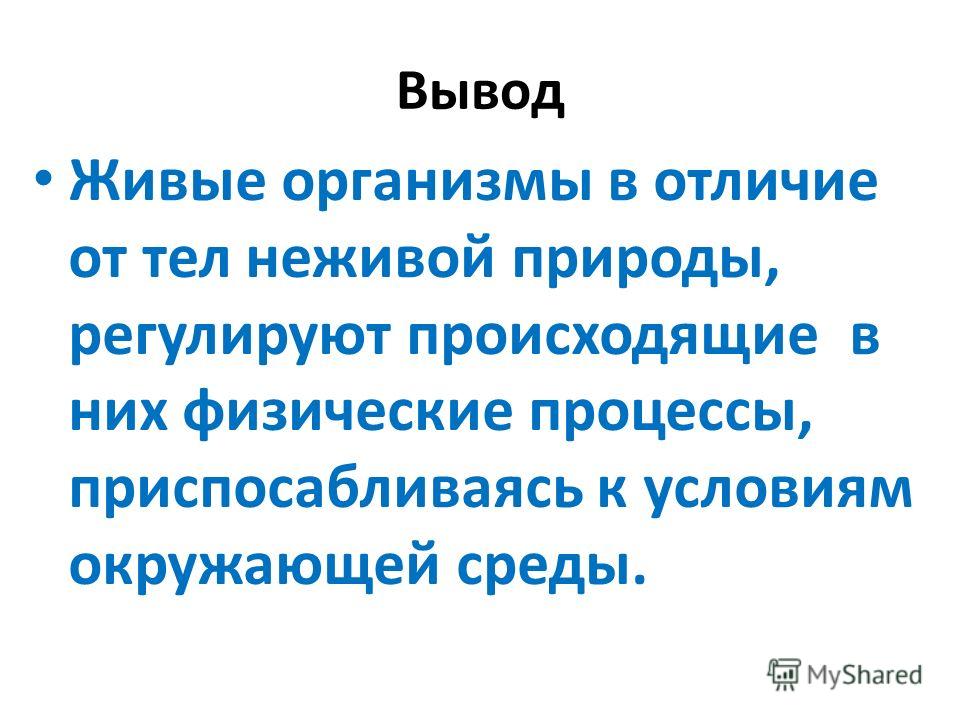 Ни в каких иных областях нельзя уловить с такой точностью чистое созерцание и мышление, ошибки чувств и рассуждений, слабые и сильные стороны характеров; всё прочее более или менее шатко, обо всём можно в той или другой мере торговаться; но природа не признаёт шуток — она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права, ошибки же и заблуждения всегда принадлежат людям. Она пренебрегает неспособными, а способному, правдивому, честному она отдается и открывает свои тайны» [3, с. 475].
Ни в каких иных областях нельзя уловить с такой точностью чистое созерцание и мышление, ошибки чувств и рассуждений, слабые и сильные стороны характеров; всё прочее более или менее шатко, обо всём можно в той или другой мере торговаться; но природа не признаёт шуток — она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; она всегда права, ошибки же и заблуждения всегда принадлежат людям. Она пренебрегает неспособными, а способному, правдивому, честному она отдается и открывает свои тайны» [3, с. 475].
Понимание индивидуальности как процесса непрерывного самоформирования в коммуникации с другими людьми у Гёте переносится, таким образом, на диалог человека с природой в целом: тактичное воздействие на нее (не навреди!) и уважительное приятие ее ответа.
Итак, вывод Гёте о том, что искусство и наука необходимо сближаются в познании и осмыслении бытия как постижение индивидуального в целостности мироздания, что они вместе определяют становление целостного, гуманистически осмысленного жизненного мира человека, являлся развитием кантовской эстетики в части анализа гения и началом нового понимания научной методологии.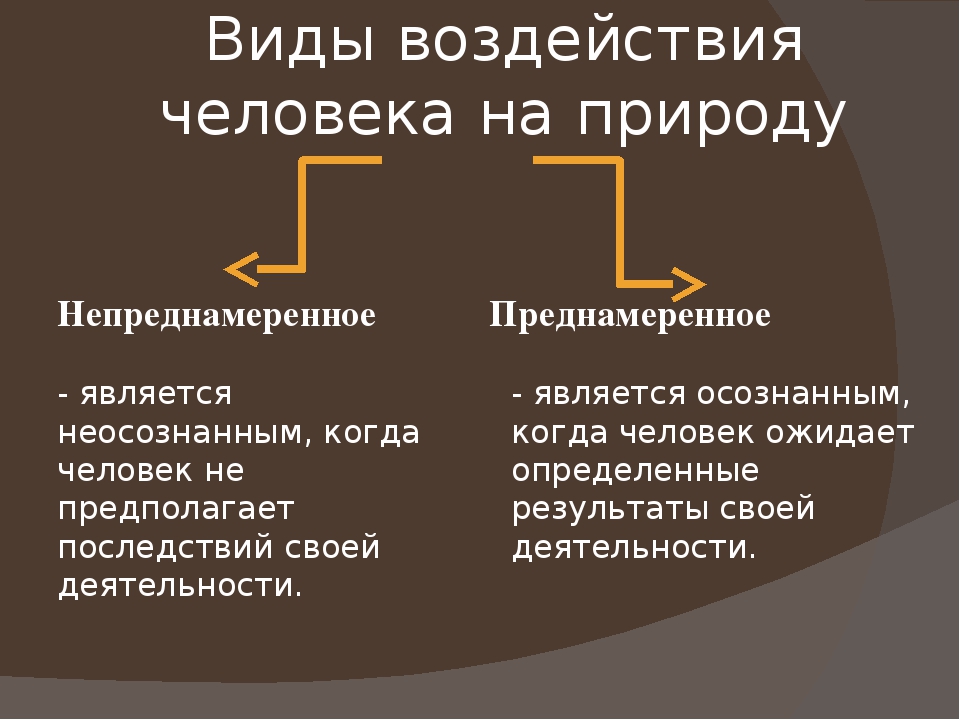 Анализируя отличие гётев-ской интерпретации существа науки от позитивистских ее трактовок во всём их разнообразии, К. А. Свасьян обоснованно приходит к выводу об актуальности методологии естественнонаучного исследования Гёте в XXI в. «.Без Гёте, без духа его, не обойтись там, где науку настигает память о том, что она есть понимание и что у нее есть совесть. Этого понимания и этой совести, чистой человечности, зиждущейся не на абстрактно гуманистических фразах, а на любовном знании природы, ей, при всех ее открытиях, будет недоставать до тех пор, пока она не обратится к самому Гёте и не разовьет духовные потенции Гёте своими более совершенными средствами» [7, с. 117].
Анализируя отличие гётев-ской интерпретации существа науки от позитивистских ее трактовок во всём их разнообразии, К. А. Свасьян обоснованно приходит к выводу об актуальности методологии естественнонаучного исследования Гёте в XXI в. «.Без Гёте, без духа его, не обойтись там, где науку настигает память о том, что она есть понимание и что у нее есть совесть. Этого понимания и этой совести, чистой человечности, зиждущейся не на абстрактно гуманистических фразах, а на любовном знании природы, ей, при всех ее открытиях, будет недоставать до тех пор, пока она не обратится к самому Гёте и не разовьет духовные потенции Гёте своими более совершенными средствами» [7, с. 117].
Утверждаемые Гёте единые принципы познания природы, культуры, человека на путях нового сближения науки и искусства могут быть предметом плодотворного изучения при разработке концептуального аппарата молодого раздела философского знания — экологической эстетики.
Литература
1. 1963-1966. Т. 1. 19б3. 540 с.; Т. 5. 19бб. 5б4 с.
1963-1966. Т. 1. 19б3. 540 с.; Т. 5. 19бб. 5б4 с.
2. Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. M.: Худ. лит., 1981. 687 с.
3. Гёте И.-В. Избранные философские произведения. M.: Наука, 1964. 580 с.
4. Гёте И.-В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 10. M.; Л.: ОГИЗ, 1937. 516 с.
5. Goethes Werke: 133 Bände in 143 Teilen I hrsg. im Auftrage der Grossherzogin Sophie von Sachsen. Weimar: Böhlau, 1887-1919. Bd. 49 (4). 1898. 482 S.
6. Goethe J. W. von. Naturwissenschaflichen Schriften: Miteinleitungen und Erlaeterungen im Text: 5 Bde. I hrsg. von Rudolf Steiner. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1982. Bd. 5. 724 S.
7. Свасьян К. А. Философское мировоззрение Гёте. M.: Evidentis, 2001. 220 с.
220 с.
Статья поступила в редакцию 5 марта 2013 г.
Конкурс о национальном торжестве «Знаток праздника Сагаалган» прошел в Бурятии
15.02.2021
С 5 по 16 февраля 2021 года региональное отделение РДШ республики Бурятия провели конкурс видеороликов «Знаток праздника Сагаалган». Целью конкурса является вовлечение учащихся в популяризацию, сохранение и развитие национальной культуры бурят.
В конкурсе приняли участие более 60 работ, участниками конкурса могли стать учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Бурятия.
Ребятам было необходимо подготовить видео о традициях праздника «Сагаалган» и выложить в социальной сети Вконтакте. Оценивался творческий подход, ораторское искусство, операторская работа. Презентация видеоролика могла быть на русском или бурятском языке.
Победители конкурса определялись экспертным жюри по наибольшей сумме баллов, полученной в результате экспертной оценки конкурсных материалов.
Итоги конкурса:
«Лучший индивидуальный видеоролик»:
Цыбиков Очир, 4 класс РБНЛИ №1 44б
Нимаев Никита, Баянгольская СОШ 39 б.
Иванова Ульяна и Очиров Евгений, . СОШ №31 г. Улан-Удэ 6″Б 39 б
Лучшие командные работы:
Хуртагинская СОШ 44б
Усть-Эгитуйская СОШ 43 б.
Баянгольская СОШ 9 класс 43 б.
Специальная номинация «Бэрхэшуул» (Молодцы):
РБНЛИ №1 8 класс 41 б.
Театральная студия «Феникс» СОШ №26 г.Улан-Удэ 37 б.
РБНЛИ №1 4 класс 36 б.
Баянгольская СОШ 3 класс 36 б.
Улюкчиканская СОШ 8-9 класс 33 б.
Победители получат памятные подарки от РДШ.
«Сагаалган — праздник Белого месяца является символом обновления человека и природы, а его идеалы мира, добрососедства, уважения к старшим разделяют представители всех национальностей.
Сагаалган начинается с первого весеннего новолуния. В отличие от обычного Нового года, который мы празднуем в полночь с 31 декабря на 1 января, Сагаалган наступает рано утром, сразу с восходом солнца. В это году Новый год по лунному календарю праздновался 12 февраля. На кануне празднования белого месяца буряты наводят чистоту в доме, обновляют одежду, избавляются от ветхих вещей. Таким образом, люди как бы прощаются с прошедшим, с тем, что ушло. Примерно в 4-5 утра буряты уже бодрствуют, а на рассвете приветствуют Солнце и вечно синее небо. Согласно преданиям, именно с рассветом, с восходом Солнца в каждый дом заходит божество — Палдэн Лхамо, покровительница Тибета, и подсчитывает всех, кто находится в доме. Считается, что Лхамо ведет подсчет только тех людей, кто бодрствует, кто проснулся, нарядился и готов встречать новый день. Если кто-то проспит, то не будет учтен божеством и соответственно упускает свою удачу на целый год. Чтобы узнать еще больше о нашем празднике предлагаем вам посмотреть работы участников Вконтаке по хештегу ЗнатокСагаалганРДШ», — поделился Баир Шобоев, координатор БРО РДШ.
Единство природного и социального бытия человека
Природное бытие человека представляет собой единый субстантивный мир, вписанный в целостность природы и выражает естественную порождённость человека и его непосредственную связь и близость всему сущему. Оно определяется как первоначальная сущность индивида; как то, что существенно для него с самого начала его происхождения. Природный человек, или индивид, выступает как морфологически замкнутый тип, обладающий статистическими характеристиками. В истории философии природу человека часто отождествляли с человеческой сущностью, осмысливаемой в различных противоречащих друг другу характеристиках человеческого бытия, несовместимость которых не позволяет найти некую общую «сущность» человека и, исходя из неё, однозначно установить единство и целостность его бытия. Сущность сводили к разумности и к бессознательно-либидным структурам, к моральности и воле к власти, символичности и практической деятельности, к игре и религиозности. Схоластика, например, усматривала в дуализме сущности и существования коренную раздвоенность и ущербность природного (сотворённого) универсума, снимаемых лишь в боге. В силу такой раздвоенности вещь не может представляться как самосущая, себе тождественная, ибо её существование детерминировано трансцендентным началом. Ф. Аквинский для осмысления догмата творения поставил сущность человека в зависимость от его существования, данного ему богом.
Существование и сущность человека тесно связаны, как связаны природное основание человеческого бытия и его ценностно-культурные формы, в созидании которых сущность проявляется и оформляется. Существование человека – это природное основание его сущности, которая раскрывается через многообразие специфически человеческих проявлений и воплощений и в своём самобытном существовании является неисчерпаемой. Существование есть реальный процесс жизнедеятельности людей, встроенности человека в связи и отношения мира, пребывания в пространственно-временных координатах, воспроизведения и участия в процессе жизни. Сущность указывает на то, что представляет собой бытие в своих качественных проявлениях.
Натуралистические школы абсолютизировали законы естественной необходимости и спроецировали их на высшие онтологические формы человеческого существования. Человек рассматривается ими как существо, жёстко детерминированное природными факторами, а сама природа выступает в качестве единственного и непогрешимого источника объективной разумности и закономерности, основополагающей причины всех целей и идеалов человека. Предполагается, что природа человека, его сущность не содержат в себе ничего специфического и в принципе отличного от объективных закономерностей и явлений внешнего мира. Под природой человека философы Нового времени понимали изначальную устойчивую структуру, из которой проистекают законы человеческого поведения и реагирования. Природа человека, по их мнению, есть совокупность врождённых свойств и способностей, обеспечивающих его жизнь в мире как телесного существа, подчиняющегося природным законам. Как сугубо природное существо человек полностью зависим от требований естественной необходимости. Человеческая природа, взятая сама по себе, как комплекс устойчивых, неизменных в своей основе черт, как ограниченная в форме своих проявлений, не подчиняется социокультурным различиям и оценкам: она ни добрая, ни злая; ни истинная, ни ложная; ни красивая, ни безобразная.
Натурализм сыграл большую роль в преодолении теологического воззрения на мир, поскольку полагал, что человеческая природа абсолютно одинакова у всех народов, во всех культурах и во все времена, и сама по себе самодостаточна, не нуждается в чём-то трансцендентном. Мысль о всеобщей закономерной связи человека и природы внушает отдельному индивиду чувство стабильности, устойчивости и содействует объединению всех людей в целостном мире природы. Только то знание, которое имеет свою твёрдую основу в общих законах человеческой природы, может быть разделено с кем-либо другим. Следствием из этой мысли является идея о том, что между интересами людей не может быть конфликтов и противоречий, поскольку то, что для одного составляет доброе и полезное, тем же является и для другого.
Натурализм составляет основу новоевропейского историцизма, согласно которому «разумность природы» обнаруживается в поступательном движении истории и развитии общества, а природные свойства человека являются конечным гарантом благости его «естественных устремлений». За всеми представлениями о природной обусловленности человеческого бытия, истории скрывается мысль о важности и сущностном значении природных законов, качеств и свойств для культурного развития личности. Фактически натурализм «построен на игнорировании того, что к бытийственным содержаниям, действительно превышающим горизонт человечески-земной истории (и в этом смысле над – историческим), можно добраться и приобщиться не иначе, как тщательно и последовательно прорабатывая всё конкретное богатство исторического бытия»1.
Натурализм как философская позиция по отношению к миру отождествляет всё сущее с телесной природой, отвергая понимание природы как части многоуровневого бытия. В конечном счёте, он редуцирует социальное к биологическому, изымает из философского знания традиционные метафизические проблемы, которые в силу их высокой абстрактности и надприродной сущности не могут получить окончательного решения. Адекватное описание человеческого бытия не укладывается в рамки способов детерминации, действующих в природном мире. Натуралистические теории определяют духовную жизнь человека как результат усложнения форм природного мира, но духовное развитие и моральное совершенствование человека не сводится к объективным процессам, поскольку принадлежат к иному уровню бытия и определяются не пассивным отражением природных импульсов, а требуют напряжения человеческой воли. Качественная идентификация социальных и природных процессов приводит к тому, что социальная реальность расценивается как чисто внешняя, объективированная по отношению к человеку сфера, в которой действуют внесубъектные природные ценности, которая является первозданной естественной основой и исходя из которой получают объяснения результаты человеческой деятельности.
Кант подверг критике натуралистические представления о человеке (хотя эта заслуга приписывается Дж. Муру). Специфика самодетерминации человека усматривается Кантом в его способности определять свои действия, руководствуясь разумом, в отличие от природной обусловленности поведения, когда человек подчиняется естественным чувствам, аффектам (как утверждали сторонники теории нравственных чувств). Кант стремится выявить качественное отличие социально-культурной организации от природной, показать специфику исторического, собственно человеческого бытия и обнаруживает её в разумной и духовно-нравственной природе человека. Подлинное бытие – это предназначение и долженствование, а не действительное положение вещей2. С этой точки зрения оказывается, что истинные характеристики человеческого бытия – свобода, выбор, верность себе – это не имманентные, присущие изначально человеку способности, а императив, который каждый ещё должен реализовать.
В современной западной философии преодоление представления о человеке, обладающем значимой первозданной природой, идёт не по линии рационализма или историзма, а путём лишения природы человека какой бы то ни было конкретной определённости. Наряду с натуралистическим и антинатуралистическим осмыслениями человеческой сущности, можно выделить ещё одно противопоставление: субстанциалистское и экзистенциалистское толкования человека. Для субстанциализма мир выступает как бытие в себе, как некая субстанция, которая лишь раскрывается человеку, а сам человек интерпретируется как модус субстанции с устойчивостью её качеств, безличной всеобщностью и поэтому доступный научному познанию. Главное возражение оппонентов субстанциализма заключается в том, что субстанция есть позиция всепронизывающего детерминизма, с точки зрения которого нельзя обосновать специфику собственно человеческого бытия, его творческую сущность, свободу и моральную ответственность. Например, экзистенциализм трактует человека как подвижную, открытую и уникальную реальность. По мнению Ясперса, человек является подлинной формой жизни, а не чем-то, «развившемся» из животного. «Человека нельзя выводить из чего-то другого, он – непосредственная основа всех вещей… Все виды зависимости в мире и все процессы биологического развития затрагивают как бы вещество человека, но не его самого»3.
Человек как социальное существо не противостоит природно-биологической форме своего существования, которая выступает в качестве предпосылки и основы его дальнейшего развития. «Человек является непосредственно природным существом. В качестве природного существа …он… наделён природными силами, жизненными силами, являясь деятельным природным существом; эти силы существуют в нём в виде задатков и способностей, в виде влечений…»4 Биологическое можно рассматривать как форму человеческого существования, которая в процессе развития наполняется социальным содержанием. В процессе их взаимодействия биологическое выступает как начало консервативное, ограничивающее возможности человека: по целому ряду параметров адаптивные способности человека близки к исчерпанию (физические и психологические факторы связаны с загрязнением среды обитания, увеличением нервных нагрузок, стрессовых ситуаций).
Конечной целью всех многосложных реакций человека является самостабилизация (то есть поддержание внутренней среды организма в равновесном состоянии), достигаемая посредством негативных обратных связей, которые элиминируют возмущения среды. Этот принцип, названный гомеостазисом и свойственный всем сложным саморегулирующимся системам (какой является и психофизическая система человека), заключается в поддержании существенно важных для сохранения системы параметров в допустимых пределах через абсорбирование возмущений среды, а также в противодействии поступающей из неё информации, нарушающей устойчивость основных элементов человеческого организма. Поддержание гомеостазиса происходит посредством удовлетворения природных потребностей и обеспечения психофизиологического благополучия, с которыми человек так или иначе соотносит свою деятельность и, исходя из которых, формирует свою социальную жизнь.
Природа играет большую роль в организации общественной жизни, поскольку представляет собой основание многообразных путей развития человека как социального существа, во многом зависящих от его природно-инди-видуальных задатков. Как основа бытия природа задаёт человеку определённые границы (их подвижность определяется его творческими усилиями), в рамках которых идёт поиск максимальных возможностей самоосуществления. Природное бытие человека имеет наивысшую модальность (необходимость и действительность), наиболее полную феноменальную проявленность и определённость и более узкую область возможностей, чем сфера духовного и культурного бытия. Человек прячется от трудностей свободного выбора и неразрешимых жизненных проблем с целью самовыживания в пространстве естественного существования, не предполагающего существенных усилий и претензий на особую духовную субъективность.
Многие философы считали, что природа является образцом для истинной деятельности человека, ведь она во многом определяет характер человеческого поведения. По мнению Э. Кассирера, вслушивание в «голос земли», неосознанное подражание животным, более прочно укоренённым в природе, помогло человеку приспособиться к окружающей среде, выработать определённые формы бытия, системы смыслов и ориентиров, дополнить природную «не-достаточность» культурными способами жизнеустройства. Вещественная укоренённость и природная инкорпорированность человека сочетаются с чрезвычайной пластичностью его натуры, способной адаптироваться к постоянно изменяющейся среде5.
Парадоксальность связи человека со своим непосредственным природным началом заключается в том, что принимая и используя его как необходимое жизненное условие, человек стремится не только познать свою натуру, но и встать над собственной природой, преодолеть её через социализацию и приобретение высших духовных качеств. Всякое природное свойство индивида оказывается социально преобразованным; воспитательный процесс, осуществляемый обществом, направлен на ограничение и трансформацию его природных импульсов. Теория «обществен-ного договора» акцентирует внимание на утилитарном подходе общества к природным задаткам человека: оно подавляет те формы, которые угрожают его существованию и использует те, что способствуют социальным целям.
Социальное выступает в качестве фундаментальной основы детерминации всех важнейших форм проявления жизни, преобразующей природные связи в специфически человеческие, культурные отношения. Даже простейшие человеческие акты (прямохождение, формирование языка, использование орудий труда) носят социальный характер и являются результатом развитого культурой потенциально богатого природного материала. Законы природного бытия проявляют себя в человеческой жизни опосредованно, в различных превращённых формах. Взаимодействие социального и биологического бытия никогда не может считаться законченным и выступать в завершённой форме. Их единство состоит в бесконечном наполнении биологического социальным содержанием, в опосредовании и преобразовании природного общественными формами, поскольку человеческие предметы не являются природными в том виде, как они непосредственно даны в природе. Биологические структуры и функции под воздействием социальных факторов (в частности, трудовой деятельности) претерпели модификацию и достигли более высокого уровня развития, нежели у представителей животного мира. Они «очеловечились», стали социализированными и уже не выступают в «чистом» виде. Через человека происходит одухотворение природного мира, в человеке пересекаются все круги бытия: в нём встречаются и дополняют друг друга культура и природа. «…Природа с господствующим в ней слепым интеллектом или инстинктом, – писал С. Булгаков, – только в человеке осознаёт себя, становится зрячею. Природа очеловечивается, она способна стать периферическим телом человека, подчиняясь его сознанию и в нём осознавая себя. В этом смысле человек есть центр мироздания…»6
Человек никогда не сталкивается с природой один на один; отношение человека к природному миру всегда опосредуется его отношением к обществу, его социальными навыками, умением, знаниями, почерпнутыми им из общей кладовой социально-исторического опыта человечества. Приращение в человеке сверхбиологического состоит в том, что появляются функции сугубо социальные (труд, сознание, язык, мораль) и происходит социализация биологических черт и свойств. Человеческие биологические органы чувств воспринимают внешний мир с точки зрения социальных ценностей. Биологическое начало социализируется в человеке в том смысле, что человек развивает и направляет свои природные качества в русло потребностей социальной жизни. Социальное, преобразуя биологическое с учётом индивидуальных задатков человека, определяет его целостную интегральную природу. Уровень развития общества во многом зависит от того, насколько оно предоставило человеку возможность гармоничнее и полнее раскрыть свои положительные природные свойства.
В собственно человеческих, то есть ценностно-ориен-тированных, действиях, следующих нормам, правилам и отличающихся от целенаправленных поведенческих актов других представителей природного мира, всегда присутствует некая установка на то «как должно быть», в них наличествует элемент долженствования, констатирующий зазор между реальностью и идеалом. Протест против несправедливости или бессмысленности ситуаций человеческого пребывания в мире есть ясное выражение неприятия существующего фактического положения дел, потому что с точки зрения выработанных человечеством принципов этого «не должно быть». Духовно-нравственное развитие человека – это социальный процесс, не имеющий какой-то биологической детерминированности; у низших животных можно обнаружить различные чувства, впечатления, любопытство, внимание, память, но морально-нравственные задатки стыда, совести или долга у животных отсутствуют. Человечество создало систему табу как основу социальных норм и обеспечило возможность коллективной памяти и, следовательно, общественного развития.
Биологическое в человеке предстаёт не как параллельный и абсолютно автономный по отношению к социальному бытию мир, а располагается в самой сфере социального как его исток и фундаментальная основа. Природа выступает в качестве начального уровня иерархического бытия человека, который заключает в себе необходимые естественные свойства, являющиеся одновременно и частью природы и её высшим продуктом. «Человеческая сущность природы существует только для общественного человека; ибо только в обществе природа является для человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его для другого и бытием другого для него, жизненным элементом человеческой деятельности; только в обществе природа выступает как основа его собственного человеческого бытия»7. Человек созидает культурный и социальный мир на природном ландшафте, выступающим его матрицей, местом действия и материалом опредмечивания духовных актов, поэтому прелиминарное исследование природного бытия человека имеет существенное значение для осмысления его целостности.
Конечная цель всех философских вариантов всеобщей эволюции и антропогенного преобразования мира состоит в формировании нового типа человека, не ограничивающегося своей телесностью и стремящегося к гармонии с собой и окружающим миром, а общий мотив их заключается в стремлении рассматривать человеческие проблемы в контексте эволюционного миропонимания, что требует целостного осмысления человеческого бытия. Только через познание природных законов и естественных форм существования вещей человек сможет целостным образом использовать свои природные сущностные силы и развивать технологические средства освоения мира, но этот процесс должен контролироваться высшими познавательными практи-ками при приоритете духовно-нравственных структур бытия. «Социальный феномен – кульминация, а не ослабление биологического феномена», – полагал Тейяр де Шарден8. Природа для человека является исходным пунктом существования, над которым надстраивается мир культурных форм и различных многоуровневых образований (норм, ценностей, символов), содержащих в себе нечто иное, чем биологические формы бытия. Человеческий универсум способен развёртываться в более целостную систему за счёт расширенной ценностной ассимиляции всего природного. Природный мир включается в сферу притяжения социума и выделяется как особый целостный мир под воздействием развития цивилизации и форм человеческой деятельности.
Одной из причин нарастающего драматизма в истории человечества является преждевременная, репрессивная, искусственно фиксирующая естественный ход событий активность, которая приводит к деформации целостности человеческого бытия и универсума. Это проницательно было замечено даосами, которые своим учением о недеянии пытались предохранить человека от насилия над природой. Даоские мудрецы едва ли не самыми первыми поставили вопрос о цене познания, результаты которого могут быть использованы во зло. Интенции рационального компонента субъективности, не опосредованные ценностными, нормативными формами, способны нарушить гармонию мира, а знания, превышающие объём и качество человеческой практики, не подкреплённые духовно-нравственными факторами, чреваты опасностью хаотизации внешнего и внутреннего миров. Не случайно в глубокой древности некоторые виды полученных знаний табуировались или передавались из поколения в поколение жрецами. Практика утаивания ими особо значимых знаний о человеке и мире таит в себе стремление сохранить человеческую общность и целостность человеческого духа и бытия. Результатом метафизической рефлексии и стал идеал недеяния, содержащий в себе идею отказа от активного вмешательства в естественные процессы Вселенной и тем самым поддерживающий гармонию мира.
Под влиянием активного вмешательства человека в окружающую среду в ней происходят соответствующие изменения, частота и степень воздействия которых кардинально меняется в пределах жизни одного поколения. И поскольку общество не успевает отреагировать на эти изменения адекватным образом, не успевает адаптироваться к новой ситуации, оно воспринимает это как глобальные проблемы, как конфликт локальных и универсальных структур, как исчезновение базовых ценностей цивилизации, размывание естественного пространства обитания человека. Проблема взаимодействия человека со сложными природными системами вынуждает рассматривать ситуацию и положение человека как требующих постоянного анализа и корректировки, учёта логики и характера человеческой деятельности. Возможность человека участвовать в эволюционном процессе определяется его способностью модифицировать свою позицию, творчески перерабатывать средства контакта с окружающими системами.
Общество ещё не успело обрести универсальное единство и целостность, но уже обнаружило, что порождённая им технология приобрела сверхглобальный характер, негативно влияющий на процессы его дальнейшего развития, и человеку в этой ситуации предстоит вести себя предельно осторожно, чтобы не спровоцировать социоприродную катастрофу. Человек, утративший свою сакральную целостность в обществе, практикующем по отношению к нему в основном репрессивные технологии, утверждается во внешнем мире через жестокое и антигуманное обращение с более слабыми и зависимыми от него объектами его действий, среди которых природа оказывается самым незащищённым. В природном универсуме человеческое предстаёт своими деперсонифицированными формами, а само природное становится инобытием отчуждённых качеств человека.
Многие современные философы высказывали озабоченность результатами современного научно-технического прогресса и непомерного вмешательства человека в природные процессы. М. Хайдеггер видел причину глобальных проблем в самой сущности человека, относящегося к природе как к материалу для удовлетворения своих потребностей, а к технике – как к средству раскрытия природных тайн. Техника, по его выражению, есть чучело человека, деятельность которого полностью просчитывается и контролируется. «…Сейчас под угрозой находится сама укоренённость сегодняшнего человека»9. Тоталитарный общественный строй есть следствие необузданного господства техники. Современный человек подвержен безумию своих произведений. «Существо техники грозит раскрытию потаенного, грозит той возможностью, что всякое раскрытие сведётся к поставляющему производству и всё предстанет в голой раскрытости состоящего в наличии»10. Техника всё глубже проникает в предметное бытие человека, функционируя по чуждым человеческой сущности законам. Способ преодоления последствий цивилизации заключается не в ограничении и обуздании технического прогресса, а в изменении технологического мировоззрения.
Классическая наука в изучении природных систем исходит из абстрактных объектов и схем человеческого мышления, чётко различая модели и процедуры человеческого измерения природы и природу как объект анализа. Приписывание предметам природы свойств человека происходит не непосредственным образом и не в прямом контакте, а опосредованно – через абстрактно-социальные формы; выражается косвенно – через инструменты и формы деятельности людей, опредмечиваемые в технических системах и машинах. В настоящее время формируется тип мышления и познания, совершающий процедуру своего рода деонтологизации человеческих форм бытия, когда находится достаточно определённая сфера, в которой человеческие модели выступают важнейшим инструментом эффективного взаимодействия.
Несмотря на то, что преобразованная человеком природная реальность интегрируется в систему социальной деятельности и приобретает надприродные, социетальные свойства, меняется лишь феноменологический пласт её бытия, но не существенные связи и отношения, которые неподвластны человеку. Природа всё более превращается в один из социокультурных элементов, и для своего поддержания требует разумного участия общества. Человек выступает в качестве одной из переменных экологической системы; от «качественной» деятельности людей во многом зависит сохранность природных структур и усовершенствование различных подсистем общества. Интенсификация личностной самореализации индивидов оказывается важным ресурсом в свете решения глобальных проблем: человек должен найти необходимый баланс различных структур и основание для их эффективного равновесия.
Структуры и формы человеческой деятельности проецируются на природные объекты, человеческие качества воплощаются в природном материале и предметы, создаваемые людьми, приобретают социальные качества. Эти созданные человеком предметы оцениваются не по их природным свойствам, а по качествам воплощённой в них человеческой деятельности. Человек живёт в созданной им самим техногенной среде, без существования которой он уже не может обходиться, что ставит его в зависимость от этой среды, трансформирует его потребности и заставляет в определении своего бытия руководствоваться в основном логикой практической адаптации. На основе связи природных и социальных форм он строит свои разумные отношения с миром. Человек относится к внешнему миру сквозь призму своих интересов и потребностей, он контактирует с природой опосредованно – через язык, схемы мышления, системы норм, и воспринимает её с точки зрения культурных ценностей. Предметы природного мира, которым придаются качества социальности, существуют и проявляются различным образом: кусок угля на земле, в руках художника или в печи – это один и тот же и вместе с тем различный по своим функциям и формам существования предмет.
Внешняя природа в целом – безграничное и непреходящее бытие, осваиваемое человеком частично, в силу своих возможностей и проектов. «…Природа является действительной природой человека; поэтому природа… есть истинная антропологическая природа»11. О природной идентификации и целостности природного бытия человек судит на основании общечеловеческого социально-исторического опыта. Мир произведённых человеком вещей представляет собой единство природного материала, с которым человек должен сообразовывать свои замыслы и цели, опредмеченных идей и форм деятельности индивидов и социального предназначения данных предметов.
Проблема соответствия форм человеческой деятельности формам бытия природы в настоящее время решается на пути различения и взаимной конкретизации этих сфер, на пути осмысления человеком границ собственной деятельности, что обеспечивает возможность плодотворных взаимодействий с внешним миром. Речь идёт об оптимизации общественных механизмов экологизации и преодолении противоестественного отрыва социальной формы движения от её природной основы; о разработке и реализации экологического алгоритма социального и технического прогресса, моделировании эффективного и целесообразного производственно-технического аппарата будущего. Всё бóльшее значение приобретает тема преодоления стандартного одномерного представления о вечных законах природы, на смену которому приходит представление о совокупности разнообразных и самобытных природных систем. Соизменение природных и социальных систем порождает актуальную проблему самоизменения общества, от решения которой зависит сохранение его неизменных устойчивых форм и поддержание жизненной определённости. Способность к самоизменению является важным свойством социального целого (и индивида как его неотъемлемого элемента), обеспечивающего возможность сохранения устойчивости его бытия, соизмерения человеческих способов и форм деятельности с природными и социальными процессами.
Присутствие нравственных начал в деятельности учёного и политика обусловлено чувством ответственности, которое может укрепиться благодаря проективной способности человеческого сознания в антиципации возможных последствий своих действий. «Свободные» действия человека в мире, породившие глобальные проблемы, заставили изменить саму картину мира, в которой на первый план выдвигается ответственность, связанная не столько со свободой, сколько с нормами и функциями демократического общества. «Жизнь может быть осознана только в конкретной ответственности. Философия жизни может быть только нравственной философией»12. Появление ряда глобальных проблем существенно изменило жизненный контекст человеческого бытия и привело к необходимости выработки различными социальными системами согласованных представлений о ценностях, правах и свободе человека, на основе которых возможно создание планетарной этики.
Таким образом, решение экологической проблемы связано с ограничением социальной инерции экстенсивных типов деятельности, с согласованием полиморфных моделей мира, определением режима их взаимодействия, условий обновления, с соразмерностью видов деятельности людей и способов репродукции природных комплексов. Важнейшим фактором формирования и определения моделей, организующих взаимодействие человека и природы, является способ бытия природной реальности, её состояние и конкретный характер отношения субъекта и объекта, что в свою очередь оказывается существенным моментом воспроизводства самого субъекта, самоизменения социальных индивидов.
Эффективное решение глобальных проблем (в частности, экологической) во многом зависит от акцептации идеи всеобщей ответственности, присущей целостному человеку, эффективное участие которого в эволюционном процессе определяется его способностью творчески перерабатывать средства контакта с окружающими системами, превращать развитие опредмеченных сил науки и техники в условие собственного саморазвития. В этом направлении открывается возможность оптимизации и гуманизации соотношения природных и социальных систем и формирования целостного человека.
1 Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб.: РХГИ, 1997. С. 60.
2 Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. СПб.: Наука, 1995. С. 65–66.
3 Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С. 448.
4 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 162–163.
5 Кассирер Э. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии: Сборник переводов. М.: Прогресс, 1988. С. 28–29.
6 Булгаков С. Н. Философия хозяйства // Булгаков С. Н. Соч.: В 2 т. Философия хозяйства. Трагедия философии. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 133.
7 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 118.
8 Тейяр де Шарден. Феномен человека. М.: Наука, 1987. С. 178.
9 Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге. М.: Высшая школа, 1992. С. 106.
10 Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 237.
11 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 42. С. 124.
12 Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 124.
Конкурс о национальном торжестве «Знаток праздника Сагаалган» прошел в Бурятии
<img alt=»Конкурс о национальном торжестве «Знаток праздника Сагаалган» прошел в Бурятии» src=»/wp-content/uploads/2021/02/bf07f22c960ce1a3779af4000ebe3a0a.jpg» style=»display:block;margin: 0 auto;» />
15.02.2021
С 5 по 16 февраля 2021 года региональное отделение РДШ республики Бурятия провели конкурс видеороликов «Знаток праздника Сагаалган». Целью конкурса является вовлечение учащихся в популяризацию, сохранение и развитие национальной культуры бурят.
В конкурсе приняли участие более 60 работ, участниками конкурса могли стать учащиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений Республики Бурятия.
Ребятам было необходимо подготовить видео о традициях праздника «Сагаалган» и выложить в социальной сети Вконтакте. Оценивался творческий подход, ораторское искусство, операторская работа. Презентация видеоролика могла быть на русском или бурятском языке.
Победители конкурса определялись экспертным жюри по наибольшей сумме баллов, полученной в результате экспертной оценки конкурсных материалов.
Итоги конкурса:
«Лучший индивидуальный видеоролик»:
Цыбиков Очир, 4 класс РБНЛИ №1 44б
Нимаев Никита, Баянгольская СОШ 39 б.
Иванова Ульяна и Очиров Евгений, . СОШ №31 г. Улан-Удэ 6″Б 39 б
Лучшие командные работы:
Хуртагинская СОШ 44б
Усть-Эгитуйская СОШ 43 б.
Баянгольская СОШ 9 класс 43 б.
Специальная номинация «Бэрхэшуул» (Молодцы):
РБНЛИ №1 8 класс 41 б.
Театральная студия «Феникс» СОШ №26 г.Улан-Удэ 37 б.
РБНЛИ №1 4 класс 36 б.
Баянгольская СОШ 3 класс 36 б.
Улюкчиканская СОШ 8-9 класс 33 б.
Победители получат памятные подарки от РДШ.
«Сагаалган — праздник Белого месяца является символом обновления человека и природы, а его идеалы мира, добрососедства, уважения к старшим разделяют представители всех национальностей.
Сагаалган начинается с первого весеннего новолуния. В отличие от обычного Нового года, который мы празднуем в полночь с 31 декабря на 1 января, Сагаалган наступает рано утром, сразу с восходом солнца. В это году Новый год по лунному календарю праздновался 12 февраля. На кануне празднования белого месяца буряты наводят чистоту в доме, обновляют одежду, избавляются от ветхих вещей. Таким образом, люди как бы прощаются с прошедшим, с тем, что ушло. Примерно в 4-5 утра буряты уже бодрствуют, а на рассвете приветствуют Солнце и вечно синее небо. Согласно преданиям, именно с рассветом, с восходом Солнца в каждый дом заходит божество — Палдэн Лхамо, покровительница Тибета, и подсчитывает всех, кто находится в доме. Считается, что Лхамо ведет подсчет только тех людей, кто бодрствует, кто проснулся, нарядился и готов встречать новый день. Если кто-то проспит, то не будет учтен божеством и соответственно упускает свою удачу на целый год. Чтобы узнать еще больше о нашем празднике предлагаем вам посмотреть работы участников Вконтаке по хештегу ЗнатокСагаалганРДШ», — поделился Баир Шобоев, координатор БРО РДШ.
«Заря молодежи» по материалам Российского движения школьников
Просмотров: 163
Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого. Уроки по творчеству Н.А.Заболоцкого в 11 классе
Урок 1. Человек и природа в поэзии Н. А. ЗаболоцкогоУрок 2. Урок внеклассного чтения по творчеству Н. А. Заболоцкого
Сопоставительный анализ стихотворений
«Гроза» Н. А. Заболоцкого и «Весенняя гроза» Ф. И. Тютчева
Урок 1.
Человек и природа в поэзии Н. А. Заболоцкого
Цели урока: познакомить учеников с основными вехами биографии Николая Алексеевича Заболоцкого; дать обзор его поэзии, остановившись на главных темах творчества.
Оборудование: портреты Н.А. Заболоцкого, фрагмент из художественного фильма «Доживем до понедельника».
На доске эпиграф:
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово…
Николай Заболоцкий.
Методические приемы: лекция с элементами беседы, анализ стихотворений.
Ход урока.
I. Лекция учителя
Напряженные философские и нравственные искания всегда были свойственны русской литературе. В русле этой традиции русской поэзии развивалось творчество Николая Алексеевича Заболоцкого (1903—1958).
Родился Заболоцкий в Казани, где его отец служил агрономом. Детство прошло в селе Сернур Уржумского уезда, оттуда и первоначальные впечатления русской природы. Учился он в реальном училище в Уржуме. Рано начал писать стихи. Как поэт сформировался к середине 20-х годов в Ленинграде, где он учился в педагогическом институте имени А. И. Герцена. Он активно включается в литературную жизнь. Вместе с Даниилом Хармсом, Александром Введенским, Игорем Бехтеревым и другими создает новую литературную группу — Объединение реального искусства (Обериу) . Заболоцкий выступил в качестве организатора и редактора Декларации «обериутов», где они заявляли, что их эстетические симпатии на стороне авангардного искусства. История «обериутов» занимает небольшой отрезок времени — с 1928 по 1931 годы.
В 1929 году вышла первая книга Заболоцкого «Столбцы». Поэт решительно не приемлет мещанской косности, ограниченности, подобно Маяковскому и Зощенко осмеивает советскую «дрянь» :
Восходит солнце над Москвой,
Старухи бегают с тоской:
Куда, куда идти теперь?
Уж Новый Быт стучится в дверь!
Младенец выхолен и крупен,
Сидит в купели, как султан.
Прекрасный поп поет, как бубен,
Паникадилом[2] осиян.
Прабабка свечку зажигает,
Младенец крепнет и мужает
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.
(Из стихотворения «Новый быт»).
Прямые лысые мужья
Сидят, как выстрел из ружья,
Едва вытягивая шеи
Сквозь мяса жирные траншеи.
И, пробиваясь сквозь хрусталь
Многообразно однозвучный,
Как сон земли благополучной,
Парит на крылышках мораль.
(Из стихотворения «Свадьба»)
Люди и вещи почти неотличимы друг от друга: «Графину винному невмочь // Расправить огненный затылок», «Мясистых баб большая стая / Сидит вокруг, пером блистая». Вещный мир порой более привлекателен, чем мир людей. Апельсины в лотке разносчика «как будто маленькие солнышки». И уж конечно более человечен мир природы.
Из стихотворения «Лицо коня»:
И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню. Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь!
Внешне детски-наивное, легкое стихотворение «Прогулка» (1929) приближается к философскому осмыслению природы, главной темы творчества Заболоцкого:
У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга.
Над прекрасными глазами
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеется, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
Лес качается, велик,
И смеется вся природа,
Умирая каждый миг.
«Столбцы» были встречены критикой настороженно и неодобрительно. Всем «обериутам» был вынесен приговор: «Это поэзия чуждых нам людей, поэзия классового врага». «Обериуты» еще могли печатать свои произведения в детских изданиях, но публичные их выступления прекратились. Они по-прежнему отстаивали условную логику нового искусства, раскрепощавшую творческие силы человека.
Годы интенсивного творчества прервали аресты. Как и у большинства бывших «обериугов», судьба Заболоцкого оказалась трагической: в 1938 году он был арестован по сфабрикованному обвинению («юродствуюшая поэзия Заболоцкого имеет определенный кулацкий характер») и несколько лет провел в лагерях и ссылке. В 1941 году Хармс и Введенский были арестованы и погибли в заключении.
После возвращения из ГУЛАГа в 1946 году Заболоцкий возвращается к своей излюбленной теме: родство природы и духовной жизни.
II. Чтение стихотворения «В этой роще березовой».
Читает заранее подготовленный ученик. Возможна демонстрация кадров из кинофильма «Доживем до понедельника», где герой поет песню на эти стихи.
III. Чтение и анализ стихотворения «Завещание»
В новых стихах Заболоцкого заметна эволюция поэтического стиля — отказ от демонстративной сложности, стремление к большей ясности. Пантеизм, ощущение божественного начала, пронизывающего все мироздание, всю природу, обостряется в поздних стихах. В «Завещании» (1947) он пишет:
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров…
Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я…
— Прочитайте стихотворение «Завещание». Какие традиции русской литературы продолжает автор?
(Произведений с подобным заглавием достаточно много в русской и уж тем более в мировой литературе, но это — одно из самых оптимистичных «завещаний». И все потому, что речь здесь идет не об ожидаемой смерти, как следовало бы предположить, а о бесконечной жизни, о непрерывном процессе метаморфоз, происходящих в бескрайнем мире.)
— Часть строк стихотворения перекликается со стихами Пушкина. Какими?
(В стихотворении заметна прямая перекличка с поэзией Пушкина: сходны образы природы в стихотворении «Вновь я посетил…» и в стихотворении Заболоцкого, на пушкинское «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Заболоцкий отвечает: «Покоя в мире нет». «Весь я не умру», — говорит Пушкин. «Я не умру, мой друг» — Заболоцкий. Последние строки стихотворения тоже напрямую соотносятся с Пушкиным:
О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.)
— Каков главный мотив стихотворения?
(Едва ли не центральный смысловой мотив лирики поэта — взаимные превращения людей и объектов животного и растительных миров. Мотив этот вполне традиционен для европейской натурфилософской поэзии, но под пером Заболоцкого он приобретает особенное звучание.)
— Какова особенность мотива взаимных превращений в лирике Заболоцкого?
(В художественном мире Заболоцкого происходит взаимосближение, взаимообогащение человека и природы. Здесь речь не просто об образном параллелизме, о сопоставлении происходящего в природе с тем, что творится в душе человека. Автор не только слышит природу, вглядывается в нее, примечает мельчайшие детали, но и включается в диалог с природой:
Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Старый ли дуб зашептался с сосной,
Или вдали заскрипела рябина,
Или запела щегла окарина,
Или малиновка, маленький друг,
Мне на закате ответила вдруг?
Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далеком краю, —
Ты, опалившая душу мою?
Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Утром и вечером, в холод и зной,
Вечно мне слышится отзвук невнятный,
Словно дыханье любви необъятной,
Ради которой мой трепетный стих
Рвался к тебе из ладоней моих…)
— Каково соотношение человека и природы в этом стихотворении?
(Человек и природа — явления одного порядка, они не противопоставлены друг другу, они вступают в перекличку. Все строфы начинаются одинаково, вопросом: «Кто мне откликнулся в чаще лесной?». Откликаются и дуб, и сосна, и рябина, и щегол, и малиновка, и «ты», любимая, к которой стих рвется из ладоней подобно птице. Все стихотворение пронизано дыханьем «любви необъятной». Вечен «отзвук невнятный» растворенной в мире любви.)
IV. Чтение и анализ стихотворения «Сентябрь»
Такая же щемящая любовь и нежность ко всему живому, что мы отмечали в «Завещании», встречается и в стихотворении «Сентябрь» (1957). Это стихотворение — пример одушевления пейзажа. Сын поэта Никита Заболоцкий писал: «В основе этого стихотворения — вполне реальные вещи: тарусская осень, девушка — дочь Наташа, жившие по соседству художники, душевное возрождение автора. Движение образов происходит на двух уровнях: на небе — от ненастной погоды к лучу солнца, на земле — от куста орешины к улыбающейся заплаканной девушке».
1. Учитель или один из учеников читает стихотворение
2. Комментарий учителя
Этот пробившийся сквозь дождевые облака луч солнца осветил куст орешника и вызвал у поэта целый поток ассоциаций — размышлений. Интересна диалектика развития образа-переживания (соотношение мотивов непогоды и солнца, увядания и расцвета, переход ассоциаций из сферы природы в мир человека и обратно).
Стихотворение повествует об осени, но общий колорит его весенний, оно пронизано красками расцвета, дышит ароматом юности. На наших глазах происходит удивительное взаимопревращение молодого деревца и девушки-царевны. Тонкое одухотворение пейзажа, спокойная, раздумчивая интонация, взволнованность и вместе сдержанность тона, красочность и мягкость рисунка создают обаяние этих стихов. Но дело не только в образно-живописной конкретике. Содержание стихотворения шире: его герои — природа и человек, торжество в жизни красоты, духовности, истинно гуманных, человеческих начал. Основная проблема творчества Заболоцкого — «человек и природа» — нашла здесь поэтическое воплощение и предстает в живом движении, отражении, взаимоперетекании этих образов друг в друга.
3. Беседа
— О чем это стихотворение? Кто изображен — орешина, «словно девушка», или девушка, «словно деревце»?
(Природа и человек уподобляются; неважно, кто именно изображается, важно впечатление, которое оставляет красота. Красота импрессионистична, мгновенна, постигается чувством, это красота намека, недосказанности.)
V. Чтение и анализ стихотворения «Некрасивая девочка»
Заболоцкий вглядывается в земную, обыденную жизнь и видит красоту этой жизни, иногда неявную для окружающих. Философско-эстетическая проблема — вопрос о сущности красоты — центральная в своеобразном стихотворном портрете «Некрасивая девочка» (1955). Поначалу перед нами возникают отдельные, реалистически воспроизведенные, даже как бы нарочито прозаизированные детали внешнего облика девочки, привлекшей внимание поэта.
1. Читаем стихотворение «Некрасивая девочка»
2. Комментарий учителя
Первая часть стихотворения и представляет своего рода портрет, жанровую зарисовку, незамысловатую сценку, действующие лица которой — «два мальчугана», гоняющие по двору на велосипедах, и их сверстница, «бедная дурнушка», в сердце которой, однако, живет «чужая радость так же, как своя…».
А дальше эта, казалось бы, простая фиксация внешних впечатлений переходит во второй части в активное авторское размышление по поводу увиденного. Стремясь представить в воображении будущее «некрасивой девочки», поэт выходит на новый уровень художественно-поэтического осмысления не только конкретной человеческой судьбы, которая — он верит — в конечном счете сложится счастливо, но и приглашает нас задуматься о нравственных, человеческих ценностях, о сути прекрасного.
Прелесть и обаяние этих стихов, раскрывающих «чистый пламень», который горит в душе «некрасивой девочки», в том, что Заболоцкий сумел показать и поэтически утвердить подлинную духовную красоту человека — то, что было постоянным предметом его размышлений на протяжении 50-х гг.
3. Беседа
— Как изображена героиня стихотворения?
— Как проявляет себя автор?
(Портрет девочки — это по ее внешности и одновременно ее внутренний портрет, портрет души, «охваченной счастьем бытия». Ей неведомы зависть и дурные чувства, чужую радость она переживает как свою. Поэт не просто сторонний наблюдатель, умиленный сочувствием некрасивой девочке. В его словах — надежда на силу человеческого сердца, способного перенести боль и обиду. Поэт замечает то, что «для иных мертво», — «младенческую грацию души». Стихотворение заканчивается развернутым вопросом — философским размышлением о главной эстетической, да и нравственной категории, красоте. Это размышление подключает стихотворение Заболоцкого к одной из важнейших тем искусства. Что есть красота и почему ее обожествляют люди? Ответ на этот вопрос для поэта ясен: красота — божественный дар добра и человечности, душевного изящества.)
4. Заключительное слово учителя
Критики писали об этом стихотворении Заболоцкого: «Идея «Некрасивой девочки» включает в себя мысль о гуманистической содержательности красоты и развивает, обогащает ее, связывая с принципом безудержного «счастья бытия», того счастья, которое рождается от слияния своего с общим счастьем, «чужой радостью» (А. Македонов, 1987). И еще: «Из поэтического размышления Заболоцкого в финале «Некрасивой девочки» следует лишь то, что красота бывает не только внешняя, но и внутренняя: грация души» (Вл. Приходько, 1988).
VI. Чтение и анализ стихотворения «Не позволяй душе лениться!»
И о душе — последнее стихотворение Заболоцкого, наполненное энергией, страстью к жизни, сильным чувством, воспринимаемое как завещание. Это стихотворение «Не позволяй душе лениться!» Стихотворение было опубликовано вскоре после его смерти в декабрьской книжке «Нового мира» за 1958 г. В нем, по-прежнему рисующем человека в соотнесении с природой и миром, особенно ощутимы трагические ноты и скорбные предчувствия, связанные с невозможностью осуществления столь многих планов и надежд.
1. Стихотворение читает учитель или заранее подготовленный ученик
2. Комментарий учителя
В этом стихотворении особенно значимо прямое обращение поэта к самому себе и собратьям по поэтическому цеху, объясняющее то состояние удивительного всплеска творческой энергии, который характерен для последних лет его жизни.
За строками стихотворения, звучащими на первый взгляд несколько декларативно и риторично, — нелегкий собственный жизненный опыт Заболоцкого, в судьбе которого слова «этап» и «бурелом» имели достаточно конкретное и более того — зловещее содержание. Но, конечно же, смысл этих жизненных и творческих препятствий, которые поэт сам выбирает себе для неустанного преодоления, шире и может быть отнесен ко многим и разным судьбам. В этом стихотворении, обращенном к собственной душе, нет назидательности — это выражение творческого кредо, подтвержденного опытом всей жизни.
VII. Итог урока
Н. А. Заболоцкий писал: «Человек и природа — это единство, и говорить всерьез о каком-то покорении природы может только круглый дуралей (…) Как могу я, человек, покорить природу, если сам я есть не что иное, как ее разум, ее мысль. В нашем быту это выражение «покорение природы» существует лишь как рабочий термин, «унаследованный из языка дикарей»
Домашнее задание
1. Выучить это стихотворение наизусть.
2. Сделать сопоставительный (письменно) анализ стихотворений Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» и Н. А. Заболоцкого «Гроза» («Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница…») 1946 г.
3. Индивидуальное задание: подготовить доклад о биографии М. А. Шолохова.
4. Сопоставьте стихотворения Н. А. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе» и стихотворение Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах». В чем, по-вашему, Заболоцкий согласен с Тютчевым, а в чем полемизирует с ним?
Урок 2.
Сопоставительный анализ стихотворений
«Гроза» Н. А. Заболоцкого и «Весенняя гроза» Ф. И. Тютчева
I. Слово учителя
Сопоставительный анализ поэтического текста позволяет выявить динамику развития литературы, взгляды художника слова на различные явления окружающего мира, вскрыть скрытый символический подтекст. Сегодня мы займемся этой работой и проанализируем два лирических произведений о природе — стихотворения о грозе Н. А. Заболоцкого и Ф. И. Тютчева.
Прежде чем мы приступим к анализу лирического текста, давайте вспомним, что стихотворение — это «сложно построенный смысл» и все его формальные элементы по сути есть элементы смысловые и они несут определенный смысл. Входя в ритмическую структуру лирического текста, значимыми становятся и те языковые элементы, которые в обычном употреблении его не имеют. А раз так, то это значит, что разные читатели не могут однозначно толковать один и тот же текст, что в свою очередь ведет к появлению многочисленных интерпретаций. Уверена, что сегодняшний анализ смыслов различных частей стихотворений и их сопоставление, анализ особенностей формы, по может развитию вашего читательского восприятия лирики. Наша задача на уроке — попробовать заметить различные смыслы стихотворений, выявить и интерпретировать особенности художественной формы.
Стиховедческая наука утверждает, что нет универсального «ключа» к любому стихотворению. Сегодня каждый из вас должен попытаться найти свой такой «ключ». Не бойтесь экспериментировать и ошибиться, так как даже самые подготовленные читатели не могут исчерпать до конца смысл лирического текста, в нем всегда остается какая-то загадка.
II. Проверка домашнего задания
Сопоставительный анализ стихотворений Н. А. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе» и Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах».
III. Сравнение стихотворения Н. А. Заболоцкого «Гроза» со стихотворением Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза».
1. Вопросы учащимся:
— Какая картина грозы вам кажется ярче, образней? Почему?
— Как вы понимаете символический образ «светлоокой девы»? В чем смысл обращения к мифологическим образам в стихотворениях Тютчева и Заболоцкого?
— Какими художественно-изобразительными средствам и пользуются поэты для воплощения своего замысла?
— В чем, по-вашему, Заболоцкий согласен с Тютчевым, а в чем полемизирует с ним?
— Как изменилось мировосприятие поэтов разных эпох, наблюдающих одно и то же явление — грозу, в чем сходство и различие изображенных картин?
2. Анализ «Весенней грозы» Тютчева
По мнению И. О. Шайтанова, Ф. И. Тютчев «мог откликнуться на любое событие природы и запечатлеть его».
— Вспомните, в чем особенности поэзии природы Тютчева?
(Она отражает многообразную жизнь природы, она для поэта живая, чувствующая, таинственная, единственная живая реальность в сравнении с мимолетностью человеческого существования.)
— Какова роль и место стихов о весне в творчестве Тютчева? Вспомните какие-нибудь из них.
(Это самые радостные, самые жизнеутверждающие произведения Тютчева («Весеннее приветствие стихотворцам», «Весенние воды», «Еще земли печален вид…», «Весна», «Зима недаром злится…», «Весенняя гроза». Причина такого расклада в том, что поэт любил жизнь, ощущал ее «переизбыток» разливающийся в природе с наступлением весны.)
— В сем символический смысл весны у Тютчева? Как этот смысл проявляется в стихотворении «Весенняя гроза»?
(Весна у Тютчева — символ обновления жизни и души человеческой. Его «Весенняя гроза» — это лирическое повествование об обновлении природы под воздействием стихийного природного явления впечатляющей силы — грозы. Картина грозы у Тютчева представлена не только словесными образами. Она полна движения (поток бежит, пыль летит), насыщена яркими красками (небо голубое, солнце нити золотит), звуками (гром, резвяся и играя, грохочет, гремят раскаты, не молкнет птичий гам, шум нагорный все вторит весело громам).
— С чего начинается стихотворение?
(Стихотворение, как это часто бывает у поэта, начинается с объяснения в любви: «Люблю грозу…» Далее рождается звук, который заполняет все пространство «Весенней грозы» — звук грохочущего грома.)
— Каково соотношение окружающего мира и грозы? Каково настроение стихотворения?
(Эта веселая гроза разражается в светлом мире Радостное, мажорное настроение стихотворения объясняется не только тем, что весеннняя гроза — шутка Гебы, которая, смеясь, пролила на землю «громокипящий кубок», но и тем, что она обновляет природу и душу человека.)
Четвертая строфа стихотворения пронизана идеей единства и одушевленности природы с мифологией:
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла…
— Какова форма построения стихотворения, если судить по этим строчкам? К каким выводам приходит поэт, наблюдая грозу?
(Стихотворение строится как разговор с невидимым собеседником. Поэт словно утверждается в божественности происходящего.)
Тютчеву свойственно обожествлять окружающий мир и тесно связывать явления природы с чувствами и мыслями человека. Ему, человеку, дороги гром, дождь, они стали предметом его размышлений, обобщений, сопоставления, другими словами — творчества.
— Каково значение мифологических образов в стихотворении?
(Они не только блестяще завершают сюжет о ливне, грозе, но и придают ему эпический размах. Четвертая строфа является одновременно сюжетной развязкой и мифологическая иллюстраций целого.)
Первый вариант «Весенней грозы» был опубликован в 1829 году и содержал всего три строфы. Не было второй строфы варианта, ставшего хрестоматийным. 25 лет спустя в «Современнике» «Весенняя гроза» была напечатана полностью, дополнена картиной дождя.
— Что изменилось с внесением правки в окончательный вариант стихотворения?
(Вторая строфа не только сделала изображение грозы более ярким, зримым, но и передала стремительность происходящего — «усилились зрительные впечатления. Дождь связал небо и землю. Пространство распахнулось по вертикали и стало зримым, вещественным. Движение сверху вниз стало отчетливее» (И. О. Шайтанов).)
— Какова роль человека в стихии и природе, если судить по этому стихотворению?
(Человек в его поэзии явился не наблюдать за природой, а переживать вместе с ней, соучаствовать в ее жизни).
3. Анализ стихотворения Н. Заболоцкого
Николай Заболоцкий, как мы уже знаем из предыдущих занятий так же помещает в центр своего творчества природу, человека, искусство. Интерес к природе формировался у Заболоцкого под влиянием идей К. Э. Циолковского[3]. Между поэтом и великим ученым велась переписка, в которой Заболоцким была высказана мысль о творческом, личностном преображении мироздания через слово, искусство.
— Вспомните, в чем основные задачи поэтического направления, которому принадлежал Заболоцкий?
(«Школа» Заболоцкого преследовала и высшие цели — привить человеку этическое отношение к мирозданию. Его поэзия распахивает перед нами забытые тайны нашего родства с миром. Заболоцкий писал, что природа полна загадок и человек может их разгадать. Он считал, что не только человек обучает природу, но и она его. Это отличает Заболоцкого от других поэтов природы.)
— Какова концепция природы у Заболоцкого?
(Концепция природы в процессе творчества менялась у Заболоцкого несколько раз. Наибольшей глубиной и содержательностью отличаются те стихи поэта, где пейзаж имеет психологические оттенки, философский подтекст. Природный мир часто ассоциируется с мифологическими образами, которые то начинают, то завершают стихотворение.)
— Какие традиции русской поэзии развивает стихотворение «Гроза»?
(Оно, как и «Весенняя гроза» Тютчева, тесно связывает природу и человека. Человек наблюдает это грандиозное природное явление и свое отношение к происходящему выражает точно так же:
Я люблю этот сумрак восторга…)
— Каково место лирического героя Заболоцкого?
(Лирический герой Заболоцкого не сторонний наблюдатель, он в центре мироздания, всецело захвачен великолепием зрелища, но личное отношение поэты выразили похоже: «Люблю грозу» — «Я люблю этот сумрак восторга».)
— Как показана природа в стихотворении? В чем близость к стихотворению Тютчева?
(Природа, как и у Тютчева, показана в движении: зарница пробежала, облачный вал шевелится, летит птица, стекает вода, травы падают, бегут стада, и даже слово катится в облаке белом.
Поэт передает звуки, подслушанные у природы, рисует выразительную картину дождя («сияющий дождь на счастливые рвется цветы») говорит о творческом вдохновении, пришедшем внезапно, неожиданно, подобно грозе.)
— И. И. Ростовцева пишет: «Гроза» и «Весенняя гроза» — два явления искусства, две эстетики. Их сближает ощущение мира в стихии, буре, грозе, непокое». Докажите мнение критика.
(Несмотря на явные сближения: тема, образы, краски, звуки — стихотворения Заболоцкого и Тютчева имеют немало различий. Гроза у Тютчева — конкретное природное явление «в начале мая». Силы природы у него неподвластны человеческому разуму: они таинственны, их происхождение божественно. У Заболоцкого все иначе: человек любит грозу за то, что она творит. Красота ее созидается в творческих муках, она рождает себя подобно тому, как рождается произведение искусства.)
— В чем различие соотношения человека и природы в анализируемых стихотворениях?
(Человек и природа у Заболоцкого слились неразрывно: «человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке», молния мысли, появление первых дальних громов — «первых слов на родном языке».)
— Оцените тему творчества у Тютчева и Заболоцкого.
(Тема творчества у Тютчева появляется только в последней строфе, у Заболоцкого она заявлена сразу — во второй строфе.)
— В чем схожесть и отличие мифологической темы в стихотворениях?
(И если в стихотворении Тютчева появляется мифологический образ Гебы богини вечной юности, то у Заболоцкого это просто символический образ красоты — «светлоокой девы» представшей «в дивном блеске своей наготы». Ее появление происходит на фоне разыгравшихся зарниц, молний, белых облаков, сияющего дождя. Дева — параллель грозе и вдохновенью, она рождена человеческим сознанием и грозовой природой. Это символ творчества и человека, объединивших свои усилия. В то же время это образ, обладающий властью над природой и словом.)
— Насколько различается поэтический язык авторов?
(О родстве языка Заболоцкого с Тютчевым свидетельствует лишь использование слова «сумрак», которое очень любил Тютчев, в метафоре «сумрак восторга». У Заболоцкого множество метафор, цель которых — показать тесную связь человека и природы. Поэтическая речь передает не только художественные образы, но и образы зрительные, слуховые, осязательные. Преобладание звонких согласных в строфе («Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница») передает раскаты грома, глухих и шипящих («Человеческий шорох травы, вещий холод на темной руке») — порывы ветра и шуршание травы. Свет и тень противопоставлены друг другу, поскольку гроза совмещает в себе нечто величественное и грозное одновременно.)
IV. Подведение итогов урока
Заболоцкий гораздо шире, чем Тютчев, вводит проблему творчества в искусство, ищет красоту в жизни и природе. По мысли поэта, искусство должно видеть красоту не в чем-то исключительном, а в самой обыкновенной жизни, где рядом с добром уживается зло, где люди терпят горе и радость, переживают любовь и смерть.
Так литературовед А. Павловский писал: «Заболоцкий соприкоснулся с Тютчевым лишь в том, что и он признал глубинные и не во всем еще познанные связи между Человеком и Вселенной… Соприкосновение с Тютчевым в том, что он тоже любил, боготворил и воспевал природу…».
Философия природы в публицистике Сергея Залыгина 1960-1990-х гг
На материале публицистики реконструируется система представлений С.П. Залыгина о природе в ее становлении от начала 1960-х до второй половины 1990-х: используя понятийный аппарат науки, С.П. Залыгин создает теоретическую картину, которая включает в себя представления о структуре и отношениях в природном космосе, разумности и познаваемости устройства бытия, соотношении детерминизма и казуальности природных процессов, фундаментальных законах природы, отношениях природы и человека. В ходе анализа устанавливается, что трансформация натурфилософии писателя идет от позитивистского и материалистического понимания природы — к ее объективно-идеалистической трактовке.
Philosophy of nature in the essays of Sergey Zalygin of 1960s-1990s.pdf Представления С. Залыгина о природе складываются еще в 1950-е гг.35 [1], но как целостная система оформляются с начала 1960-х гг. («Писатель и Сибирь», 1961). Осмысление природы в публицистике опережает художественное творчество писателя или идет синхронно с ним («Тропы Алтая», 1962). В дальнейшем натурфилософская концепция развивается и достраивается, во-первых, в социально-аналитических статьях, посвященных проблемам природопользования (отношения природы и социума)36; во-вторых, в теоретико-эстетических статьях и эссе (природа как предмет литературы)37. Характер осмысления природы у С. Залыгина во многом обусловлен профессиональной деятельностью. Как специалист-гидролог он опирается на понятия современного естествознания, апеллирует к воззрениям крупнейших русских ученых, работавших в сфере его научных интересов, — В.В. Докучаева38, А.И. Воейкова39, В.И. Вернадского40. Представления выражены преимущественно на уровне отвлеченных теоретических обобщений. Ключевая категория, лежащая в основе натурфилософской системы С. Залыгина, — «земля». Писатель исходит из ее многозначности: «Множество вещей и понятий, в том числе очень существенных, очень древних и устойчивых, можно выразить через это слово — земля» [2. С. 284]. Среди всех значений выделяются два основных: «почва» и «имя планеты». Писатель акцентирует их взаимосвязь, указывая на то, что именно наличие почвы отличает Землю от всех других планет и что в языках разных народов мира, в силу общего для человеческой цивилизации земледельческого прошлого, «.Земле, как планете, присвоено имя земли как суши, как почвы» [2. С. 284]. В представлении С. Залыгина, почва — особая сфера (оболочка) планеты, основа существования всего живого (органического), в том числе человеческого: «Тончайший слой земли облекает даже не всю сушу, а только — часть ее, составляет ничтожные доли процента от веса и объема Земли, но именно эти ничтожные доли взаимодействуют с Солнцем таким образом, что оказался возможным человек и человеческое существование, не говоря уже о многом другом, что мы включаем в понятие «природа»» [2. С. 285]. В рассуждениях о почве писатель ссылается на фундаментальный труд профессора В.В. Докучаева «Русский чернозем» (1883)41. По убеждению С. Залыгина, открытие роли почвы как «первоосновы жизни», совершенное ученым, переворачивает «тысячелетние устои естествознания», преодолевает разобщенность научных представлений о природе и позволяет сформировать ее универсальное видение как сложного динамического единства: «До того в мировой науке бытовало представление о трех мирах, существующих раздельно: животные, растения, минералы. Докучаев замкнул эти три мира четвертым — миром почв. Тем самым было обосновано великое единство всего царства природы» [3. С. 328]. Единство природы в картине мира С. Залыгина подразделяется на несколько сред («природных тел и сфер»). Во-первых, на живую (органическую) природу — «живое вещество». Во-вторых, неживую (неорганическую) природу, в которую включаются твердая геологическая материя (литосфера), поверхностные и подземные воды (гидросфера) (а также атмосфера и солнечная энергия). В-третьих, сферу почв (педосферу). «.Извечно впитывающая, вбирающая в себя и мертвые минералы, и живые организмы.» [3. С. 328], именно почва связывает биосферу и косные геологические среды воедино, регулирует процессы массопереноса (материально-энергетического обмена), тем самым обеспечивая условия воспроизводства и поддержания жизни, эволюции ее форм. Помимо уровней, доступных эмпирическому познанию (размерность которых соотносима с масштабами человеческого опыта и которые в совокупности могут быть определены как макромир), система представлений С. Залыгина о природе расширяется до масштабов микромира, с одной стороны, и мегамасштабов — с другой. Эти уровни возникают в публицистике еще в 1961 г. («Писатель и Сибирь»), когда писатель рассуждает об освоении («покорении») пространства человеком на современном этапе, расширении пределов человеческого существования в ходе научного познания мира. Микромир — реальность предельно малых объектов, не наблюдаемых непосредственно, — атомов, молекул, молекулярных структур вещества: в частности, писатель говорит о «пространственном построении молекулы», представления о котором складываются в работах А. А. Бутлерова42, расширяя научные представления о структуре материи. Мегамир — внеземная реальность огромных космических масштабов, сами законы пространственной организации которой кардинально отличаются от земных. Как указывает С. Залыгин, они были установлены теоретически еще в работах Н. И. Лобачевского43, а с первыми пилотируемыми космическими полетами (Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова) люди приблизились и к их опытному постижению. Микро- и мегамас-штабные уровни картины природного мира находятся на периферии рефлексии, в центре которой — макромасштабные формы, явления и процессы земной природы. Отношения между уровнями организации единого земного пространства (оболочками планеты) имеют системный характер. По С. Залыгину, природа «…комплексна в самом высшем и в самом органическом значении этого слова» [4. С. 305], — осмысляется как живая система (система органического типа), а не как механизм. Писатель аргументирует это, ссылаясь на идеи академика В.И. Вернадского, который «доказал неукоснительно: Земля — это единый живой организм» [3. С. 329]. Естественное состояние природных систем, как сложных комплексов различных факторов окружающей среды, — гомеостаз. Гомеостатическое равновесие природных систем определяет «общий круговорот», циклический закон вечного возвращения (сохранения) вещества, который обосновывает профессор А.И. Воейков, утверждавший, «…что Арал никогда не погибнет и не усохнет, так как он включен в общий круговорот: влага, испарившаяся с его поверхности, попадает на снежные вершины Гиндукуша («конденсатор»), которые питают реки, впадающие в Аральское море» [5. С. 342]. Различные оболочки планеты в совокупности составляют экосферу, пространство взаимодействия живых организмов, в том числе человека, и среды обитания. Осознание «шаткого равновесия», хрупкости природного баланса (упорядоченности) обращает писателя к осмыслению современной социально-экологической ситуации (и кризиса, заключенного в ней). С начала 1980-х гг. писатель говорит о «разумности» природы [6. С. 265]. Это качество понимается двойственным образом. Во-первых, природа представлена как субъект разума: он присущ природе как таковой, выступающей либо его носителем, либо вместилищем. При этом представления о некоем высшем разуме природы (бытия) — редуцированы, выражаются неконкретно, как интуитивное допущение (предположение). Это проявляется уже на грамматическом уровне, когда природа обозначается как субъект (действия). Во-вторых, природа выступает как объект разума. В этом значении разумность природы трактуется в позитивистском ключе, как ее упорядоченность: характеризуясь «порядком» и «строгостью», она оказывается постижимой для человеческого разума, доступной для анализа, отвлечения и синтеза. «Строго логическая система существования мира» [7. С. 8] доступна познанию в виде «законов природы», которые формулируются интеллектом путем обобщения ее устойчивых свойств и отношений. Познаваемость природы обусловливают несколько обстоятельств. Во-первых, определенность объекта, его материальная конкретность: «. научная цель всегда имеет отчетливые границы, а значит, всегда может быть установлена и сформулирована в виде того или иного, пусть очень существенного, но в конце концов все же более или менее частного закона природы — закона Ньютона, закона Паскаля и, наконец, периодического закона Менделеева» [8. С. 480]. Во-вторых, способность самого человека как субъекта познания к абстрактному мышлению. Например, С. Залыгин размышляет о способах освоения сознанием законов физического пространства. Как отмечает писатель, идеальные геометрические формы, отсутствующие в природе, вырабатываются в умозрении как отвлеченные представления о пространственных структурах мира, их образцы. Благодаря этому становится возможным постижение пространства, его измерение: «Как в природе: редко-редко мы встретим в ней, в очертаниях ее предметов и картин геометрическую фигуру — треугольник, четырехугольник, квадрат, разве только в микромире кристаллов, а между тем именно эти фигуры, как мне кажется, надежнее всего другого вживаются в мою память, в мои представления об очертаниях окружающего мира. Именно они являются для меня исходными элементами всякого пространства и пространственности» [8. С. 470]. В-третьих, познаваемость природы обеспечивает позиция человека (субъекта мышления и познания) in vivo, его изначальная соприродность, генетическая включенность в природный процесс: «.природа — это не только место действия, но и явление, это процесс, в котором мы участвуем» [9. С. 163]. Главный закон природы — «закон существования» [6. С. 255]. Это всеобщий закон, характеризующий природное бытие в целом, в отличие от «частных» законов, реконструируемых человеческим интеллектом путем расчленения целого природы на отдельные области познания. Несмотря на то, что и универсальный закон мироздания, и конкретные законы науки образуют в картине мира С. Залыгина единую типологическую систему, находясь в иерархических отношениях («частные» законы восходят к всеобщему), категория «закон» применительно к процессу существования наделяется более широким смыслом. Оно фиксирует не только объективный порядок, которому подчиняются все природные явления, но также несет значение долженствования — нормативные предписания и установления, регулирующие отношения природы. Так, в размышлениях 1980 г. о природе как пространстве витальных процессов (существования всего живого) природа трактуется как «некая праведность, без исполнения которой не может быть жизни, в том числе и жизни человеческой.» [6. С. 266]. Природа воплощает онтологический порядок, в котором для всего сущего предусмотрено свое исключительное место, а всему живому (включая человека) предписаны строгие правила поведения, соблюдение которых в силу всеобщей взаимосвязанности выступает условием общего существования. Таким образом, формируется идея онтологического детерминизма, согласно которой порядок заложен в природе априорно (объективно), а не постулируется человеческим интеллектом (как методологический принцип познания). Все формы детерминации, выраженные в «частных» законах природы, сводятся к одному, высшему закону, выступая как его частные проявления. Детерминизм природы в мировоззрении писателя приобретает универсальный характер, фиксируя жесткую предзаданность существования всех природных феноменов. Это объясняет императивные коннотации понятия «закон», используемого для обозначения высшей обусловленности природного бытия. Субъект предписания, источник всеобщей причины при этом пока остается неясным — либо им выступает сама природа как космос (порядок), либо некое трансцендентное начало мира. Происхождение высшего закона уточняется к началу 1990-х гг.: «.природа есть не только причина, но и закон, а всякое существование всегда подзаконно. Если нарушен закон существования, значит, и существования не будет» [10. С. 8]. Будучи «причиной» -источником и основой всякого существования, природа сама устанавливает собственные «законы» — правила, регулирующие отношения, связи между явлениями, что служит поддержанию порядка существования, его воспроизводству и стабильности. Представления С. Залыгина о природе складываются окончательно во второй половине 1980-х — 1990-е гг., приобретая вид строгой натурфилософской системы. В поздней публицистике писатель, во-первых, постулирует фундаментальные законы, объясняющие не только устройство природы, но и процессы ее становления, изменения и развития. Во-вторых, преодолевает однозначность представления о предзаданности природного бытия, вводя категорию случайности при осмыслении генезиса земной природы. В-третьих, впервые прямо ставится вопрос о предельных (абсолютных) основаниях бытия, благодаря чему снимается противоречие во взглядах на субъект (источник) разумного начала, заложенного в природном порядке (первопричина всеобщего существования): от позитивистского и материалистического понимания природы С. Залыгин приходит к ее объективно-идеалистической трактовке. Устройство природы, формы и способы ее бытия, концептуально осмысляемые в публицистике этого периода, подчиняются закону гармонии, которая определяется не только как способ существования, но и как его условие: «Природа гармонична, это бесспорно. Благодаря своей гармоничности она и существует» [11. С. 12]. Закон гармонии описывает, во-первых, внутренние свойства отдельных природных феноменов; во-вторых, отношения между ними. Еще в середине 1980-х гг. С. Залыгин говорил о том, что каждое природное явление воплощает баланс, согласованность между формой и содержанием — характеризуется завершенностью, цельностью и стабильностью (в отличие от человека -нецельного, незавершенного, нестабильного): «В окружающей нас природе каждый предмет — это гармония между содержанием и формой его воплощения, содержание дерева, или травинки, или животного полностью воплощено в его форме, разве только многовековая эволюция и приспособляемость может оказывать влияние на формы и отдельные органы этих существ.» [9. С. 165]. В аспекте внутренних отношений системы природы гармония проявляется в согласованности, соразмерности ее элементов (тел и сфер, отдельных объектов и живых видов), обеспечивает подвижное равновесие между ними в пределах допустимой нормы. Существование каждого элемента соотносится с существованием другого, которое, в свою очередь, выступает его мерой. Согласие между ними достигается путем взаимных ограничений, когда все неуместное, не способствующее или препятствующее общему существованию (нарушающее меру), исключается: «.гармоничность — это искусство ограничений, искусство отбрасывать все лишнее, все, что невпопад, все, что препятствует или будет препятствовать продолжению жизни на земле» [11. С. 12]. Этот — экологический — механизм для писателя иллюстрирует в первую очередь взаимодействие живых видов, которое развивается как сим-биотическое, тесное и продолжительное сосуществование на основе взаимо-адпации: «.жизнь — самый сложный в мире симбиоз» [10. С. 9]. Процессы изменений и развития природы как гармонии подчинены закону эволюции: «. природа от начала до конца эволюционна, на том она и стоит.» [10. С. 4]. В концепции писателя, эволюционное развитие, охватывая не только «живое вещество», но и объекты косной среды — геосферу в целом, осуществляется как «естественное усовершенствование». Логика эволюции (ее направление и последовательность) определяется самим порядком вещей и, в свою очередь, служит поддержанию этого порядка — достижению «надежного равновесия» [12. С. 214]. Поскольку каждый из природных феноменов внутренне гармоничен, как гармоничны и отношения между ними, на любом из этапов своей эволюции он предстает как завершенный (целостный и стабильный). При этом каждый этап развития является, с одной стороны, следствием, результирующим всех предшествующих, с другой — исходной точкой всего последующего развития (становления), процесс которого — бесконечный, незавершимый. Так, конкретные природные объекты (и их системы), определенные, устойчивые в своей форме в данный момент времени, рассматриваются как результат длительного становления: «. берега естественных водоемов — озер и морей -формировались тысячелетиями, прежде чем обрели свои очертания» [5. С. 340]. Эволюционный тренд процессов становления и развития природы обусловливает ее «предсказуемость» и «ясность» — прогнозируемость для человеческого разума: «Как часто приходится слышать о том, что мир непредсказуем и неясен. Отнюдь: мир ясен как стеклышко, неясны в нем только, и только, мы сами» [10. С. 7]. В публицистике 1990-х гг. достраивается понимание факторов познаваемости природы. Писатель отрицает индетерминист-ские подходы к ее осмыслению, но устанавливает индетерминизм человеческого (социального) существования, которое развивается революционным путем, стихийно, а потому предстает как неясное, недоступное для прогноза. Процессы становления природы, ее эволюционного развития осуществляются как постоянный переход возможного (потенциального) в действительное (актуальное). Заложенные в природе возможности детерминированы существующим порядком, который предшествует любому становлению и развитию как совокупность необходимых условий. Фактор случайности пока исключается, возможность отождествляется с закономерностью. По С. Залыгину, все, что есть в природе, существует уже потому, что возможно, поэтому не случайно, необходимо, предусмотрено: «Нечто может быть потому, что может быть.» [13. С. 107]. Это позволяет трактовать природу как «идеальный механизм самореализации», поскольку «. в ней нет неиспользованных возможностей и есть все, что только в ее условиях может быть (и нет ничего, чего быть не может)» [13. С. 106]. И закон гармонии, и закон эволюции — детерминистские, развивают концепцию, сложившуюся в публицистике С. Залыгина еще в 1980 г. («Литература и природа»). Одновременно с этим, по мере того как к середине 1990-х гг. складываются космогонические представления писателя, изначально жесткий, однозначный детерминизм в понимании природы частично преодолевается. Ключевой вехой здесь становится итоговый автобиографический очерк «Моя демократия» (1996), в котором С. Залыгин обосновывает гипотезу естественного и спонтанного генезиса природы, в том числе абиогенеза — самозарождения ее живых форм. Рассуждая о генезисе земной природы, писатель устанавливает определяющую роль в этих процессах фактора случайности. По утверждению С. Залыгина, жизнь в ее уникальных формах возникает на планете (как возникают и сама Земля, и сама Вселенная) в ходе случайного стечения обстоятельств: «Если бы Земля была меньше или больше по весу, чем она есть, на одну десятую, у нее была бы уже другая орбита, а значит, и другой климат, и другая атмосфера, а у живых существ, если бы они все-таки возникли, был бы другой состав крови, другой образ существования, другое мышление. Все иначе могло быть на Земле.» [14. С. 154]. Уникальная комбинация условий, сложившаяся произвольным образом, реализует многообразные формы обусловленности, которые в иных сочетаниях содержат потенциал бесконечного спектра направлений (сценариев) развития. Случай делает возможным «компромисс между бытием и небытием» — диалектическое единство противоположностей, бытия и его отрицания, наличия и отсутствия. Это составляет исходный момент зарождения природы, предопределяя гармонию как принцип ее устройства: «.вся природа построена на однажды найденном компромиссе между бытием и небытием, вся она — компромисс между всем и вся, что в ней существует» [14. С. 155]. В 1991 г. в поле рефлексии впервые включается область трансцендентного. Писатель вплотную приближается к иному, чем сложившееся к этому времени, пониманию движущих сил мироздания (разумного порядка природы): «Когда-то я думал, вглядываясь в природу, в ее пейзажи: вот я умру, а эта река, эти горы, эти луга и небеса, эти леса останутся после меня. Они ведь не что иное, как воплощение вечности на земле» [11. С. 10]. Категорией «Вечность» обозначается трансцендентное начало мира, бесконечное и неизменное, воплощенное в природе, но не свойственное ей имманентно. Факт существования вечности писатель определяет, во-первых, как объективный; а во-вторых, как вполне очевидный, вне зависимости от форм его концептуализации в культуре (религия, искусство, наука): «Теологи обозначают Вечность словом «Бог», атеист же этого обозначения не принимает, и только, но любая цивилизация, которая пыталась или будет пытаться осмыслить Вечность, ничего принципиально нового в это понятие не внесет. Главное открытие уже сделано: время и пространство Вечности бесконечны, и можно исследовать Вечность сколько угодно, принципиальных открытий все равно не будет.» [11. С. 17]. Вечность, воплощенная в пространстве и времени бытия, не доступна человеческому опыту непосредственно, как таковая, и открывается только через посредство природы: «. Земля, земная природа — вот единственный связист и посредник между нами, людьми, и Вечностью.» [11. С. 17]. «Приобщение» к Вечности, ее «чувствование» трактуется писателем как «.смысл нашего существования, его причина и назначение, его энергия. (А любая энергия неизменно приобщена к своему источнику)» [11. С. 17]. Вечность аккумулирует в себе потенциал всякого существования. Являясь его источником, она сама осуществляется в действительности путем взаимопревращения потенциальной энергии (существования) в энергию движения — как материального мира природы, так и духовного мира человека. Человек при этом понимается не как изолированная система, он черпает энергию своего существования из общего источника. Вечность, с которой человек связан таким образом, составляет основание («причину») человеческого бытия, определяет его цель («назначение») — устанавливает место человека (человечества) в реальности. Таким образом, именно в Вечности, трансцендентном начале мира, опосредованном миром природы, а не в самой природе теперь прослеживается происхождение разумного начала природы человека. Категория «разум» для обозначения первопричины бытия впервые используется в 1996 г.: «.налицо система природы, если же есть система природы — значит, есть и цель этой системы; если есть и система, и цель — значит, за этим стоит разум, и не только тот, который мы способны постичь, хотя бы и через понятие Бога, но и тот, который вне любого нашего разумения. Быть может, над разумом природы стоит еще некий разум, а над тем — еще и еще разумы, и они бесконечны так же, как бесконечна не только Вселенная, но и Вселенные» [14. С. 154]. Позицию писателя характеризует агностицизм, он отрицает всякую возможность познания абсолютного бытия, и может только предполагать его наличие («быть может»). При этом С. Залыгин так и не приходит, как, например, В. Астафьев и В. Распутин, к идее Бога (божественного сверхразума). Писатель видит в нем лишь символический (мифологический) образ, возникающий в истории культуры в ходе антропоморфного по типу мировосприятия и тем самым недостаточный для познания абсолютного начала мира в его подлинности. Признание наличия высшего разума, стоящего над бытием и составляющего его первопричину, означает отказ от представления о природе как самоорганизующейся системе (обладающей собственным разумом). Идея абсолютного разума согласует представления о детерминизме и казуальности бытия, снимает противоречие между ними. Случайное совпадение ряда независимых причинных процессов в точке времени и пространства, обусловившее абиогенез, оказывается неслучайным, обусловленным. Самозарождение, становление и эволюционное развитие природного мира по принципам гармонии предопределяет абсолютный разум, а сам этот процесс, трактуемый по-гегелевски, осуществляется как его самодвижение (саморазвитие). Объективно-идеалистическое представление о причинности бытия при этом усложняется. Писатель выражает близкие к буддистским представления о бесконечной цепи причинностей (когда над каждым разумом надстоит другой разум, выступающий для него как причина, и так — бесконечное число раз) и, соответственно, о бесконечной множественности миров (в которой Земля выступает одним из, уникальным, но далеко не единственным в своем роде миром). Абстрактно-теоретический подход к осмыслению природы в статьях и эссе С. Залыгина не исключает и выражения опыта ее непосредственного, чувственно-эмоционального восприятия, когда представления складываются не рациональным путем, а интуитивно. Если в первом случае в поле зрения писателя оказываются природа вообще, ее устройство и универсальные законы, осмысляемые на категориальном уровне, то во втором случае, — неповторимые (феноменальные) проявления (как правило, природы Сибири). Предметом рефлексии при этом выступают индивидуальные впечатления, «чувства и ощущения», вызванные различными состояниями природы, явлениями или процессами, разворачивающимися в пределах локальных природных пространств. Впечатления от природы (Сибири) характеризуются, во-первых, как невыразимые: «Я езжу по Сибири около сорока лет, вижу эту страну, кажется, чувствую, ощущаю ее и во времени, а все никак не найду слов и понятий, чтобы эти чувства и ощущения выразить» [2. С. 272]. Во-вторых, как неповторимые — так же, как неповторим их объект: «Пространство, беспредельность вызывают в нас особые, неповторимые чувства и ощущения. Это и какая-то созерцательность, и ощущение величия окружающего мира и гордости за этот мир, а более всего — чувство удивления» [2. С. 272]. Понятие «созерцательность», употребленное в неопределенном значении («какая-то»), как и другие — «ощущения», «гордость», «удивление», — ключевые, выражают опыт непосредственного (не опосредованного рассудком) отношения к природе, которая предстает сознанию как дорефлективная целостность. Априорные формы такого способа освоения реальности сознанием, обеспечивающие единство образа природы в восприятии (целостность впечатления), — пространство и время. В восприятии пространства сибирского Севера писатель переживает его физические характеристики — простор, безграничность, открывающие подлинные масштабы земного пространства в целом: «Позже я видел Сахару, Нубийскую пустыню, не раз видел «океан тайги под крылом самолета», многие моря — ничто не дало мне такого сильного впечатления простора земли, ее пространства, как тундра.» [15. С. 6]. В ощущении циклического времени природы ему открывается континуальность природного бытия, состояния которого, непрерывно сменяя друг друга, никогда не повторяются (вызывая то самое чувство удивления, о котором писатель говорил в 1961 г.). Например, оптические эффекты северных закатов: «Летний закат на Севере — это явление света во всех его возможных окрасках и оттенках, и оно продолжается пять-шесть часов. Потом солнце касается горизонта и тотчас же над горизонтом всплывает — начинается утро. Все это — каждые летние сутки совершенно заново, и даже в течение миллиардов лет существования Земли, наверное, не случилось двух одинаковых северных закатов» [15. С. 6-7]. Теоретическое мышление не противопоставлено индивидуальному опыту непосредственного восприятия природных феноменов. С одной стороны, оно следует за ним, анализируя и классифицируя объект (восприятия). С другой стороны, в ходе созерцания формируется наглядное представление о природе, которое наполняет реальным смыслом абстрактные представления, рассудочные категории, усваиваемые в процессе образования. Так, в эссе 1969 г. «Интервью у самого себя» С. Залыгин вспоминает случай, произошедший с ним во время производственной практики в техникуме. Сцена дождя, пролившегося на колхозное поле, открывает подлинное значение понятия земли (почвы) — как пространства становления и обновления жизни (обусловливая сильное желание молодого человека стать агрономом, способствовать живородящему началу земли): «День этот был июньский, с дождем, после продолжительной засухи, дождь был очень сильный, он застал меня одного среди огромного поля овса. На моих глазах овсы снова воспряли к жизни. Это произвело на меня то самое впечатление, которого я так долго ждал» [15. С. 4]. Личный опыт чувственно-эмоционального восприятия природы позволяет С. Залыгину судить о формах ее влияния на индивидуального человека, а теоретические представления — о способах и границах человеческого познания. В аспекте отношений природы и индивидуального человека природа осмысляется не только как часть объективной реальности его существования, но и как уровень реальности существующего (Э. Левинас), феноменологической реальности сознания. Поэтому отношение к природе, будучи неотъемлемой частью целого отношения к реальности, содержанием внутреннего опыта человека, выступает, с точки зрения писателя, одним из факторов формирования его личности и характера, а также «нравственной сущности»: «Отношение человека к окружающей природе — это уже и сам человек, это его характер, его душа и философия» [16. С. 125]. В этом качестве отношение к природе влияет и на все остальные отношения человека, в том числе его социальные отношения: «Мне всегда казалось, что отношение человека к природе сказывается и на отношении этого человека к другим людям, к обществу» [15. С. 13]. Процесс познания природы описывается как двунаправленный (амбивалентный). Познание природы человеком одновременно является и самопознанием, а познание себя, своего места в мире (как природного, социального и индивидуального существа) — познанием природы: «Познавая природу, человек познает себя. И наоборот» [15. С. 13], — соотносится с природой как микрокосм с макрокосмом, выступает подобием Вселенной, отражая ее в себе. Кроме того, природа выступает и условием самопознания, поскольку соотносится с социальным (реальностью повседневного существования) как вечное с преходящим: «Вообще на природе человек гораздо больше и глубже размышляет о себе, о человечестве, чем в повседневных заботах и тревогах» [15. С. 14]. В рамках рефлексии социально-экологических отношений природа определяется, во-первых, как внешняя среда существования человечества, совокупность условий его жизнедеятельности, а во-вторых, как источник ресурсов (почвенных, водных, лесных и минеральных), в которых человек нуждается как биологическое существо. «Величайшая природная ценность» определяется не этически, а практически. Взгляды С. Залыгина на природу в этом аспекте изначально противоречивые. Здесь писатель говорит о несовершенстве устройства природы — случайности сочетания элементов в пределах разных ландшафтов, что предполагает преобразование. В 1950-е гг. С. Залыгин выражает мысль о необходимости создания новой науки — «архитектуры природы», которая, учитывая «бытовые нужды людей» и их «эстетические потребности», должна создать «ансамбль из воды, полей, гор, лесов, подобно тому, как создает ансамбль города архитектор», «осуществить принцип, высказанный еще В.В. Докучаевым о выработке для разных природных зон правильного соотношения между водой, сушей и лесом» [17. С. 32]. Технократические идеи овладения материальным миром, его радикального преобразования, связаны с утопизмом мышления писателя и преодолеваются в ходе формирования представлений о природе как разумном порядке (космосе), в котором предусмотрено место человеку, следовательно, предусмотрено не только использование им ресурсов природы для обеспечения своего существования, но и участие в органических процессах. Тысячелетняя технология возделывания земли способствует ее собственным витальным процессам. Данную цель, по С. Залыгину, преследует и преобразование — «коренное улучшение земель», сельскохозяйственная гидромелиорация: «Что делает мелиоратор-гидротехник? В конечном счете только то, чего не сделала в каком-то месте природа, — создает водосток для подачи воды или для отвода ее» [4. С. 291]. В качестве примера приводится деятельность И.И. Жилинского44, который «.помогал природе там, где она не справлялась с «делом», поддержания плодородия почв сама» [3. С. 333]. В свою очередь, условия природы либо способствуют, либо препятствуют в этом человеку: «. они проявляются во всем вокруг — в качестве почв и грунтов, в количестве и распределении естественных осадков, в характере растительности — природной и культурной, в свойствах ближайшего источника водного питания или водоприемника» [4. С. 291]. Сам порядок («очередность») использования ресурсов, «последовательность» культурного освоения («преобразования») природы предопределены ею самою, а не избираются человеком по своему усмотрению, волюнтаристски. Соответственно, социально-экологический кризис современности, о котором писатель размышляет с начала 1960-х гг., детерминирован нарушением этого порядка человеком, преступлением предписанной ему нормы, а не самой его преобразовательской деятельностью. Философское осмысление природы в публицистике С. Залыгина служит поиску путей преодоления кризиса отношений социума и природы, определению подлинного места человека и человечества в бытии и допустимых границ его жизнедеятельности (а также выяснению и уточнению возможностей художественной литературы в этом процессе). Писатель оперирует научными понятиями, выстраивая идеализированную, абстрактно-теоретическую модель природного бытия, которая включает представления о структуре и отношениях природы, разумности и познаваемости ее устройства, устанавливает соотношение детерминизма и казуальности природных процессов, раскрывает фундаментальные законы гармонии и эволюции системы природы. Воззрения писателя основываются на идее о взаимосвязи живого вещества со всеми структурами планеты. Пространство их сопряжения -почва. С. Залыгин прямо соотносит свои представления с учением В.И. Вернадского, через которого приобщается к традиции русского космизма с его идеей внутреннего единства человека и космоса.Залыгин С. Работая над очерком. // Залыгин С. О ненаписанных рассказах: Литературно-критические статьи. Новосибирск, 1961. С. 19-34.
Залыгин С. Свое слово: О повестях Виктора Астафьева // Залыгин С.П. В пределах искусства: Размышления и факты. М., 1988. С. 120-126.
Залыгин С. Интервью у самого себя // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 3-15.
Залыгин С. Литература и природа [1991] // Новый мир. 1991. № 1. С. 10-17.
Залыгин С. Откровения от нашего имени // Новый мир. 1992. № 10. С. 214-216.
Залыгин С. «Экологический консерватизм»: шанс для выживания // Новый мир. 1994. № 11. С. 106-111.
Залыгин С. Моя демократия // Новый мир. 1996. № 12. С. 130-169.
Залыгин С. Поворот. Уроки одной дискуссии // Новый мир. 1987. № 1. С. 3-18.
Залыгин С. Читая Гоголя. (Размышления и заметки) // Залыгин С.П. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6: Рассказы 1981-1989; Литературно-критические статьи. М., 1991. С. 460-484.
Залыгин С. Разумный союз с природой // Залыгин С.П. Позиция. М., 1988. С. 151-166.
Залыгин С. Экология и культура // Новый мир. 1992. № 9. С. 3-12.
Каминский П.П. Поэтика очерка в раннем творчестве Сергея Залыгина // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. № 3 (19). С. 111-121.
Залыгин С. Писатель и Сибирь // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 269290.
Залыгин С. Почва, на которой стоим [Беседа с корреспондентом «Комсомольской правды» В. Ганичевым] // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 327-338.
Залыгин С. Вода и земля Земли // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С.291-305.
Залыгин С. Вода подвижная, вода неподвижная // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 339-343.
Залыгин С. Литература и природа [1980] // Залыгин С.П. Критика, публицистика. М., 1987. С. 253-268.
Татауровский филиал: праздник Сагаалган | ГБПОУ Байкальский колледж туризма и сервиса
14.02.2019 в Татауровском филиале было проведено мероприятие, посвященное Белому месяцу Сагаалган.
Сагаалган («Белый месяц») — самый важный праздник монголоязычных народов, который приурочивается к началу Нового года по лунному календарю.
У монгольских племен как народа кочевого с кочевым скотоводческим бытом новый годовой цикл начинался в то время, когда скот, принося приплод, вступал в осень. В это время монголы прибавляли год возраста и себе и скоту. Праздник этот у монголов назывался «Сагаалган». Распространение буддизма повлияло на перенос времени празднования Нового года с осени на конец зимы. Как известно, по всему востоку год исчисляется по лунным месяцам, буддизм здесь не исключение.
Празднование нового года было перенесено на февраль внуком Чингисхана Хубилаем в 1267 году. Он является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В этот праздник проводятся особенно торжественные богослужения, 30 числа последней зимней луны в дацанах всю ночь читают молитвы богине Лхамо. Во время праздника люди поздравляют друг друга, произносят благопожелания, делают подарки, обмениваются угощениями. Хорошая встреча нового года по народным поверьям способствует долголетию, изобилию пищи и приплода.
Праздник Сагаалган длится весь месяц. Проводится целая серия обрядов, посвященных 15 чудесам Будды. Многие ритуалы связаны с ожиданием появления богини Палден Лхамо.
Одним из наиболее значимых моментов праздника является проведение обряда «Дугжууба» , который проводится за два дня перед днем Нового года. Дугжууба-это своеобразный обряд очищения от всего плохого, специальный ритуал для устранения всех помех, для того, что бы в новом году человек обрел благополучие, мир и спокойствие. Дугжууба считается особо эзотерическим ритуалом, её запрещено проводить в местах проживания людей. В этот день необходимо провести уборку в доме. В старину в эти дни доставалась и перетряхивалась вся одежда, готовились особые наряды из самого дорогого шёлка и парчи всем — от мала до велика. Готовили подарки, чистили и обновляли трубки, чтобы поднести старшим зажженную трубку в праздник. В знак уважения так же готовили хадаки — своеобразные прямоугольные платки из шелка. Начинали готовить праздничные угощения.
На следующий день (канун нового года) верующие встречают великую защитницу Учения Будды- Палден Лхамо-небесную богиню. Покровительница всех живых существ в ночь перед этим днем обходит вселенную с особой ревизией. В этот день –бутуу удэр, желательно всем находиться дома, среди своей семьи. В этот день проводятся обряды поклонения домашним божествам и хозяину огня. В доме у божницы зажигались лампады-зула, воскуривались благовония, преподносились различные угощения.
На следующий день верующие отмечают Новый год-проводится хурал в честь наступившего нового года. В первый день нового года глава семьи должен первым поприветствовать восход солнца дарами от семьи, обязательно преподносились дары и духу местности, с просьбой о благополучии для всех близких.
После всех обрядов начиналось празднование, принимались поздравления и гости. На угощения приглашаются все родные, соседи и друзья. В этот день нельзя экономить, обмен подарками обязателен. Если дети живут отдельно, все равно в этот день надо посетить родительский дом и поздравить старших с праздником. Обычно первыми посещали самых старших и уважаемых родственников. Первый гость и встреча с ним имеют большое значение, желательно чтобы это был мужчина.
В течение 15 дней во всех дацанах проходят хуралы, посвященные 10-и грозным защитникам, божествам долголетия. В эти дни верующие посещают лам-астрологов, которые каждому желающему составляют его индивидуальный гороскоп.
Новогодний этикет приветствия.
Одним из важнейших элементов Сагаалгана является ритуал «Золгохо» или «Золголго». Среди бурят он известен еще как «Золгохо ёhо» или ритуал поздравления с праздником белого месяца. Суть его заключается в особом отношении к поздравлению, когда это не просто формальность, а ритуал, где мы проявляем уважение к близким, родственникам, желаем им успешного вхождения в новый годовой жизненный цикл. Эти поздравления индивидуальны и идут в определенно логической последовательности. Поздравляют друг друга по старшинству и по степени родства, т.е кто старше, того в первую очередь, и так далее по нисходящей. Младшие поздравляют старших, а не в коем случае наоборот. Поздравляющий начинает ритуал со слова «Золгое», тем самым подавая своеобразную команду о начале ритуала и обращая на себя внимание старшего, которому адресовано поздравление. Тот, в свою очередь, протягивает поздравителю обе руки на уровне груди и от груди на расстоянии 30-40см. после этого поздравитель подходит лицом к старшему, под его руки подставляет свои, и как бы поддерживает старшего по возрасту. Одновременно младший подставляет по очереди обе щеки к щекам старшего. У Агинских бурят ритуал дополняется еще одной деталью: младший подходит к старшему, держа на вытянутых руках хадак, возлагая его на кисть правой руки младшего, и лишь после этого оба совершают «Золгохо». Женщины не получали хадак , а платок, и при совершении обряда, в отличие от мужчин, они не снимают головные уборы.
После проведения ритуала поздравления «Золгохо» все родственники и гости садятся за праздничный стол, угощают друг друга теми традиционными блюдами, которые готовят на кануне, т.е в «Бутуу удэр». Традиционно у кочевых монгольских народов застолье продолжается недолго, поскольку необходимо обойти и поздравить всех старших родственников. Перед уходом родственников и гостей хозяева дома обязательно дарят каждому подарок, так называемый «Сагаан сарын бэлэг». Что кается подарков, то близким родственникам, таким как родители, родные братья и сестры, делают более существенные подарки, например, преподносят одежду или обувь. В давние времена женщинам дарили отрез ткани на бурятский дэгэл. Мужчинам не возбраняется презентовать, например, рубашку. Также можно передать архи, только бутылка без другого приложения может быть воспринята как оскорбление. Но нужно помнить, что дарить пустую посуду не принято, надо в этом случае обязательно положить на дно что-то из еды, например, конфету, а можно монетку. Это означает, что не прервется пополнение добра, богатства.
Пора обновить отношения между людьми и природой | от WWF
Алиса Рувеза — региональный директор по Африке, WWF International
© Global Warming Images / WWFСегодня мы отмечаем День Земли, одно из крупнейших в мире гражданских движений, стремящихся мобилизовать людей для решения самых насущных проблем нашего времени, связанных с климатом изменение к потере биоразнообразия.
День Земли наступает в то время, когда мы находимся в разгаре глобального кризиса в области здравоохранения, вызванного COVID-19, которым заразились более двух человек.5 миллионов человек и погибло более 175 000 человек во всем мире. Пандемия COVID-19 охватила страны и континенты, причинив невыразимые человеческие страдания, социальные потрясения и экономический ущерб. Мы думаем о семьях, потерявших близких; с теми людьми, которые больны, и медицинскими работниками, которые находятся на переднем крае борьбы с этой пандемией. В настоящее время, как никогда ранее, мы должны проявить солидарность как глобальное сообщество человечества.
Несмотря на беспрецедентное распространение нынешнего кризиса, новый коронавирус следует за растущей тенденцией аналогичных заболеваний, появившихся в последние десятилетия, таких как Эбола, СПИД, SARS, птичий грипп и свиной грипп, все они происходят от животных.Появляется все больше свидетельств того, что чрезмерная эксплуатация природы человечеством является одним из факторов распространения новых болезней.
Сегодняшний кризис в области здравоохранения подчеркивает настоятельную необходимость глубокого анализа взаимоотношений между людьми и природой, рисков, связанных с текущими путями экономического развития, и того, как мы можем лучше защитить себя и повысить нашу сопротивляемость будущим пандемиям.
Необходимость развития и быстрое преобразование природных экосистем на всем континенте для удовлетворения потребностей растущего населения в сочетании с ускоряющейся урбанизацией и растущей глобальной интеграцией повышают уязвимость Африки перед возникновением и воздействием будущих вспышек.
© Brent Stirton / Getty Images / WWF-UKСейчас в Африке самое быстрорастущее и самое молодое человеческое население из всех регионов мира, что ведет к ускоренному использованию лесов и других природных ресурсов в качестве основных источников, продуктов питания, традиционной медицины и торговля.
Кроме того, потеря среды обитания и изменения в землепользовании, вызванные, главным образом, расширением населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, увеличивают вероятность возникновения новых болезней и подрывают устойчивость сообществ, зависящих от природных ресурсов и экосистемных услуг.
В то время как взаимосвязь между утратой среды обитания, торговлей дикими животными и риском возникновения новых болезней становится все более очевидной, проблемы, связанные с управлением этим взаимодействием, становятся более тонкими, когда сообщества напрямую зависят от природных ресурсов. Например, на мясо диких животных приходится до 80 процентов белка, потребляемого людьми во многих частях Африки, особенно в Западной и Центральной Африке. Ежегодно в бассейне Конго добывается до 6 миллионов тонн мяса диких животных. Аккра, столица Ганы, является домом для более чем одного миллиона летучих мышей, и охота и торговля являются важными видами экономической деятельности.
Чтобы предотвратить будущие пандемии и повысить сопротивляемость местных сообществ, мы должны принять комплексный подход, который уделяет приоритетное внимание сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов для решения проблемы продолжающегося высокого уровня утраты среды обитания, включая обезлесение, при обеспечении питания и питания. потребности сельской бедноты удовлетворяются безопасно, особенно там, где сообщества полагаются на дикие виды в качестве белка.
Сегодня, в День Земли, мы призываем африканских лидеров собраться вместе, чтобы обеспечить Новый курс для природы и людей, в котором приоритетным является скоординированный подход в отношении здоровья человека и окружающей среды.Это потребует решительных действий в разных дисциплинах и согласованных обязательств со стороны политиков, защитников природы, ученых и экспертов в области здравоохранения, чтобы ограничить будущие пандемии и гарантировать, что мы защищаем природные ресурсы, которые являются основой нашей жизни и средств к существованию.
© Kyle LaFerriere / WWF-USОтмечая 50-ю годовщину Дня Земли, мы в долгу перед нынешним и будущими поколениями всех видов подняться и ходить!
1 апреля 2020 года Вангари Маатаи отметила бы свое 80-летие.В своей Нобелевской лекции от 10 декабря 2004 г. она сказала: «Мы столкнулись с проблемой, требующей изменения в нашем мышлении, чтобы человечество перестало угрожать своей системе жизнеобеспечения. Мы призваны помочь Земле исцелить ее раны и в процессе исцелить наши собственные — по сути, охватить все творение во всем его разнообразии, красоте и чудесах.
Это произойдет, если мы увидим необходимость возродить наше чувство принадлежности к большой семье, с которой мы разделили наш эволюционный процесс.В ходе истории наступает время, когда человечество призвано перейти на новый уровень сознания, достичь более высокой моральной основы. Время, когда нам нужно избавиться от страха и дать друг другу надежду. Это время пришло ».
С Днем Земли!
Возможность самообновления | Центр Человечества и Природы
Обнаженное западное плечо горы. Виттенберг предложил широкий взгляд на географию и надежду. Когда мы выходили из леса, натуралист Тодд Пламмер попросил нашу группу остановиться и осмотреть землю, океан и небо.Контрасты поразили меня. В лесу Тодд настроил наши чувства на тонкости флоры и фауны, возникающей из прибрежной почвы Калифорнии. Красота леса проявлялась не только в пейзаже, но и за его пределами — пение птиц более чем сорока видов; местные растения, о которых я никогда не слышал; скопление неуловимого Puma concolor , одного из четырех оставшихся на всем полуострове; Usnea драпировка лишайников с веток, обеспечивающая жизненно важные показатели качества воздуха; темно-зеленый подлесок ранней весны, успокаивающий мои слепые, как снег, глаза Колорадо.
Тем не менее, на поляне мы обнаружили, что залились солнечным светом, прищурившись. На западе мы осмотрели национальный берег Пойнт-Рейес, глядя на округлый синий горизонт за заливом Дрейкс. Далекие волны накрыли одну из самых продуктивных экосистем мира, питаясь Дрейксом Эстеро, где устрицы и защитники дикой природы запутались в человеческом месте в природе. К югу по голому гребню шла тропа. Поворачивая на юго-восток, тропа возвращалась в лес, указывая на мегаполис Сан-Франциско, расположенный в одном заливе по географии, но во вселенной в моем воображении.К востоку, в ста футах над нами, другой след указывал на яркий свет и сосновый аромат горы. Пик Виттенберга. За этой вершиной простирается целый континент, как если бы вся наша суша начинается и заканчивается на крошечной поляне, образующей вершину Виттенберга. С севера снова открылись бескрайние виды. Коровы делили холмы органических молочных ферм с лосями туле. Мы могли проследить разлом Сан-Андреас, отмеченный стеной из ели Дугласа. Более десяти лет назад Mt. Огонь видений пронесся сквозь трутовик из еловой сосны, пока не замедлился в этой еловой фаланге.Пихта горела при более низких температурах, чем сосна, и поэтому все еще поднималась, упругая, всего в нескольких футах от восстанавливающейся земли через разлом. К северо-востоку, на другой стороне горы, находился пасторальный городок Пойнт-Рейес-Стейшн. Виттенберг.
Мы собрались на станции Пойнт-Рейес на Четвертую конференцию «География надежды» (GOH), вдохновленная известной аксиомой Уоллеса Стегнера и спонсируемая Point Reyes Books, Центром человека и природы, Фондом Альдо Леопольда и U.С. Лесная служба. [1] Темой этого года была «В поисках надежды в земельной этике Альдо Леопольда». Биограф Леопольда и соорганизатор конференции Курт Майн пригласил меня, профессора экологической этики, исследующего пересечения между «земельной этикой» Леопольда и современными движениями за экологическую справедливость, принять участие в конференции и написать свои мысли о ее большем значении для понимания, усложнения, и реализовать идеи Леопольда в двадцать первом веке. Новичок в этом ландшафте и сообществе, я был сторонним наблюдателем, стремящимся учиться у экспертных групп, докладчиков, директоров некоммерческих организаций, музыкантов, фермеров, членов семьи Леопольда, актеров, управляющих государственными землями, владельцев бизнеса, режиссеров, членов сообщества, активистов, философы, поэт-лауреат, стипендиат Макартура, учителя, художники и писатели.Все они предлагали взгляды на то, как Леопольд, отчасти вдохновивший Стегнера на экологический голос, проливает свет на будущее видения Стегнера «Географии надежды».
Я размышлял над словами Стегнера, глядя с горы. Виттенберг. География — видов обширных и мелких, разломов, лесов, пожаров, океанов, цветов, коров, акул, птиц, дикой природы, городских центров, рабочих ландшафтов, фермеров, туристов, Тодда и нас. Надежда — продуктов питания, поддерживающих дом на крайнем краю континента, хрупкая среда обитания, поддерживающая тридцатилетнее восстановление морского слона, леса, устойчивые к пожару и восстанавливающиеся после пожара, земля, отведенная для нашего удовольствия и для того, что Леопольд называл своим собственным « способность к самообновлению ».[2] Что значит объединить эти два термина? Как фраза Стегнера говорит о нашем экологическом будущем?
Базовый разговор, связанный с выходными, прорезал тему парения и выдающиеся профили. Это был разговор об изменениях, в некотором роде о том, чтобы отпустить, но определенно об эволюции. Это была дискуссия о том, как наши культовые идеалы (этика земли Леопольда) и наше обнадеживающее географическое положение (гора Виттенберг? Дрейкс Эстеро?) Могут эволюционировать вместе. Далее следует не пошаговый обзор события, а исследование точки зрения конференции на эту эволюцию мышления о природе и местности, дикой природе и культуре, географии и надежде.Я буду исследовать, как конференция подняла сложные вопросы о географических регионах, надежд, о (все еще) упущенных возможностях, чтобы бросить вызов и укрепить движения в защиту дикой природы движениями за рабочие ландшафты и борьбу за экологическую справедливость.
Стандарт изменений
В отрывке из одноактной пьесы, исполненной во второй вечер, Джон Пфитцер (играет Альдо Леопольда) сказал: «Я больше стандарт, чем человек. . . если бы я был [эталоном], это был бы эталон изменений.«Это подходящий способ описать весьма влиятельную карьеру Леопольда. Его жизнь, 1887–1948 гг., Охватывала годы становления американской природоохранной деятельности. Получив образование в Йельской лесной школе Гиффорда Пинчота, Леопольд в 1909 году отправился на юго-запад Америки, где до 1924 года работал лесником, менеджером по охоте, специалистом по водоразделам и планировщиком отдыха в Лесной службе США. лесов, чтобы попросить землеустроителей рассматривать «всю буханку» «Леса» как целостную самоцель.[3] Леопольд расширил свой взгляд на лес, включив в него «трансэкономическую ценность» — ценность экологических услуг и духовного удовлетворения, которые обеспечивают почва, вода, травы, дикая природа и отдых. Более того, на конференции GOH философ Дж. Бэрд Калликотт указал, что Леопольд «предвосхитил гипотезу Гайи», задавшись вопросом, была ли сама Земля, а не только «Лес», «живым существом», достойным морального уважения.
Леопольд эволюционировал. Самое известное, что он столкнулся с «умирающим зеленым огнем» в глазах волчицы.Он убил этого волка в надежде создать популяции оленей для охоты, но в конце концов он научился видеть и хищников, и огонь с целостной точки зрения. Он расширил свою целостную концепцию «Леса» до «Земли», назвав ее «источником энергии» и «пищевой цепочкой почва-растение-животное-человек» (SCA, 216, 178). Он начал «думать как гора», задавая себе вопрос, какой выбор принесет здоровье всем аспектам земли, вместо того, чтобы просто спрашивать, какой выбор принесет экономическую пользу людям (SCA, 129).
Леопольд также развивался по мере того, как вокруг него перемещались локусы изменений окружающей среды. На Юго-Западе он курировал виртуальную вотчину государственных земель. Здоровая земля требовала эффективного управления в рамках федеральной бюрократии. В этом контексте дальновидное и умелое руководство фактически привело его к основанию первого района дикой природы — Гилы. Но когда он переехал в Висконсин в 1924 году, и особенно когда он вступил в должность профессора игрового менеджмента в Университете Висконсина в 1933 году, ему пришлось работать с отдельными землевладельцами, чтобы внести изменения.
В своей презентации на конференции GOH автор, этноботаник и активист по вопросам продовольственной справедливости Гэри Пол Набхан отметил, что Леопольду пришлось отказаться от культуры «командования и контроля» над государственными землями, которым он научился на Юго-Западе. Обосновавшись в Висконсине, Леопольд проводил утро в кафе с фермерами. Эстелла Леопольд, младшая дочь Альдо, также говорила об этой практике в своих комментариях Point Reyes. Отец Эстеллы болтал с фермерами о погоде и их потребностях на ферме, а затем спокойно спрашивал: «Вы видели сегодня фазанов?» чтобы начать разговор о более крупных ценностях, которые он хотел записать на земле.
На Среднем Западе сложное переплетение сотен небольших ферм теперь сформировало землю, которой он надеялся управлять. Во время «Нового курса» в ответ на Великую депрессию Леопольд узнал, что федеральные доллары, выделяемые каждому землевладельцу на посадку деревьев или стабилизацию почвы, не приводят к долгосрочному сохранению. Он думал, что сохранение прекратится, как только прекратится поток субсидий. По его мнению, только сочетание экономики, эстетики и этики может мотивировать сохранение различных поколений.И снова Леопольд адаптировался. Его эссе 1948 года «Земельная этика» иллюстрирует эту адаптацию: «Все правильно, если имеет тенденцию сохранять целостность, стабильность и красоту биотического сообщества. Неправильно, когда имеет место иное »(SCA, 224–225).
Учитывая эволюцию мысли Леопольда в сторону этики земли, многие участники конференции задавались вопросом, как сама этика земли должна развиваться через поколения после его смерти. Президент Фонда Альдо Леопольда Бадди Хаффакер сказал, что «мы все еще рисуем картины того, как должна выглядеть земельная этика.Сьюзен Флейдер, возможно, первый историк Леопольда, предположила, что «Леопольд продолжает расширяться, актуальность его идей со временем растет». Эколог Джед Менье, потомок Альдо Леопольда, резюмировал это мнение: «[Леопольд] отдался собственному развитию. Он развивался со временем, и он очень четко это понимал ».
Биограф Леопольда Курт Майн подчеркнул, что, когда Леопольд написал этику земли, он иронично добавил, что этика земли не может быть записана : «Ничего более важного, чем этика, никогда не« пишется ».. . они развиваются в сознании мыслящего сообщества »(SCA, 225). За шестьдесят пять лет, прошедших с 1948 года, «разум» нашего «мыслящего сообщества» стал более разнообразным, более глобальным, более урбанистическим, более политизированным. Итак, если продолжить собственную задачу Леопольда: как должна «эволюционировать» земельная этика? На конференции GOH многие обсуждения этой развивающейся этики касались идеи дикой природы, революции в землепользовании, за которую Леопольд заслуживает большой похвалы. Он спроектировал первую зону дикой природы в Национальном лесу Гила в 1924 году и до своей смерти продолжал продвигать идею дикой природы в направлении философии и национальной политики.
Пустыня, География, Надежда
Нельзя говорить о «Географии надежды» Стегнера, не говоря о дикой природе. Линия Стегнера, которая вдохновила на проведение первой конференции в Пойнт-Рейес четыре года назад, взята из письма 1960 года, которое Стегнер написал молодому леснику в поддержку Закона о дикой природе (подписанного в 1964 году). Стегнер сказал: «Нам просто нужна эта дикая страна, доступная для нас, даже если мы никогда не делаем больше, чем подъезжаем к ее краю и заглядываем туда. Потому что это может быть средством убедить себя в нашем здравом уме как существ, являющихся частью географии нашей страны. надеяться.Стегнер имел в виду, что земля должна отражать нашу способность к самоограничению.
На конференции Point Reyes писатель-эколог Кеннет Брауэр (сын Дэвида Брауэра) подчеркнул этот взгляд на самоограничение, напомнив аудитории, что «эти дикие места ценны для нас, даже если мы никогда туда не пойдем». Писатель из Вермонта и фермер из долины Безумной реки Питер Форбс проявил сдержанность, чтобы принять позицию «терпения». . . что мне не нужно туда идти, что мне этого не нужно.«Форбс, как и Стегнер, не просто считает дикая природа самой по себе тем, что делает нас единым целым, но утверждает, что наша способность выбирать, дикая природа отражает проявление заботы, выходящее за рамки личных интересов. Терпение Forbes что-то пробуждает в нас. Альтернатива, как подчеркнула в своих комментариях философ Кэтлин Дин Мур, — это «моральное чудовище космического масштаба». Мур продолжил, утверждая, что «неправильно разрушать мир», что трудно отказаться от «миллионов лет, необходимых для того, чтобы песня превратилась в глотку журавля».Такой отказ «не просто аморален, [это] несправедливо и невыразимо». Пионер в области охраны окружающей среды Хьюи Джонсон (вместе с Брауэром) связал мнение Стегнера с открытием Sand County Almanac : «Некоторые могут жить без диких животных, а некоторые — нет». Леопольд объявил себя «тем, кто не может», и Джонсон в заключение повторил призыв Дэйва Формана к движению «Cannots».
Подобно этим видам дикой природы, география надежды определяет нас .Акт осознания того, что мир обладает большей ценностью, чем кладовая ресурсов , одновременно признает нас чем-то большим, чем тела, потребляющие тела. Леопольд думал об этом на протяжении всей своей карьеры. В 1923 году он заявил:
И если действительно существует особое благородство, присущее человеческому роду — особая космическая ценность, отличная от любой другой жизни и превосходящая ее, — по какому признаку это должно проявляться? Обществом, достойно уважающим себя и все остальное, способным населять Землю, не оскверняя ее? Или обществом, подобным тому, что произошло с картофельным жуком Джона Берроуза, которое истребило картофель и тем самым истребило само себя? Будем судить нас как одного или другого в «насмешливом молчании вечности».’[4]
В Sand County Almanac, Леопольд назвал наш уровень экологического отчуждения «духовной опасностью », превышающей любую экологическую или социальную опасность, — часто он был особенно экзистенциальной экологией . Земледелие, которое продвигал Леопольд, было не только земледелием — он продвигал « космическое» земледелие, управление человеческим духом через новую этику, привязанную к земле.
Несколько выступавших в Пойнт-Рейес высказались за то, что более разнообразное географическое положение должно вызывать нашу надежду, иногда называя дикая природа частью того, что делает географию лишенной надежды .Геолог и профессор Лаурет Савой сказал, что «идея дикой природы — это человеческая идея, которая была заложена на земле»; Профессор экологических исследований Мишель Стивенс бросила вызов идее «иметь пустыню без людей. . . вместо экономической модели земли и людей вместе »; писатель, педагог и музыкант Джон Фрэнсис рассказал о местных общинах Юкона, которые сказали ему: «Это не дикая местность, это наш дом»; Калликотт объяснил, что с точки зрения коренных народов «дикая природа — это инструмент колониализма.”
Конечно, это не новая перспектива. За последние три десятилетия «дебаты о дикой природе» превратились в очаг конфликта между экологическими философами, активистами, учеными и историками. Дебаты слишком сложны, чтобы их справедливо представить в этом обзоре конференции. Но его суть заключается в том, чтобы поставить под сомнение использование и злоупотребления пропагандой ландшафтов, в которых «человек сам является посетителем, которого не осталось» (Закон о дикой природе). Дала ли нам пустыня эту обещанную арену для нашего терпения, место здравомыслия в мире, стремящемся превратить в товар все живое? Или, как предположил Савой, слишком много людей не включены в это «нас» — неужели эти географические положения извращенно расширили нашу коммодификацию мира, рассматривая родины коренных народов как «нетронутые»? Защищая жизненно важную среду обитания для находящихся под угрозой исчезновения диких животных во всем мире, эти пейзажи «заверили» нас в «нашем здравом уме»? Или они непреднамеренно увековечили динамику глобального колониализма, который помог поставить под угрозу наше здравомыслие? Помешал ли язык защиты дикой природы борющимся за экологическую справедливость движениям говорить там, где живут люди, особенно за исключением тех, кто живет с непропорционально высоким уровнем загрязнения и не имеет привилегии наслаждаться «дикими» местами? Или охрана дикой природы растягивает моральное воображение, чтобы охватить внутреннюю ценность всех мест (и неявно всех родных земель, кварталов и народов), расширяя сферу своей заботы, чтобы включить в нее места, которые люди никогда лично не назовут домом? Это богатая и важная дискуссия; здесь он решен не будет.Но концепция «географии надежды», исследуемая на этой конференции, предлагает один возможный путь вперед — «третий путь», выходящий за рамки этих дуалистических вопросов; Третий способ, который сам Леопольд любил строить из дискуссий своего времени.
Лидер Чикагской экологической справедливости Майкл Ховард проложил путь для этого третьего пути на конференции GOH. Ховард поделился своими успехами и борьбой за преобразование наиболее загрязненных свинцом площадей в Чикаго в Эдем-Плейс, место садов бабочек, экологического просвещения, производства продуктов питания, дикой природы и медицинских семинаров — поистине география надежды.Он предложил личный и исторический взгляд на дикую природу. Он вспомнил 1964 год, когда были подписаны Закон о гражданских правах и Закон о дикой природе. Вспоминая тот год, он сказал: «Я просто хотел, чтобы меня признали человеком для образования, для доступа к магазинам. . . . В 1964 году для меня это был другой мир ». Он сказал преимущественно белой толпе из среднего класса в Пойнт-Рейес: «Вы праздновали Закон о дикой природе, а мы праздновали основные права».
Ховард не отрицает силу дикой природы.Он забирает людей из своего квартала Фуллер-Парк в пустыню. «Есть что-то духовное, что происходит, когда вы воссоединяетесь с землей, ложитесь на листья и смотрите на звезды». Помимо дикой местности, его связь с землей уходит корнями в детские посещения его наземной семьи на юге. И южный пейзаж после рабства, и классический ландшафт дикой природы, похоже, сыграли свою роль в его призыве к справедливости и дикость на наиболее загрязненных территориях Чикаго.Но, как сказал Ховард (имея в виду стихотворение Роберта Хасса на премьере), «вот в чем проблема. . . Мне нужна твоя помощь, чтобы зажечь свечу в таких местах, как Фуллер-парк. . . Я построил свечу, но мне понадобится твоя помощь, чтобы зажечь ее, чтобы люди в Фуллер-парке могли ее снова зажечь.
Надежда Майкла Ховарда объединяет три географических региона: рабочие ландшафты, пропитанные историческими травмами и родовыми связями, дикая природа, которая вдохновляет «на что-то духовное», и наши сообщества, все сообщества , особенно те, которые когда-то считались непригодными для проживания.Все трое должны совместно развиваться ради Фуллер-Парка и во имя яркой этики земли в наше время.
Эволюционирующая дикая природа Леопольда
Представление Леопольда о дикой природе расширилось между его исследованием «Район дикой природы Гила» в 1924 г. и его последней работой, Альманах графства Сэнд , опубликованной через год после его смерти в 1948 г. Его первоначальная дикая природа Гила должна была быть достаточно большой, чтобы позволить «двухнедельную поездку в стаю». , »Отражая его взгляд на охоту как на духовную связь с целостной ценностью Леса.[5] Точка зрения Леопольда на дикая природа как на нетронутые «девственные» земли сохранялась на протяжении всей его карьеры, даже несмотря на то, что его основная цель в отношении дикой природы эволюционировала от опыта охотника до экологического понимания «здоровья земли» в таких местах, как Сьерра-Мадре в Мексике. 1937. Тем не менее, как только Gila была основана, Леопольд начал расширять свою интерпретацию дикой природы. В эссе 1925 года, озаглавленном «Дикая природа как форма землепользования», он утверждал, что «дикая природа существует во всех степенях, от небольшого случайного дикого места в начале оврага в лесном массиве кукурузного пояса до обширных просторов девственной страны.. . . Пустыня — это относительное состояние ». [6]
«Все степени »; « относительное состояние ». Это боевые слова в наших дебатах о дикой природе двадцать первого века. Леопольд продолжает: «Как форма землепользования не может быть жесткой единицей неизменного содержания, за исключением всех других форм». Леопольд не стал бы заходить так далеко, чтобы сказать, что дикая природа — это человеческая конструкция , как многие предполагали. Леопольд думает, что «голова оврага» содержит в себе нечто , что не может исходить от нас — дикость, которая может развиться только из «отдаленной устойчивости пространства и времени» (SCA, 148).Однако к тому времени, когда он опубликовал Sand County Almanac , он сосредоточился на способности опыта дикой природы пробуждать новые уровни экологического «восприятия», которые он считал «изменением ментального взгляда» для человечества (SCA, 173- 174).
Этот новый «мысленный глаз» для Леопольда мог развиться в году в любом месте типа : «сорняки на городском участке несут тот же урок, что и секвойи; фермер может увидеть на своем пастбище коров то, что не удостоится ученого, путешествующего по Южным морям »(SCA, 174).Когда изучение сорняков учит и приносит меньше вреда, чем путешествие в великие секвойи, Леопольд действительно вообразил адаптивную географию надежды в рамках своего представления о дикой природе. Но это не надежда, которую можно найти в определенных видах и географических регионах. Это надежда, обретенная определенным образом географического восприятия, возможная в «диких» лесах, вокруг кукурузных полей и на городских участках — мощный предшественник трех географических регионов, которые сформировали надежду Майкла Ховарда. В фильме « Зеленый огонь » Дэйв Форман предлагает нам узнать о «Леопольде целиком», и частью этого целого Леопольда является взгляд на дикость, который включает и усложняет обширные, нетронутые ландшафты, которые мы сегодня называем дикой природой.Леопольд мог держать все это в своей голове, в своем моральном компасе так, как мы до сих пор изо всех сил пытаемся уловить в форме движения.
На конференции фермер из Айовы и бывший руководитель Службы охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США Пол Джонсон разделил точку зрения Леопольда о том, что «индивидуальный фермер. . . должны соткать большую часть ковра, на котором стоит Америка », что« сохранение означает гармонию между людьми и землей »и что« земля ». . . это не просто почва »[7]. Он называет этот уровень владения рабочим ландшафтом« реальной географией надежды, которая включает человека и отношения с землей.”
Forbes добавил к этому ракурсу частность. Он представился через места, которые его сформировали. Он говорил о важности querencia , «места, где живет животное. . . тенденция возвращаться туда, где родился. . . обязанность . . . место памяти. . . любить и быть любимым.» Хваля Леопольда за его заявление о том, что отношение людей к земле и , отношение людей друг к другу — это две его заботы в жизни, Forbes сказал, что «мы не можем защитить землю от людей, мы можем защитить только землю с людьми. .«Разрушение окружающей среды происходит из-за« неудавшихся человеческих взаимоотношений »для Forbes, и поэтому самый эффективный способ спасти место — это жить там. Джонсон обсудил актуальность Леопольда для того, как мы воспринимаем рабочие пейзажи как еще одну «часть» (продолжая мысль Стегнера) географии надежды. Forbes развивает точку зрения Джонсона, открывая пространство для дикой природы, рабочего ландшафта и, возможно, даже участков движения за экологическую справедливость, чтобы найти точки соприкосновения — уходящие корнями в Леопольда. Подобно тому, как Forbes «не был бы целостным без дикой природы», он признал, что «неудачные» взаимоотношения человек и человек — это то, что угрожает надеждам как дикой природы, так и рабочих регионов всех видов.
Играя с концепцией Леопольда здоровья земли , Гэри Пол Набхан утверждал: «Мы должны спросить, как исцеление земель может повлиять на здоровье человека и здоровье общества». Он спросил: «Может ли экологическое восстановление трансформироваться в восстановление сообщества и восстановительную экономику?» Дни разделения и сегрегации этих форм восстановления закончились. Люди, сообщества и земля должны быть интегрированы. Например, Набхан рассказал о колибри, умершей у него в руке в день, когда он переехал в свой дом в Аризоне, из-за того, что в этой стране не было здоровья, чтобы поддерживать его миграцию; он указал на 60 процентов мексиканцев в U.Южная сторона границы страдает от отсутствия продовольственной безопасности, в то время как 30 процентов их детей страдают от голода; он сослался на насилие иммиграционной системы и дебаты. Такие проблемы, как изменение климата и отсутствие продовольственной безопасности, означают, что мы (все мы) игнорируем их взаимосвязь на свой страх и риск. Он пришел к выводу, что «справедливость для этих людей и справедливость для колибри — это цель, которая движет мной».
Надежда проистекает из сложных географических согласований дикой природы, рабочих ландшафтов и экологической справедливости — как в разнообразном опыте Майкла Ховарда, подпитывающем городское возрождение, как в смеси сельского хозяйства и дикого терпения Питера Форбса в построении «целых сообществ», как у Пола. Понимание Джонсоном и Гэри Полом Набханом того, как здоровье земли способствует здоровью и справедливости общества, и, как и в видении Альдо Леопольда, «девственные» леса, кукурузные поля и городские участки как общие дикая природа.
Самостоятельное продление
Дикая природа могла бы эволюционировать по крайней мере еще раз, если бы Леопольд продолжал жить, более к дикости . В «Этике земли» Леопольд утверждает, что «способность к самообновлению» (для всего биотического сообщества, включая людей) определяет «здоровье земли». В свою очередь, любая «вещь», которая ведет к самообновлению, революционным образом определяет здоровье и насилие, и правильно и неправильно . Его земельная этика основана на «самообновлении» и измеряется ею. Возможно, сама дикость заключается в самообновлении.
Может ли этика земли вдохновить на будущие изменения в том, как мы определяем географию надежды? Леопольд осознавал необходимость включения человек, человек и человеческих сообществ в свою концепцию биотического сообщества. Итак, что означает для человека «способность к самообновлению»? Что означает для человеческого сообщества (включая долину Кун в Висконсине, долину Безумной реки Вермонта, границу Аризоны и Мексики и южную сторону Чикаго) «способность к самообновлению»? Что означает для дикой природы — в том числе подход «возрождения», поддерживающий широкие миграции краеугольных хищников, — «способность к самообновлению»? Что означает достижение коллективного самообновления, которое включает индивидуальные действия, автономию сообщества и экологическое здоровье?
Слово «дикая местность», как сказали нам такие ученые, как Родерик Нэш, и активисты, такие как Дэйв Форман, происходит от древнеанглийского корня, означающего «своенравная земля».[8] В этой формулировке есть потенциал для размышлений о том, как развивающаяся земельная этика может объединить множество географических регионов надежды. Как могут своенравные индивиды, которых когда-то считали менее человечными, и своенравные сообщества, борющиеся против своего места , ставшего чужим отсюда , найти общее дело с этими движениями за своенравную землю? Историк Леопольда Джулианна Лутц Уоррен (ранее Ньютон) предложила на конференции определение надежды, которое теперь имеет больше смысла.Она назвала надежду «подарком, который дается, когда межведомственное и взаимозависимое переливается в неравновесном состоянии». Возможно, именно так идея Леопольда о «самообновлении» должна развиваться в нашем мыслящем сообществе: к осознанию того, что у географических регионов есть надежда только тогда, когда «взаимозависимость» земли, людей и сообществ выражает «межведомственность» и обладает « самоволием». . ”
Разделенные географии, эксплуатируемые надежды
Конференция завершилась вызовом на следующий год. Кен Брауэр и Хьюи Джонсон выразили сожаление по поводу недостаточного внимания конференции к будущему дикой природы как к причине, которая «противостоит силам, разрушающим природу.Джонсон заключил: «Я не хочу его терять; Я не хочу, чтобы мои дети потеряли это; ни мои внуки. Итак, я надеюсь, что в следующем году вы назовете [конференцию] «The Cannots». Если это так, я обязательно буду там, так как Mt. Виттенберг напомнил мне, что я, как и Леопольд, «не могу. . . жить без диких вещей ». Но как нам объединить тех, кто «не может жить без диких вещей», с теми, кто просто не может жить? Как свечи дикой природы, рабочих ландшафтов и экологической справедливости могут более эффективно освещать друг друга?
Конечно, легче сказать, чем сделать.Фактически, общины вокруг Пойнт-Рейес погрязли в конфликтном конфликте из-за новой дикой местности, которая вытеснит компанию Drakes Bay Oyster Company. Поначалу казалось странным, что конференция, посвященная наследию двух формирующих философов дикой природы (Леопольда и Стегнера), конференция, проходящая в Пойнт-Рейес , , не организовала группу, посвященную этому вопросу. Но конференция GOH предоставила перерыв от местных позиций для изучения более крупных ценностей и рамок для смешения географии и надежды — для всех мест.Это решение избежать явного сосредоточения на соответствующем споре по поводу Пойнт-Рейеса могло бы, по иронии судьбы и неявно, пролить больше света на эту растущую проблему, чем явные дебаты по ней.
В конце 2012 года компания Drakes Bay Oyster, популярная среди лидеров устойчивого производства продуктов питания в Сан-Франциско, подала в суд на Министерство внутренних дел США Кена Салазара с требованием расторжения сорокалетнего договора аренды с целью обозначения нового заповедника. область морской дикой природы в стране.Вместе с прогрессивными лидерами, такими как сенатор Дайан Файнштейн, семейная компания продолжает добиваться продления срока аренды на десять лет в федеральных судах, отстаивая экологическую устойчивость своей деятельности. Защитники дикой природы выражают озабоченность по поводу хрупкой среды обитания Дрейкса Эстеро и озабоченность национализированными по поводу прецедента разрешения механизированного частного производства в специально отведенной зоне дикой природы. Они опасаются, что по всей стране возникнет волна промышленных претензий на участки дикой природы и вызов Закону о дикой природе 1964 года.[9] Этот конфликт между местной едой и дикой природой расколол экологическое сообщество в регионе, подняв сложные вопросы о будущей роли дикой природы в нашем экологическом воображении.
Мысы национального побережья Пойнт-Рейес от Чимни-Рок
С моего мартовского полудня на горе. Виттенберг, однако, вопрос о том, должны ли Дрейки Эстеро быть дикой природой, стал еще более сложным. Компания Drakes Bay Oyster Company продолжает апеллировать к Девятому U.S. Окружной апелляционный суд принял решение о том, что Дрейкс-Бэй должен закрыть свое устричное предприятие ради сохранения новой дикой природы [10]. Лидеры республиканского конгресса, такие как председатель Комитета по природным ресурсам Док Гастингс, присоединились к борьбе на стороне устричной компании. Весной 2013 года, сенатор-республиканец Дэвид Виттер зашел так далеко, чтобы предложить законопроект одобрить спорную Keystone трубопровода, производство разрешение в Арктическом национальном заповеднике, расширение морского бурения, и продлить договор аренды на селезней Bay Oyster Компании еще десять годы.Cause of Action, консервативная группа, лидер которой связан с промышленником, либертарианскими братьями Кох, выступила в качестве главного поверенного для устричной компании, хотя устричная ферма разорвала связи с Cause for Action после сюжета PBS в мае 2013 года. [11] Таким образом, эти маловероятные партнеры варьируются от защитников окружающей среды, озабоченных моделью дикой природы, вытесняющей местную еду, до активистов «Чаепития», использующих эту проблему как еще одну битву в своей войне против «чрезмерного охвата» правительства, до промышленных групп, надеющихся ослабить Закон о дикой природе на национальном уровне.[12] Экологические движения продолжают становиться уязвимыми для таких стратегий «разделяй и властвуй», (иногда постоянно) отделяя природу, рабочие ландшафты и городскую среду. Тон «или-или» в дебатах о Дрейкс-Бей подпитывает силы, вызывающие более серьезные проблемы, такие как изменение климата и дерегулирование окружающей среды.
Лаурет Савой охарактеризовал конференцию в Пойнт-Рейес как «место трансформации — геологически, личностно, духовно и этически». Отец Савоя, Уиллард Савой, однажды написал роман под названием Alien Land , в котором боролся со своей «гонкой от черноты» и разоблачал «отдельную ловушку» расы в Америке.Для Савой вопросы Альдо Леопольда не сильно отличаются от вопросов, которые задавал ее отец. Она резюмировала оба вопроса, спросив аудиторию: «Можно ли отвергать, отрицать то, что нас отчуждает и разделяет?» Она надеялась, что этика земли может развиваться так, чтобы «этика земли и Alien Land » могли «встретиться». Уоллес Стегнер подарил нам фразу «география надежды», которая освобождает нас от другой «отдельной ловушки» — определенных категорий ландшафта как основных целей заботы об окружающей среде.Фраза Стегнера и конференция напоминают нам не путать средства и цели, тактику и стратегии. Вместо того, чтобы перемещать местную ферму из-за нашей любви к природе или , а не разбавлять Закон о дикой природе, чтобы иметь местную еду (которые, кажется, являются двумя представленными вариантами), как Министерство внутренних дел, как может дикая природа и еда движения в районе залива — этой колыбели для многих экологических революций — представьте себе третий путь для Пойнт-Рейеса, такой как у Майкла Ховарда в Чикаго, как у Гэри Пола Набхана в приграничных районах, как у Питера Форбса в Вермонте? Сможет ли Пойнт Рейес дать нам следующую географию надежды? Счет Виттера должен вызвать тревогу.Это должно предостеречь нас от продолжения «отдельной ловушки» разделенных экологических взглядов, сдерживающих этику земли. Та эволюция, к которой призывала эта конференция и сам Леопольд, предлагает путь вперед.
Технологии меняют наши отношения с природой, какой мы ее знаем — Quartz
Профессор психологии Вашингтонского университета Питер Кан провел большую часть своей карьеры, анализируя отношения людей с природой — и он считает, что эти отношения более хрупкие, чем многие из нас думают. .
Кан работает над пониманием пересечения двух современных явлений: разрушения природы и роста технологий. В качестве директора лаборатории взаимодействия человека с природой и технологических систем (HINTS) в UW Хан исследует людей как с реальной природой, так и с «технологической природой»: цифровые представления дикой природы, такие как документальные фильмы о природе, видеоигры и виртуальная реальность. стимуляции.
Технологичность имеет свои преимущества; взаимодействие с ним заставляет нас чувствовать себя хорошо, вызывая нашу врожденную «биофилию» — термин, обозначающий врожденную, изначальную принадлежность человечества к окружающей среде.Например, исследователи обнаружили, что видео с природой, показываемые в тюрьмах, резко снижают уровень насилия среди заключенных, предполагая, что расслабляющее влияние природы транслируется через экраны. Исследования также показали, что просмотр Planet Earth приносит зрителям радость и заметно снижает беспокойство, и что работники в офисах с плазменными «окнами», которые транслируют прямые трансляции на открытом воздухе, счастливее и продуктивнее своих коллег, работающих в комнатах без окон вообще.
Мы ищем эти природные альтернативы, поскольку общество урбанизируется и дикие места становятся все труднее доступными.Тем не менее, существует предел того, насколько технологические изображения природы могут обеспечить успокаивающие, восстанавливающие и творческие преимущества прогулки по настоящему лесу.
Кан обеспокоен тем, что в процессе стремления к более реалистичной технологической природе мы все больше отдаляемся от реального, растем, чтобы принять цифровую замену взаимодействия с дикой природой, и при этом ставим под угрозу нашу фундаментальную принадлежность к окружающей среде.
Quartz поговорил с Каном о растущем распространении технологической природы и о том, почему люди не смогут изобрести альтернативу налаживанию значимых связей с окружающей средой.
Какие выгоды люди извлекают из наших отношений с природой и как эти отношения меняются по мере того, как мы развиваемся в технологическом плане?
Природа необходима для нашего физического и психологического благополучия. Взаимодействие с природой учит нас жить в отношениях с другим , а не в доминировании над другим: вы не контролируете птиц, летающих над головой, или восход луны, или медведя, идущего туда, куда он хотел бы ходить. По моей оценке, одна из всеобъемлющих проблем современного мира заключается в том, что мы видим себя живущими в условиях господства над другими людьми и миром природы, а не во взаимоотношениях с ними.
Может ли технологический природный опыт, такой как виртуальное моделирование природы или видеоигры, принести пользу, сопоставимую с преимуществами, полученными от времени, проведенного на природе?
Мы получаем выгоду от технологичности, но не знаем, чего нам не хватает. Например, сейчас люди все больше и больше занимаются скалолазанием в скалодромах. Раньше вы выходили на улицу и имели бесконечные степени свободы выбора, поднимаясь по каменной стене, и испытывали все формы погоды, и вам нужно было соответствующим образом модулироваться.Но в спортзале свобода ограничена. Это лучше, чем ничего, но не так хорошо, как настоящая природа.
А теперь примените еще и технологии. Студент магистратуры Исландского университета Райан Партека недавно посетил мою исследовательскую лабораторию. У Райана были визуализации VR, которые он взял из самых диких уголков Исландии, и с его помощью я опробовал их. Я надел очки виртуальной реальности и оказался в Исландии на открытых равнинах. Был полдень, и подул ветер.Я слышал, как он сильно дует, но это меня нервировало, потому что я его не чувствовал. Что еще больше расстраивает, мне не нужно было ничего делать, мне не нужно было заботиться о себе: когда я был в диких местах с таким шумом ветра, я немедленно беру шляпу, чтобы не терять голову. теплый, и я кладу слой. Но я испытываю эту виртуальную реальность в безопасности исследовательской лаборатории в теплом здании в Сиэтле.
Наша связь с природой требует смысла. Одна из мощных форм смысла — заботиться о себе, чтобы не пострадать и развиваться.Вы убираете это из опыта и приглушаете.
VR природа — это приглушенная природа. В будущем те, кто использует VR, могут больше перемещаться и даже выбирать свой собственный маршрут через открытое пространство VR. Это даст больше степеней свободы, но что происходит, когда вы ударяетесь головой о камень виртуальной реальности? Ничего! Вы не связаны природой, но и не можете освободиться через нее.
Почему люди стремятся к технологической природе, когда участие в реальных сделках потенциально приносит больше удовлетворения, пользу для здоровья и глубину опыта?
Мы технологический вид — мы всегда были одним из них.Но сотни тысяч лет наши технологии были рудиментарными. Когда наш разум эволюционировал от палеолита к неолиту, наши технологии тоже. Нас привлекают технологии не только потому, что они навязываются нам корпорациями, но и потому, что их импульс лежит в самой архитектуре нашего существа.
Но, хотя мы и являемся технологическим видом, сейчас мы вышли из равновесия. Чтобы процветать, нам нужно больше природы и больше диких форм взаимодействия с более дикой природой; Я сомневаюсь, что нам нужны тонны новых технологий.
Предвидите ли вы будущее, в котором технологическая природа в значительной степени заменит реальную вещь? Может ли он когда-нибудь заменить природу?
Мое реалистичное видение состоит в том, что мы используем технологическую природу как бонус к реальной природе, а не как ее замену. Подростки, выросшие в городских районах, могут надеть гарнитуру VR и получить небольшое представление о диком месте, но это визуальное восприятие отделено от смысла взаимодействия с дикой природой в этом месте.По мере того, как дети растут в менее естественных областях, у них меньше опыта с реальной природой, и поэтому, когда они затем испытывают технологическую версию природы, у них меньше реального опыта, чтобы отобразить ее. Таким образом, физические и психологические преимущества технологического характера, которые мы наблюдаем в этом поколении, скорее всего, уменьшатся в грядущих поколениях.
Каким было бы ваше идеальное видение использования технологической природы?
Идеальным видением технологической природы было бы, по крайней мере, сохранять технологическую природу «чистой».Под этим я подразумеваю не накладывать неестественные дополнения и изображения на естественные формы. Это обязательно произойдет с природой VR. Будет миллион способов, которыми люди накладывают воображаемые образы на мир природы, и мы не узнаем, что такое настоящая природа и что моделируется.
Например, я провел несколько исследований с людьми, взаимодействующими с роботом-собакой Sony, Aibo, когда он появился на рынке. В какой-то момент дизайнеры изменили дизайн, чтобы Aibo могла говорить вам по электронной почте.Немного странно видеть вашу электронную почту с собакой-роботом — технологическая природа превращается в смешанные формы. Дети вырастут с этими новыми смешанными жанровыми формами технологического характера.
Не могли бы вы описать вашу теорию «экологической амнезии поколений»?
Я впервые начал осознавать проблему экологической амнезии поколений в начале 1990-х годов, когда брал интервью у детей в центральной части Хьюстона, штат Техас, об их взглядах и ценностях на окружающую среду.Одно открытие особенно удивило меня: значительное число опрошенных детей понимали идею загрязнения воздуха, но они не верили, что у Хьюстона есть такая проблема, хотя Хьюстон тогда был (и остается) одним из самых загрязненных городов в США. Состояния.
Я просыпался там по утрам, задыхаясь от запахов нефтеперерабатывающих заводов, и мои глаза немного болели. Как эти дети могли этого не знать? Один ответ состоит в том, что они родились в Хьюстоне, и большинство из них никогда не покидало его; живя там, они построили свой базовый уровень для того, что они считали нормальной окружающей средой, которая включала существующий уровень загрязнения.
Основываясь на этом исследовании, я предположил, что люди разных поколений психологически испытывают нечто очень похожее на детей в Хьюстоне: что все мы строим концепцию того, что является экологически нормальным, на основе природного мира, с которым мы сталкиваемся в детстве. С каждым последующим поколением степень деградации окружающей среды увеличивается, но каждое поколение склонно воспринимать это ухудшенное состояние как нормальное явление. Это то, что я назвал «экологической амнезией поколений».«Это помогает объяснить, как города продолжают терять природу и почему люди на самом деле не видят этого — и в той степени, в которой они видят, они не думают, что это слишком большая проблема.
Как нам лучше всего взаимодействовать с технологической природой, чтобы больше ценить окружающую среду?
Вы можете увидеть, как дети дошкольного возраста получают дополнительное чувство удивления, используя микроскоп для изучения какой-либо природы, или приложение для смартфона может помочь нам идентифицировать аспекты природы, когда мы идем на прогулку на природу.Но такие примеры упускают из виду большие тенденции, которые формируют наш вид. Райан Партека надеялся, что его визуализация Исландии в виртуальной реальности заставит людей полюбить дикие места и сохранить их. Но по большей части я не думаю, что это произойдет. Любое благородное видение дизайнеров типа «О, я создаю эту технологическую природу, чтобы люди полюбили и ценили настоящую природу» окажется безнадежно наивным.
Люди должны взаимодействовать с актуальной природой. Решение состоит не в том, чтобы просто больше говорить о природе или создавать видеоролики о природе или других формах технологического характера.Нет, решение состоит в том, чтобы постоянно углублять наше взаимодействие с природой и иметь более дикая природа, с которой можно взаимодействовать.
Что такое человек?
Что такое человек?Что такое человек?
- Мир склонен рассматривать человека одним из двух идолопоклоннических взглядов.
- Материализм рассматривает человека как состоящий из не более чем материальных компонентов. Его интеллектуальный, эмоциональный и духовные аспекты — не что иное, как продукты его материальной природы, действующей в соответствии с законами физики и биология.
- Мужчина не несет ответственности за свое поведение. Окружающая среда виновата в недопустимом поведении. (Ведет к упор на социальные программы, большое правительство)
- Человека нельзя отличить от другого материала творения. Следовательно, у него нет достоинства или присущего стоит. Животные (или даже растения) обладают той же внутренней ценностью, что и люди.
- Личность человека никоим образом не связана с Богом.Следовательно, человек в некотором смысле окончательный, а это идолопоклонник.
- Идеализм рассматривает человека как существо духовное, а его физическое тело чуждо его сущности. Тело не что иное, как оболочка для духа или интеллекта.
- Человеческое тело заброшено.
- Действия, совершаемые в теле, не оскверняют сущность человека.
- Отождествление мужчины и женщины — биологическая случайность.
- Христианская точка зрения удерживает эти два аспекта — материальный и духовный — вместе в совершенной гармонии. Но Христианская точка зрения выходит за рамки этого.
- Библия представляет человека в надлежащем контексте взаимоотношений Создателя и создания.
- Человек создан и поддерживается Богом. Быт. 1:27, Деяния 17: 25,28
- Человек — это человек, и поэтому он способен делать нравственный выбор.
- Человек создан по образу Бога. Быт. 1:27
- Образ Бога — ключ к идентичности человека.
- Человек — представитель Бога. Быт.9: 6
- В некоторых отношениях человек является изображением Бога. Быт.1: 26-31
- Христос, Богочеловек, является совершенным представителем того, что значит изображать Бога. 2 Кор. 4: 3-4, Кол. 1:15
- В результате грехопадения образ Бога в человеке испорчен, но не утрачен полностью.Пс. 58: 3, Рим. 5:12, Рим. 8: 7,8, 1 Кор. 2:14
- Образ Бога искажен во всех аспектах человеческого существа.
- Образ Бога не утерян полностью. Быт.9: 6, Иакова 3: 9-12
- Бог сдерживает грех через действие общей благодати. Быт. 20: 6, Рим. 2: 14,15
- Образ Бога обновляется через спасение во Христе. ПЗУ. 8:29, Кол.3: 9-10
- Христианский взгляд на человека имеет значение.
- Лечение слабых и беззащитных
- Надлежащее место самооценки
- Критика поведения
- Критика конструктивистских педагогических теорий
Последствия:
Последствия:
Человек в своей основе добрый или в основном злой?
Список литературы
Создано по образу Бога Энтони А. Хукема, Eerdmans, 1986, 264 с.Это отличное исследование библейского
учение о человеке. Он обращается к результатам падения и трудным вопросам, таким как самооценка и свобода человека, как к моральным устоям.
агент.
Доступность: библиотека Австралии
Назад к свободе и достоинству Фрэнсиса А. Шеффера. Прямой ответ с христианской точки зрения на книгу Б. Ф. Скиннера
Манифест о бихевиоризме, За пределами свободы и достоинства . Каждый христианин в области образования или психологии должен
понять эти проблемы.Книга Шеффера — отличное место для начала.
Доступность: Библиотека Австралии (Полное собрание сочинений Фрэнсиса Шеффера)
Связывание воли Мартина Лютера. Классическое лечение состояния воли мужчины после падения.
Доступность: Библиотека AU (Сочинения Лютера, том 33)
Создано для достоинства: что Бог дал вам возможность быть Ричард Л. Пратт-младший, пресвитерианин и реформатор,
1993, 206 с.На фоне раскрывающейся Божьей благодати в Писании Пратт исследует, что значит быть человеком и
другие вопросы, касающиеся самооценки.
Наличие: библиотека CPC
«Бихевиоризм Б. Ф. Скиннера», набросок № 48 христианских информационных министерств. Это краткий, удобный для чтения обзор
и критика бихевиоризма с христианской точки зрения.
Доступность: http://www.fni.com/cim/briefing/behave.html
Джон Мюр о спокойной уверенности осени как времени обновления и природы как тонизирующем средстве для психического и физического здоровья — Brain Pickings
В последний год своего двадцатилетия, без гроша в кармане и жаждущий смысла, Джон Мьюир (21 апреля 1838 г. — 24 декабря 1914 г.) покинул границу Висконсина, куда его семья эмигрировала из Шотландии двумя десятилетиями ранее в поисках спасения. лучшую жизнь, чтобы бродить по пустыне своей новой родины.Он начал записывать свои встречи с природой, с ее красотой и способностью к превосходству, в небольшой карманной записной книжке — первом из шестидесяти дневников, которые он будет вести до конца своей жизни, на страницах которых он выступил как прозелитник. поэт-лауреат природы, его душевная чувствительность отражается от поколения к поколению в трудах лирических ученых, таких как Рэйчел Карсон, и современных натуралистов, таких как Терри Темпест Уильямс и Роберт Макфарлейн. Он будет жить как экстатический любитель дикой природы и умереть как отец-основатель национальных парков.
Джон МьюирВ детстве идея стать писателем никогда не входила в воображение Мьюра. Вместо этого он мечтал стать изобретателем; затем врач; потом ботаник. Он начал заниматься «изготовлением книг» только в конце жизни, рассказывая: «Когда я впервые ушел из дома, чтобы пойти в школу, я думал о судьбе как изобретатель, но мимолетное представление о Космосе, которое я получил в университете, помогло мне в этом. кулачки, колеса и рычаги из моей головы ». Именно в те школьные годы эпохальная книга эрудита Александра фон Гумбольдта « Kosmos » впервые захватила народное воображение представлением о природе как космосе взаимосвязей, вдохновив молодого Уолта Уитмена заявить, что «лист травы — это не меньше, чем работа звезд », и молодой Джон Мьюир написал свой адрес на форзаце своего первого журнала как« Джон Мьюир, Земля-Планета, Вселенная.На страницах своих дневников Мьюир приходил к своему оживляющему кредо, что «когда мы пытаемся выделить что-либо само по себе, мы обнаруживаем, что это привязано ко всему остальному во вселенной».
Еще в свои двадцать лет, за полтора века до того, как неврологи начали открывать исцеляющую силу природы, Мюр начал различать огромные психологические и физиологические выгоды от погружения в живой космос природы и его необычную мазь от различных недугов, недомоганий и недомоганий. телесная и умственная усталость, которую мы накапливаем, живя как мыслящие, чувствующие существа, в постоянно ненадежном мире.В одной из записных книжек, посмертно собранных в сокровищнице 1938 года Иоанн Гор: Неопубликованные журналы Джона Мьюира ( публичная библиотека, ), он пишет:
Природа, побуждая к максимальным усилиям, направляя нас работой, представляя причину вне причины в бесконечных цепях, заблудившихся в бесконечных расстояниях, все же подбадривает нас, как мать, нежными болтливыми словами любви, помогая всем нашим недружелюбным и усталым.
В записи из дневников, которые он вел во время преображения в горах Сьерра, он прославляет природу не только как ментальный, эмоциональный и духовный спасательный круг, но и как целостный тоник душевного равновесия, дистиллированный в теле.Мьюир пишет, что задолго до того, как Уолт Уитмен разработал свою чудесную тренировку на свежем воздухе, оправляясь от паралитического инсульта, задолго до того, как Уильям Джеймс выдвинул свою революционную теорию о том, как наши тела влияют на наши чувства:
Искусство Маргарет К. Кук из редкого английского издания книги Уолта Уитмена « Leaves of Grass » 1913 года. (Доступен в виде распечатки.)Получите здоровье от страстных, героических упражнений, от свободных, напряженных приключений без беспокойства, с ритмичными движениями ног в бегах по валунам, требующими быстрого решения на каждом шагу. Преодоление ручьев, покалывание от прикосновений к телу, когда мы скользим по белоснежным склонам, покрытым плотным прижатым снегом чапаралем, наполовину плавание, полет или скольжение — все это является хорошими противодействующими раздражителями.Затем насладитесь абсолютным покоем и торжественностью деревьев и звезд … Найдите таинственное присутствие в тысяче скрытых вещей.
В другом фрагменте из его записной книжки в Йосемити с заголовком «Бабье лето» Колетт в сантиментах будет повторять через поколения в своей душевной медитации о великолепии осени и осени жизни как о начале, а не о начале жизни. упадок, — размышляет Мьюир над необычным, парадоксальным жизнеутверждением осени:
.Garden Supernovae Марии Поповой.(Доступен в виде отпечатка.)В желтом тумане неровные углы тают на камнях.Формы, линии, оттенки, отражения, звуки — все смягчается, и хотя время умирания, это также время цвета, время, когда вера в непоколебимость Природы является самой надежной … Все семена содержат следующее лето, некоторые из них им тысячи лет, как секвойя и кедр. В праздничном наряде все спокойно уходят в белую зиму, радуясь, явно полные надежды, верные… все принимая то, что приходит, и с нетерпением ждут будущего, как бы благочестиво говоря: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе!»
Через несколько отрывков он добавляет:
Земля не имеет печали, которые земля не могла бы исцелить или небеса не могли бы исцелить, потому что земля, видимая в чистых дебрях гор, настолько божественна, насколько человеческое сердце может вообразить!
Соедините полностью спасающее душу Иоанн Гор с кинематографической данью наследию дикой природы Мьюира, затем снова посетите Мэри Шелли о красоте природы как спасательном круге и других любимых писателях о мире природы как о лекарстве от депрессии .
Первопроходец в области социальных наук Джон Гарднер о том, как сохранить свою работу и свой дух в долгосрочной перспективе — Выбор мозга
В 1964 году плодовитый писатель по общественным наукам Джон У. Гарднер опубликовал книгу Самообновление: личность и инновационное общество ( публичная библиотека ) — забытую книгу необычайного предвидения и глубокой мудрости, которая сегодня звучит еще актуальнее. . Его необходимо прочитать как предпринимателям и лидерам, стремящимся придать своим организациям постоянную жизнеспособность, так и всем нам, индивидуально, на наших личных траекториях самопревосхождения и личностного роста.
Гарднер исследует, что нужно нам — как индивидуумам, как обществу, даже как цивилизации — для развития способности к самообновлению, столь важной для борьбы с «сухой гнилью, порожденной апатией, жесткостью и моральной пустотой», которая часто приходит с достижением определенного уровня благодушного комфорта или успеха. Ссылаясь на свою предыдущую книгу Excellence — столь же дальновидное исследование образовательной системы, ее перспектив и ограничений, а также роли высоких стандартов в воспитании характера — Гарднер пишет:
Высоких стандартов недостаточно.Есть виды совершенства — очень важные виды, которые не обязательно связаны со способностью к обновлению. Общество, достигшее вершин совершенства, может уже быть пойманным в тиски, которые его разрушат. Организация может придерживаться самых высоких стандартов и, тем не менее, уже погребена в самоуспокоенности, которая в конечном итоге приведет к ее упадку.
И все же, отмечая, что «социальное обновление зависит в конечном итоге от людей», Гарднер пишет:
Иллюстрация Туве Янссон к фильму «Алиса в стране чудес». Нажмите на изображение, чтобы увидеть больше.Если общество надеется на обновление, оно должно быть гостеприимной средой для творческих мужчин и женщин.Это также должно будет произвести на свет мужчин и женщин, способных к самообновлению … Мужчинам и женщинам не нужно впадать в ступор ума и духа к тому времени, когда они станут средним возрастом. Им не нужно отказываться от жизнестойкости молодежи и способности учиться и расти.
Самовосстановление, отмечает он, требует определенной уступчивости — как Э. Уайт написал в своем прекрасном письме к человеку, потерявшему веру в человечество, : «Пока есть один честный мужчина, пока есть одна сострадательная женщина, зараза может распространяться, и сцена не будет пустынной. Гарднер утверждает:
Обновление обществ и организаций может продолжаться только в том случае, если кому-то небезразлично. Апатия и пониженная мотивация — наиболее известные характеристики цивилизации, идущей вниз.
Позже он добавляет:
Каждый, кто занимается своей карьерой или работает неполный рабочий день, должен делать что-то , о чем он глубоко заботится. И если он хочет вырваться из тюрьмы себя, это должно быть что-то не эгоцентрическое по своей природе.
[…]
Учреждения обновляются людьми, которые отказываются довольствоваться внешней оболочкой вещей. И самообновление требует примерно такого же нетерпения к пустым формам.
Гарднер утверждает, что самообновление невозможно, «если мы поделитесь видением того, что стоит спасти »и пишет:
Если мы не будем соблюдать требования обновления, стареющие институты и организации в конечном итоге приведут нашу цивилизацию к разрушению.Если мы не справимся с методами, которыми современное общество угнетает личность, мы потеряем творческую искру, которая обновляет как общества, так и [людей]. Если мы не будем поощрять разносторонних, новаторских и самообновляющихся мужчин и женщин, все гениальные социальные механизмы в мире нам не помогут.
Повторяя призыв Бакминстера Фуллера против специализации и знаменитый афоризм Фрэнка Ллойда Райта о том, что «эксперт — это человек, который перестал думать, потому что« он знает »».
Иллюстрация Мориса Сендака из книги Рут Краусс «День открытых дверей для бабочек». Щелкните изображение, чтобы узнать больше.Общество приходит в упадок, когда его институты и индивиды теряют свою жизнеспособность.
[…]
Когда организации и общества молоды, они гибки, подвижны, еще не парализованы жесткой специализацией и готовы хоть раз попробовать что-нибудь. По мере того как организация или общество стареют, жизнеспособность уменьшается, гибкость уступает место жесткости, творческий подход угасает, и возникает потеря способности встречать вызовы с неожиданных сторон. Вспомните об адаптивности молодежи и о том, как эта адаптивность уменьшается с годами. Вспомните энергичность и безрассудство некоторых новых организаций и обществ — например, наших собственных приграничных поселений — и подумайте о том, как часто эти качества похоронены под тяжестью традиций и истории.
Указывая на открытость младенца к опыту и постепенному приобретению привычек для навигации по миру, Гарднер повторяет вневременную мудрость Генри Миллера о секрете сохранения молодости душой и пишет:
Каждая приобретенная позиция или привычка, какими бы полезными они ни были, делают [младенца] немного менее восприимчивым к альтернативным способам мышления и действий. Он становится более компетентным для работы в собственной среде, менее адаптируемым к изменениям.
Все это, кажется, наводит на мысль, что главный вопрос — как оставаться молодым. Но молодость подразумевает незрелость. И хотя все хотят быть молодыми, никто не хочет оставаться незрелыми. К сожалению, как узнали многие ищущие молодежь, эти два аспекта взаимосвязаны.
Отсюда возникает естественный вопрос о том, как можно «продвигаться к зрелости, не продвигаясь к жесткости и старости», на который Гарднер отвечает:
Может быть момент, когда сырая молодая жизненная сила, зрелая компетентность и мудрость достигают своего рода идеального баланса, но в этот момент нет возможности заморозить изменения, как можно остановить движение в домашнем кино.В этих процессах нет ничего статичного.
И снова здесь вспоминается памятное наблюдение Генри Миллера о том, что «все есть творение, все есть изменения, все потоки, все метаморфозы», , а также его давний любовник и друг на всю жизнь Анаис Нин, защищающий жидкое «я». Гарднер возвращает этот парадокс к идее жизненно самообновляющегося общества:
В постоянно обновляющемся обществе важна система или рамки, в которых могут происходить непрерывные инновации, обновление и возрождение.
И все же, как отмечает Гарднер, сделав оговорку, что сегодня это становится все более актуальным, важно понимать, что обновление отличается от «инноваций», оно более масштабно и интегрировано со всем микрокосмом жизни, в большей степени основанное на понимании того факта, что все основывается на том, что было раньше:
Обновление — это не просто инновации и изменения. Это также процесс приведения результатов изменений в соответствие с нашими целями. Когда наши предки изобрели автомобиль, им пришлось разработать правила дорожного движения.Оба являются этапами обновления. Когда расширение городов угрожает хаосу, мы должны возродить наши концепции городского планирования и столичного правительства.
Как бы мы ни были загипнотизированы идеей перемен, мы должны остерегаться представления о том, что преемственность является ничтожным — если не предосудительным — фактором в истории человечества. Это жизненно важный ингредиент в жизни людей, организаций и обществ. Особенно важны для непрерывности общества его долгосрочные цели и ценности. Эти цели и ценности также развиваются в долгосрочной перспективе; но, будучи относительно прочными, они позволяют обществу воспринимать изменения, не теряя своего отличительного характера и стиля.Они многое делают для определения направления изменений. Они гарантируют, что общество не будет бить во всех направлениях каждым дующим ветром.
Разумный взгляд на эти вопросы видит бесконечное переплетение преемственности и изменений.
[…]
Единственно возможная устойчивость — это устойчивость в движении.
Гарднер продолжает исследовать все способы, которыми мы заключаем себя в тюрьму — то, что Альбер Камю размышлял десятью годами ранее — и исследует «собственную замысловато спроектированную, построенную самостоятельно тюрьму [и] неспособность к самообновлению.В одном особенно интересном отрывке он указывает на жанр вступительной речи — возможно, на современную светскую проповедь — как на свидетельство того, как жизнь толкает нас от способности к самообновлению к хронической жесткости, если мы не остерегаемся от нее. наиболее распространенное начальное сообщение — продолжать расти и никогда не останавливаться, и все же Гарднер отмечает, что многие из широко раскрытых получателей этого сообщения «полностью мумифицированы» к среднему возрасту, и «даже некоторые люди, произносящие речи, мумифицированы.Он считает, что играет:
По мере взросления мы постепенно сужаем объем и разнообразие нашей жизни. Из всех интересов, которые мы могли бы преследовать, мы останавливаемся на нескольких. Из всех людей, с которыми мы могли бы общаться, мы выбираем небольшое число. Мы попадаем в сеть фиксированных отношений. Мы разрабатываем установленные способы ведения дел.
За полвека до того, как современная когнитивная наука открыла то же самое, Гарднер наблюдает одну из наших самых токсичных экзистенциальных тенденций:
Иллюстрация из «Книги лондонских джунглей» Бхаджу Шьяма. Щелкните изображение, чтобы узнать больше.С годами мы смотрим на привычное окружение со все меньшей свежестью восприятия.Мы больше не смотрим бодрствующим проницательным взглядом на лица людей, которых видим каждый день, или на какие-либо другие особенности нашего повседневного мира.
Повторяя идеал чудесной книги London Jungle Book , Гарднер отмечает, что яркие впечатления от путешествий так привлекательны для большинства из нас именно потому, что они предлагают такую «свежесть восприятия»:
Дома мы потеряли способность видеть то, что перед нами.Путешествие выводит нас из апатии, и мы вновь обретаем внимательность, которая усиливает каждый опыт. У восторга от путешествия есть много источников, но, несомненно, один из них заключается в том, что мы в какой-то мере возвращаем неиспорченное сознание детей.
Итак, что мы можем сделать, чтобы «предотвратить укрепление артерий», которое атакует как общества, так и отдельных людей? За несколько десятилетий до новаторской работы психолога из Стэнфорда Кэрол Двек о «росте» и «фиксированном» мышлении Гарднер предлагает поразительно похожую схему для понимания и улучшения нашей способности к самообновлению:
Большинство людей проживают свою жизнь лишь частично, осознавая весь спектр своих способностей.
[…]
Большинство способностей не так легко вызываются обычными жизненными обстоятельствами. «Безмолвные бесславные Мильтоны» более многочисленны, чем можно было бы предположить, особенно в эпоху, когда даже красноречивый Мильтон может остаться незамеченным и уж точно не вознагражденным. У большинства из нас есть возможности, которые никогда не реализовывались просто потому, что обстоятельства нашей жизни никогда не вызывали их.
Исследование всего спектра собственных возможностей — это не то, что самообновляющийся человек оставляет на произвол судьбы.Это то, чем он занимается систематически или, по крайней мере, с жадностью до конца своих дней. Он с нетерпением ждет бесконечного и непредсказуемого диалога между своими возможностями и требованиями жизни — не только утверждениями, с которыми он сталкивается, но и утверждениями, которые он изобретает. И под потенциальными возможностями я подразумеваю не только навыки, но и весь спектр его способностей к ощущению, удивлению, обучению, пониманию, любви, стремлению.
Гарднер утверждает, что одним из предварительных условий для самообновления является самопознание — что особенно актуально сегодня, когда мы настолько заняты продуктивностью, что пренебрегаем присутствием, убаюкивая себя в трансе , делая , как мы забываем. до будет , исчезнув из нашей собственной жизни.Гарднер пишет:
Мы можем быть такими занятыми, наполнить нашу жизнь множеством развлечений, набить себе голову таким количеством знаний, вовлечься в такое количество людей и покрыть столько земли, что у нас никогда не будет времени исследовать ужасный и чудесный мир внутри … К среднему возрасту большинство из нас стали беглецами от самих себя.
[…]
Человек, ставший чужим самому себе, утратил способность к подлинному самообновлению.
Связано с самопознанием и не менее важно для нашей способности к самообновлению, является развитие нашей способности любить, а также нашей способности к дружбе.Гарднер пишет:
Еще одна характеристика самообновляющегося человека — это то, что он поддерживает взаимовыгодные отношения с другими людьми. Он способен принять любовь и дать ее — и то и другое — более трудные достижения, чем принято думать. Он способен зависеть от других и зависеть от него. Он может видеть жизнь чужими глазами и чувствовать ее сердцем …
Мужчина или женщина, которые не могут достичь этих отношений, заключены в тюрьму, отрезаны от большей части мира опыта.Радость и страдания тех, кого мы любим, — это часть нашего собственного опыта. Мы чувствуем их победы и поражения, их надежды и страхи, их гнев и жалость, и наша жизнь становится богаче от этого…
Любовь и дружба растворяют жесткость изолированного «я», вызывают новые взгляды, изменяют суждения и поддерживают в рабочем состоянии эмоциональный субстрат, на котором должно покоиться любое глубокое понимание человеческих дел.
Полвека спустя, Самовозобновление остается замечательным и проницательным чтением в целом — Гарднер продолжает исследовать, как мы можем оптимизировать нашу способность к самообновлению, понимая его препятствия и основные условия, пределы индивидуальности , как наше отношение к будущему влияет на него, его связь с творчеством и инновациями и многое другое.Дополните его еще одним замечательным чтением о том, как научиться видеть знакомый мир новыми глазами.
PBS — ДЖОН ГАРДНЕР — ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕВОСХОДСТВО
«Персональное продление»
доставлено в McKinsey & Company, Феникс, Аризона
10 ноября 1990 г.
Я собираюсь поговорить о «Самостоятельном продлении». Одна из ваших самых фундаментальных задач — это обновление организаций, которым вы служите, и это обычно включает в себя убеждать высшее руководство совершить определенное самообновление.Но помочь вам думать о других — не моя главная задача сегодня утром. Я хочу помочь вам подумать о себе.
Я очень серьезно отношусь к этой миссии, и я записал то, что я должен сказать, потому что я хочу, чтобы каждое предложение достигло своей цели. Я хорошо знаю, какую работу вы выполняете, и знаю, насколько она требовательна. Но я не собираюсь говорить об особых проблемах вашей карьеры; Я собираюсь поговорить о некоторых основных проблемах жизненного цикла, которые наверняка поразят вас, если вы к ним не готовы.
Однажды я написал книгу под названием «Самовосстановление», в которой говорится о разложении и обновлении обществ, организаций и отдельных лиц. Я исследовал вопрос о том, почему цивилизации умирают и как они иногда обновляются, а также загадку, почему одни мужчины и женщины уходят в землю, а другие остаются жизненно важными на протяжении всей своей жизни. Это последний вопрос, которым я сейчас займусь. Я знаю, что вы как личность не собираетесь сеять. Но человеку, сидящему справа, может грозить довольно серьезная опасность.
Не так давно я прочитал замечательную статью о ракушках. Я не хочу создавать неправильное впечатление о моих читательских интересах. Иногда проходят дни, когда я не читаю о ракушках, не говоря уже о том, чтобы вспомнить то, что я читал. Но у этой статьи был незабываемый начальный абзац. «Моллюск, — объяснил автор, — сталкивается с экзистенциальным решением о том, где он будет жить. Как только он решит … он проводит остаток своей жизни, прикрепив голову к камню …» Конец цитаты.Для многих из нас это доходит до этого.
Мы все видели мужчин и женщин, даже если им повезло, занимая ответственные должности, и которые, кажется, выдыхались в середине карьеры.
К причинам нужно относиться с состраданием. Возможно, жизнь просто поставила перед ними более сложные проблемы, чем они могли решить. Такое случается. Возможно, что-то нанесло серьезный урон их уверенности или их самооценке. Возможно, они были сбиты с толку скрытыми обидами и обидами, которые растут во взрослой жизни, иногда настолько пышно, что, как спутанные лозы, они обездвиживают жертву.Вы знали таких людей — они чувствовали себя тайно побежденными, возможно, несколько кислыми и циничными, а может быть, просто слегка подавленными. Или, может быть, они просто так долго бегали, что где-то по ходу дела забыли, для чего бежали.
Я не говорю о людях, которым не удается достичь вершин в достижениях. Мы не можем все добраться до вершины, и это все равно не в этом смысл жизни. Я говорю о людях, которые — какими бы занятыми они ни казались — перестали учиться или расти.Многие из них просто двигаются. Я не высмеиваю это. Жизнь тяжела. Просто продолжать идти вперед — иногда проявление смелости. Но меня беспокоит то, что мужчины и женщины функционируют намного ниже своего потенциала.
Мы должны признать тот факт, что большинство мужчин и женщин в мире труда более несвежие, чем они думают, им больше скучно, чем они хотели бы признать. Скука — это секретная болезнь крупных организаций. Кто-то сказал мне на днях: «Как мне может быть так скучно, когда я так занят?» И я сказал: «Дайте мне посчитать пути.«Логан Пирсолл Смит сказал, что скука может превратиться в мистический опыт, и если это правда, я знаю некоторых очень занятых руководителей среднего звена, которые принадлежат к числу великих мистиков всех времен.
Нельзя сбрасывать со счетов опасность самоуспокоенности, растущей жесткости, лишения свободы нашими собственными привычками и мнениями. Оглянись. Сколько людей, которых вы хорошо знаете, — людей даже моложе вас — уже застряли в застывших взглядах и привычках. Известный французский писатель сказал: «Есть люди, часы которых останавливаются в определенный момент их жизни.»Я мог бы без проблем назвать полдюжины национальных деятелей, проживающих в Вашингтоне, округ Колумбия, которых вы бы узнали, и мог бы приблизительно назвать год, когда их часы остановились. Я не буду этого делать, потому что мне все еще приходится иметь с ними дело периодически.
Я наблюдал за многими людьми среднего возраста, и Йоги Берра говорит, что вы можете многое увидеть, просто наблюдая. Я пришел к выводу, что большинству людей нравится учиться и расти. И многих сильно беспокоит самооценка в середине карьеры.
Такие самооценки не проблема в вашем возрасте.Вы молоды и продвигаетесь. Достаточно драмы собственного восхождения. Но когда вы достигнете среднего возраста, когда ваша энергия станет не такой, как раньше, вы начнете задаваться вопросом, к чему все это привело; вы начнете искать фигуру на ковре своей жизни. У меня есть для вас несколько простых советов, когда вы начнете этот процесс. Не будьте к себе слишком строги. Смотреть вперед. Кто-то сказал, что «Жизнь — это искусство рисовать без ластика». И прежде всего не думайте, что история окончена. В жизни много глав.
Если мы осознаем опасность посева, мы можем прибегнуть к компенсационным мерам. Практически в любом возрасте. Вам не нужно убегать, как размотанные часы. А если ваши часы заведены, вы можете снова завести их. Вы можете оставаться в живых во всех смыслах этого слова, пока не потерпите физическую неудачу. Я знаю некоторых довольно успешных людей, которые считают, что для них это просто невозможно, что жизнь их загнала в ловушку. Но на самом деле они этого не знают. Жизнь принимает неожиданные повороты.
В своей книге «Самовосстановление» я сказал, что мы строим свои собственные тюрьмы и сами выполняем функции тюремных надзирателей.Я больше не полностью согласен с этим. Я по-прежнему считаю, что мы сами себе тюремщики, но пришел к выводу, что наши родители и общество в целом приложили руку к строительству наших тюрем. Они создают для нас роли — и образы самих себя — которые надолго удерживают нас в плену. Индивидуальному намерению самообновления придется иметь дело с призраками прошлого — памятью о прошлых неудачах, остатками детских драм и восстаний, накопившимися обидами и обидами, которые давно пережили свое дело.Иногда люди цепляются за призраков с чем-то почти приближающимся к удовольствию, но тормозящий эффект неизбежен. Как сказал Джим Уитакер, поднявшийся на Эверест, «вы никогда не покорите гору, вы покорите только себя».
Чем больше я вижу человеческих жизней, тем больше я верю, что бизнес взросления затягивается гораздо дольше, чем мы думаем. Если мы добьемся этого в 30 или даже 40 лет, у нас все хорошо. Тем из вас, кто является родителями подростков, я могу только сказать: «Извините за это.»
Существует миф о том, что обучение — для молодежи. Но, как гласит пословица, «важно то, что вы узнаете после того, как узнаете все». Средние годы — отличные годы, отличные годы обучения. Даже годы, прошедшие после средних лет. После 77-летия я устроился на новую работу — и все еще учусь.
Учись всю жизнь. Учитесь на своих неудачах. Учитесь на своих успехах. Когда вы попадаете в беду, спрашивайте: «Чему он пытается меня научить?» Уроки не всегда приносят радость, но они продолжаются.Неплохая идея время от времени останавливаться, чтобы взглянуть внутрь себя. К среднему возрасту большинство из нас уже бегло от правосудия.
Мы учимся на работе, у друзей и родственников. Мы учимся, принимая жизненные обязательства, играя роли, которые нам дает жизнь (не обязательно роли, которые мы выбрали бы). Мы учимся, становясь старше, страдая, любя, терпя то, что мы не можем изменить, рискуя.
То, что вы изучаете в зрелом возрасте, — это не простые вещи, такие как приобретение информации и навыков.Вы учитесь не заниматься саморазрушающим поведением. Вы наклонились, чтобы не сжечь энергию в тревоге. Вы узнаете, как управлять своим напряжением, если оно у вас есть, и вы это делаете. Вы узнаете, что жалость к себе и обида — одни из самых ядовитых наркотиков. Вы обнаруживаете, что мир любит талант, но расплачивается за его характер.
Вы начинаете понимать, что большинство людей не за вас и не против вас, они думают о себе. Вы узнаете, что как бы сильно вы ни старались доставить удовольствие, некоторые люди в этом мире не полюбят вас — урок, который сначала беспокоит, а затем действительно расслабляет.
Это вещи, которым трудно научиться в раннем возрасте. Как правило, вам нужно наметить некоторый пробег и несколько вмятин на крыльях, прежде чем вы поймете. Как сказал Норман Дуглас: «Есть некоторые вещи, которым нельзя научиться у других. Вы должны пройти через огонь».
Вы соглашаетесь с самим собой. Вы, наконец, понимаете, что имел в виду С. Н. Берман, когда сказал: «В конце каждой дороги вы встречаетесь сами». Возможно, вы не избавитесь от всех своих привязанностей, но вы научитесь контролировать их до такой степени, что сможете работать продуктивно и не причинять вреда другим.
Вы изучаете искусство взаимозависимости, удовлетворяя потребности близких и позволяя себе нуждаться в них. Вы даже можете оставаться равнодушными — качество, на приобретение которого часто уходят годы. Вы можете добиться простоты, которая выходит за рамки изысканности.
Вы начинаете понимать свое влияние на других. Интересно, что даже на первом году жизни вы узнаете влияние, которое оказывает на вас множество других людей, но уже в среднем возрасте многие люди очень несовершенно понимают влияние, которое они сами оказывают на других.Враждебный человек продолжает спрашивать: «Почему с людьми так трудно ладить?» В некоторой степени мы создаем нашу собственную среду. Возможно, вы еще не осознаете силу этой истины, которая может изменить вашу жизнь.
Конечно, неудачи — тоже часть истории. Все терпят поражение, сказал Джо Луис: «Каждый должен сообразить, чтобы его победили». Вопрос не в том, проиграли ли вы, а в том, собрались ли вы и двигались вперед? И есть еще один небольшой вопрос: «Вы участвовали в собственном поражении?» Многие люди так делают.Научитесь не делать этого.
Один из врагов здоровой мотивации на всю жизнь — это довольно детское представление о конкретной, поддающейся описанию цели, к которой нас ведут все наши усилия. Мы хотим верить, что есть точка, в которой мы можем почувствовать, что пришли. Нам нужна система подсчета очков, которая сообщает нам, когда мы накопили достаточно очков, чтобы считать себя успешными.
Итак, вы карабкаетесь, потеете и карабкаетесь, чтобы достичь своей цели. Когда вы добираетесь до вершины, вы встаете и оглядываетесь и, скорее всего, чувствуете себя немного пустым.Может быть, более чем немного пусто.
Вы задаетесь вопросом, не забрались ли вы не на ту гору.
Но жизнь — это не гора с вершиной, и это не загадка, как некоторые предполагают. Ни игры с окончательным счетом.
Жизнь — это бесконечное разворачивание, и, если мы хотим, бесконечный процесс самопознания, бесконечный и непредсказуемый диалог между нашими собственными возможностями и жизненными ситуациями, в которых мы находимся. Под потенциальными возможностями я подразумеваю не только интеллектуальные дары, но и весь спектр способностей человека к обучению, ощущению, удивлению, пониманию, любви и стремлению.
Возможно, вы вообразите, что к 35, 45 или даже 33 годам вы полностью раскрыли свои возможности. Не обманывай себя!
Вы должны понимать, что способности, которые вы действительно развиваете в полной мере, проявляются в результате взаимодействия между вами и жизненными проблемами, а проблемы продолжают меняться. Жизнь что-то вытягивает из вас.
Я знаю о вас кое-что, что вы можете знать или не знать о себе. У вас внутри больше ресурсов энергии, чем когда-либо использовалось, больше талантов, чем когда-либо использовалось, больше силы, чем когда-либо испытывалось, больше, чтобы дать, чем вы когда-либо давали.
Вы знаете о некоторых дарах, которые вы оставили неразвитыми. Вы бы поверили, что у вас есть дары и возможности, о которых вы даже не подозреваете? Это правда. Мы только начинаем осознавать, как даже те, кто имел все преимущества и возможности, бессознательно ограничивают свой собственный рост, недооценивают свои возможности или прячутся от риска, связанного с ростом.
Я уже довольно подробно говорил о продлении, но невозможно говорить о продлении, не затрагивая тему мотивации.Кто-то определил лошадиное чутье как здравый смысл лошадей, который не позволяет им делать ставки на людей. Но мы должны делать ставку на людей — и я чаще делаю ставку на высокую мотивацию, чем на любое другое качество, кроме суждения. Не существует совершенства техник, которые могли бы заменить подъем духа и повышение производительности, происходящее от сильной мотивации. Миром движут высокомотивированные люди, энтузиасты, мужчины и женщины, которые чего-то очень хотят или очень верят.
Я не говорю ни о чем столь узком, как амбиции. В конце концов, амбиции со временем изнашиваются, и, вероятно, должны. Но вы можете сохранить свою изюминку до самой смерти. Если я могу предложить вам простую максиму: «Будь интересным», каждый хочет быть интересным, но самое важное — это заинтересованность. Сохраняйте любопытство. Открывайте для себя новые вещи. Забота. Риск отказа. Протяни руку.
Природа личных обязательств является мощным элементом обновления, поэтому позвольте мне сказать несколько слов по этому поводу.
Однажды я жил в доме, где я мог смотреть в окно, когда я работал за своим столом и наблюдал за небольшим стадом скота, пасущимся на соседнем поле. И меня поразила мысль, которая, должно быть, пришла в голову первым пастухам десятки тысяч лет назад. Никогда не создается впечатление, что у коровы вот-вот случится нервный срыв. Или ломает голову над смыслом жизни.
Люди никогда не справлялись с таким самоуспокоением. Мы беспокоимся и загадываем загадки, и мы хотим смысла в нашей жизни.Я не идеалистически говорю; Я констатирую очевидный факт о мужчинах и женщинах. Это редкий человек, который может идти по жизни, как бездомный бродячий кот, живя изо дня в день, находя удовольствия там, где может, и умирая незамеченной.
Это не означает, что мы не все знали нескольких аллейных кошек. Но это не норма. Просто мы устроены не так.
Как сказал Роберт Льюис Стивенсон: «Стар или молод, мы в нашем последнем круизе». Мы хотим, чтобы это что-то значило.
Для многих эта жизнь — юдоль слез; ибо никто не свободен от боли. Но мы устроены так, что можем справиться с этим, если сможем жить в каком-то смысловом контексте. Обладая этой мощной помощью, мы можем использовать глубокие источники человеческого духа, чтобы увидеть наши страдания в рамках всех человеческих страданий, принять дары жизни с благодарностью и с достоинством перенести жизненные унижения.
В стабильные исторические периоды смысл поставлялся в контексте сплоченных сообществ и традиционно предписанных образцов культуры.Сегодня нельзя рассчитывать на такое наследие. Вы должны придать смысл своей жизни, и вы строите его через свои обязательства — будь то ваша религия, этический порядок в том виде, в каком вы его понимаете, работа своей жизни, любимые люди, люди. Молодые люди бегают в поисках идентичности, но ее больше не раздают бесплатно — не в этом преходящем, лишенном корней, плюралистическом обществе. Ваша личность — это то, чему вы посвятили себя.
Это может просто означать, что лучше делать то, что вы делаете.Есть мужчины и женщины, которые делают мир лучше, просто оставаясь такими людьми, и это тоже своего рода обязательство. У них есть дар доброты, храбрости, верности или порядочности. Не имеет большого значения, за рулем грузовика они, в загородном магазине или воспитывают семью.
Я должен сделать паузу, чтобы сказать несколько слов о своем заявлении: «Есть мужчины и женщины, которые делают мир лучше, просто будучи такими людьми». Я впервые написал это предложение несколько лет назад, и его много цитировали.Однажды я просматривал каталог подарков по почте, и он включал несколько небольших декоративных бронзовых бляшек с краткими высказываниями на них, и одно из высказываний было тем, которое я только что прочитал вам, с моим именем как автора. Что ж, я был настолько поражен идеей, что мой приговор будет отлит из бронзы, что заказал его, но потом не мог понять, что с ним делать. Я наконец отправил его другу.
Мы склонны думать о молодости и активном среднем возрасте как о годах преданности делу.Когда вы становитесь немного старше, вам говорят, что вы заслужили право думать о себе. Но это смертельный рецепт! Людям любого возраста нужны обязательства, выходящие за рамки их «я», им нужен смысл, который они дают. Эгоцентризм — это тюрьма, и это, наконец, знает каждый эгоцентричный человек. Приверженность более крупным целям может вывести вас из тюрьмы.
Еще одна важная составляющая мотивации — это отношение к будущему. Оптимизм сегодня немоден, особенно среди интеллигенции.Все над этим смеются. Кто-то сказал: «Пессимисты добились этого, финансируя оптимистов». Но я не настроен пессимистично и не советую. Как сказал этот парень: «Я был бы пессимистом, но это никогда не сработает».
Могу сказать, что для обновления лучше всего твердый оптимизм. Будущее не формируют люди, которые на самом деле не верят в будущее. Жизнеспособные мужчины и женщины всегда были готовы рискнуть своим будущим, даже своей жизнью, на рискованные предприятия с неизвестным исходом. Если бы все они посмотрели, прежде чем прыгнуть, мы бы все еще сидели в пещерах, рисуя изображения животных на стене,
Но я все же сказал твердый оптимизм.Большие надежды, разбитые первой неудачей, — это как раз то, что нам не нужно. Мы должны верить в себя, но не должны думать, что путь будет легким, это трудным. Жизнь мучительна, и дождь падает на праведников, и г-н Черчилль не был пессимистом, когда сказал: «Мне нечего предложить, кроме крови, труда, слез и пота». Он мог предложить гораздо больше, но как хороший лидер он говорил, что это будет нелегко, и он также говорил то, о чем постоянно говорят все великие лидеры: неудача — это просто повод для укрепления решимости.
Мы не можем мечтать об утопии, в которой все аранжировки идеальны и все безупречны. Жизнь бурна — бесконечные потери и восстановление равновесия, непрерывная борьба, а не гарантированная победа.
Нет ничего безопасного. Каждая важная битва ведется и переигрывается. Нам необходимо развить стойкий и неукротимый моральный дух, который позволит нам противостоять этим реалиям и при этом изо всех сил стремиться к победе. Вы можете задаться вопросом, не является ли такая борьба — бесконечная и неопределенный исход — чем-то большим, чем может вынести человек.Но вся история свидетельствует о том, что человеческий дух хорошо приспособлен к жизни именно в таком мире.
Помните, я упоминал ранее миф о том, что обучение — для молодежи. Я хочу привести вам несколько примеров. В статье, которую я недавно написал для Reader’s Digest, я привел то, что мне показалось особенно интересным истинным примером обновления. Этому мужчине было 53 года. Большая часть его взрослой жизни была проигранной борьбой с долгами и несчастьями. На военной службе он получил травму на поле боя, из-за которой ему не удалось использовать левую руку.И его схватили и держали в плену пять лет. Позже он работал на двух государственных должностях, ни на одной из них не преуспел. В 53 года он попал в тюрьму — и не в первый раз. Там, в тюрьме, он решил написать книгу, движимый Богом ведомым мотивом — скукой, надеждой на выгоду, эмоциональной разрядкой, творческим порывом, кто может сказать? И эта книга оказалась одной из величайших из когда-либо написанных, книгой, которая очаровывала мир на протяжении 350 лет. Заключенным был Сервантес; книга: Дон Кихот.
Другой пример — Папа Иоанн XXIII, серьезный человек, которому есть над чем посмеяться.Сын крестьян-фермеров, он однажды сказал: «В Италии есть три пути к бедности — питье, азартные игры и веером. Моя семья выбрала самый медленный из трех». Когда кто-то спросил его, сколько людей работает в Ватикане, он ответил: «О, примерно половина». Ему было 76 лет, когда его избрали Папой. На протяжении всей жизни в бюрократии искра духа и воображения оставалась неизменной, и когда он достиг вершины, он начал самое энергичное обновление, которое Церковь знала в этом столетии.
Еще один пример — Уинстон Черчилль. В 25 лет, будучи корреспондентом англо-бурской войны, он стал военнопленным, и его драматический побег сделал его национальным героем. Избранный в парламент в 26 лет, он блестяще выступил, с отличием занимал высокие посты в правительстве, а в 37 стал первым лордом Адмиралтейства. Затем он был несправедливо дискредитирован экспедицией Дарданеллы — поражением при Галлиполи — и потерял свой адмиралтейский пост. Последовали 24 года взлетов и падений.Слишком часто ему выносили вердикт: «Блестящий, но неустойчивый … не устойчивый, ненадежный». Он должен был винить только себя. Один друг описал его как человека, который шагает по жизни неспокойным путем. Ему было 66 лет, когда наступил момент его цветения. Кто-то сказал: «Это нормально, если вы не пропустите цветочное шоу». Черчилль этого не пропустил.
Ну, больше примеров приводить не буду. Из тех, что я дал, я надеюсь, вам ясно, что дверь возможностей на самом деле не закрывается, пока вы достаточно здоровы.И я имею в виду не просто возможность для высокого статуса, но возможность расти и обогащать свою жизнь во всех аспектах. Вы просто не знаете, что вас ждет впереди. И помните слова на бронзовой доске: «Некоторые мужчины и женщины делают мир лучше, просто оставаясь такими же людьми». Чтобы быть таким человеком, стоило бы всех лет жизни и учебы.
Много лет назад я закончил свою речь абзацем о смысле жизни. Речь переиздавалась годами, и 15 лет спустя этот последний абзац вернулся ко мне довольно драматичным, поистине душераздирающим образом.
Человек написал мне из Колорадо, что его 20-летняя дочь погибла в автокатастрофе за несколько недель до этого, и что она несла в бумажнике отрывок из моей речи. Он сказал, что был благодарен, потому что абзац — и тот факт, что она держала его близко к себе — сказал ему то, что он иначе мог бы не знать о ее ценностях и заботах. Не могу представить, где и как она наткнулась на этот абзац, но вот он:
«Значение — это не то, на что вы спотыкаетесь, например, ответ на загадку или приз в поиске сокровищ.Смысл — это то, что вы встраиваете в свою жизнь. Вы строите его из своего прошлого, из своих привязанностей и привязанностей, из опыта человечества, который передается вам, из вашего собственного таланта и понимания, из того, во что вы верите, из вещей. и людей, которых вы любите, исходя из ценностей, ради которых вы готовы чем-то пожертвовать. Ингредиенты есть. Вы единственный, кто может объединить их в тот уникальный образец, который станет вашей жизнью. Пусть это будет жизнь, имеющая для вас достоинство и смысл.