АНТАГОНИСТ — это… Что такое АНТАГОНИСТ?
АНТАГОНИСТ — (греч. antagonistes, от anti против, и agonizomai борюсь). Противник, враг, гонитель чьего либо мнения. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АНТАГОНИСТ греч. antagonistes, от anti, против, и agonizomai,… … Словарь иностранных слов русского языка
антагонист — а, м. antagoniste m., лат. antagonista <гр.1. Противник (обычно в каком л. споре, оценках, мнениях, взглядах). Противник, соперник. Уш. 1935. Тот, кто находится в непримиримой борьбе с кем , чем л. Тот, кто высказывает суждения, диаметрально… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
антагонист — См … Словарь синонимов
АНТАГОНИСТ — АНТАГОНИСТ, антагониста, муж. (греч. antagonistes) (книжн.). Противник, соперник. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
АНТАГОНИСТ
 Непримиримый противник. | жен. антагонистка, и (разг.). | прил. антагонистский, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
Непримиримый противник. | жен. антагонистка, и (разг.). | прил. антагонистский, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожеговаантагонист — Организм (обычно патоген), который не причиняет хозяину значительного ущерба, но колонизация которым хозяина защищает последнего от серьёзного ущерба со стороны вредного организма (МСФМ № 3, 1996). [Mеждународные стандарты по фитосанитарным мерам … Справочник технического переводчика
Антагонист — См. также Антагонист (химия). Антагонист (лит.) персонаж (или группа персонажей) какого либо произведения, активно противодействующий протагонисту (или протагонистам) на пути к достижению его целей. В классической литературе роль антагониста… … Википедия
Антагонист — I м. Непримиримый противник. II м. см. антагонисты II III м. см. антагонисты III IV м. см. антагонисты IV Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф.
Антагонист — I м. Непримиримый противник. II м. см. антагонисты II III м. см. антагонисты III IV м. см. антагонисты IV Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Антагонист — I м. Непримиримый противник. II м. см. антагонисты II III м. см. антагонисты III IV м. см. антагонисты IV Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
Кто такой антагонист? Кто такой протагонист? Почему они всегда враждуют
Протагонист — это главный герой, центральное действующее лицо произведения. Протагонистом называют ведущего персонажа книги, фильма, компьютерной игры.
Протагонист в видеоигре Mirrors Edge — Фейт Коннорс (Faith Connors — от английского faith — «вера»)
Антагонист — это противник протагониста. Он противодействует главному герою, мешает ему достичь цели. Конфликт антагониста с протагонистом может служить одной из главных движущих сил произведения.
Он противодействует главному герою, мешает ему достичь цели. Конфликт антагониста с протагонистом может служить одной из главных движущих сил произведения.
Антагонист по ходу сюжета может перестать быть «противником» героя. А протагонист по воле автора способен превратиться в антагониста. Например, Аникан Скайуокер из «Звездных войн» в первых эпизодах выступает главным героем, а в последующих становится главным злодеем космической саги.
Дарт Вейдер и Люк Скайуокер — антагонист и протагонист в фильме «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»
Какие бывают антагонисты?
Антагонистом может быть и отдельный персонаж, и целая группа — например, банда, противостоящая главному герою. Нередко и в этом случае можно выделить «главного злодея» и считать антагонистом его.
Антагонистом может быть и обезличенная сила, с которой борется герой — стихийное бедствие, техногенная катастрофа, общество в целом.
Кадр из фильма-катастрофы «Послезавтра» (2004)
В классических произведениях протагонист — это положительный персонаж, а антагонист — отрицательный. Но не всегда противник главного героя выставлен злодеем. Он может заблуждаться, преследовать благородные цели или просто делать свою работу.
К примеру, в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» протагонист — ловкий мошенник в исполнении Леонардо Ди Каприо, а антагонист — преследующий его детектив в исполнении Тома Хэнкса.
Том Хэнкс и Леонардо ди Каприо — антагонист и протагонист в фильме «Поймай меня, если сможешь» (2002)
Роль антагониста различается в зависимости от жанра. В комедии он вольно или невольно вовлекает героя в комические ситуации. В триллере или фильме ужасов — создает угрозу. В любовных романах — мешает главным героям обрести счастье.
Антагонист и антигерой — в чем разница?
Антагониста не следует путать с антигероем. Антигерой — это протагонист, наделенным отрицательными качествами. Этот термин ввел в литературный оборот Ф.М. Достоевский. Пример антигероя в его творчестве — Родион Раскольников из «Преступления и наказания».
Антигерой — это протагонист, наделенным отрицательными качествами. Этот термин ввел в литературный оборот Ф.М. Достоевский. Пример антигероя в его творчестве — Родион Раскольников из «Преступления и наказания».
Примеры антигроев в литературе XX века — мошенник Остап Пендер из «12 стульев» И.Ильфа и Е. Петрова, социопат Алекс Лардж из романа Энтони Берджесса «Заводной апельсин» или темная сторона личности рассказчика — Тайлер Дерден из «Бойцовского клуба» Чака Паланика.
Тайлер Дерден в исполнении Брэда Питта в фильме «Бойцовский клуб» (1999)
Если в произведении действует антигерой, то его антагонист может быть положительным персонажем.
Кто такой ложный протагонист?
Случается, что автор сознательно обманывает читателя или зрителя, пользуясь их привычкой выделять какого-то героя в качестве протагониста. К примеру, так сделано в фильме «Психо» Альфреда Хичкока: сценарист вводит в сюжет ложного протагониста, заставляя думать, что это и есть центральный персонаж.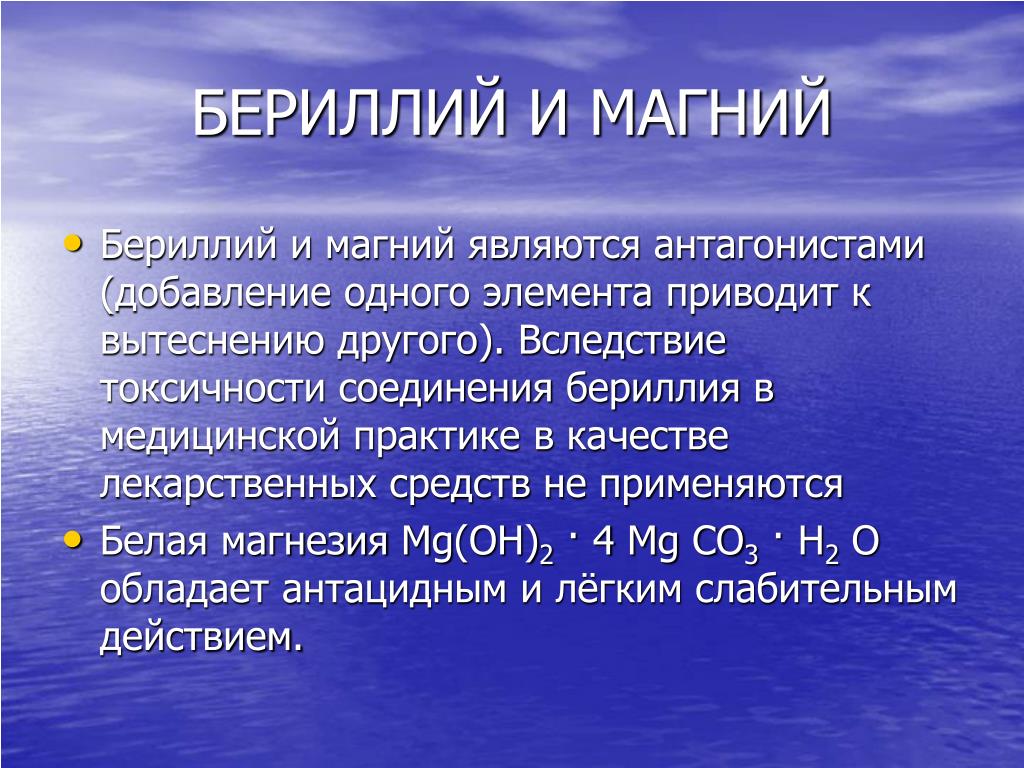
ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕР! Если вы еще не смотрели «Психо», лучше закончите чтение здесь.
«Психо» начинается с того, что секретарша Мэрион, похитив крупную сумму денег, сбегает из города. Зритель воспринимает ее как главную героиню. Однако когда Мэрион добирается до пригородного мотеля, там ее убивает маньяк. Настоящими главными героями оказываются сестра Мэрион — Лайла, и друг погибшей — Сэм.
Джанет Ли в роли Мэрион Крэйн — ложного протагониста в фильме «Психо» (1960)
Три стороны конфликта протагониста и антагониста
Три стороны конфликта протагониста и антагониста
«Сильная история основана на конфликте протагониста и антагониста».
«Твои протагонист и антагонист – это самые важные персонажи в сценарии».«Каждая сцена должна быть столкновением между ними».
Когда авторы подходят к проработке пары протагонист/антагонист в своем сценарии, они часто натыкаются на подобные клише, что в итоге создает довольно плоский, «черно-белый» конфликт, схематизм которого заметен и непрофессионалу.
Лучший способ избежать этого – ввести в сценарий персонажа, который символизирует, насколько высоки ставки в борьбе между протагонистом и антагонистом, и тем самым создать трехсторонний конфликт. Впрочем, мы забегаем немного вперед…
Автор должен быть уверен, что что-то угрожает не только главным героям, но и этому персонажу, если у них не получится достичь своей цели. Это обстоятельство не обязательно должно быть отражено в логлайне – но оно должно присутствовать в каждой сцене сценария.
Лучше всего думать о высоких ставках в сценарии как о некоем подобии «смерти». Умрет ли ваш персонаж, физически или духовно?
В боевиках/приключенческих фильмах, триллерах и хоррорах, главный протагонист может умереть буквально, в то время как в комедиях, драмах это случается скорее символически: например, персонаж не нашел свою истинную любовь и теперь «умирает внутри».
Возможная смерть придает тому, что желает герой, ощущение большей ценности.
Подобная схема – цели и риска – должна быть у каждого персонажа, но мы сконцентрируемся на трех: протагонисте, антагонисте, и том, кто выражает, что «на кону» в этом сценарии.
Вот несколько примеров такого трехстороннего конфликта в каждом из пяти больших жанров:
Драма: Джерри Магуайер
Джерри (протагонист), хочет возродить свою карьеру независимого спортивного агента, чему противостоит он сам и Род Тидвелл (антагонист), который присоединяется к этому предприятию и заставляет его измениться. Отношения Джерри с Дороти (то, что «на кону») показывают истинную цель Джереми – а не его первоначальную ложную цель.
Комедия: Девичник в Вегасе
Энни хочет привести свою жизнь в порядок, в то время как ей надо быть подружкой невесты на свадьбе своей лучшей подруги. Ей мешает она сама и Хелен, которая хочет занять ее место. На кону дружба Энни с Лилиан – невестой.
Боевик/приключения: Искатели утраченного ковчега
Инди хочет найти ковчег. Беллок и нацисты также его ищут. Мэрион, которая представляет собой конец мира, если Беллок и нацисты захватят ковчег, и которая также может спасти Инди от смерти.
Беллок и нацисты также его ищут. Мэрион, которая представляет собой конец мира, если Беллок и нацисты захватят ковчег, и которая также может спасти Инди от смерти.
Триллер: Птичий короб
Мэлори (протагонист) пытается спасти своих детей (то, что «на кону» — не только как дети Мэлори, но и как выживание человечества) от некоей силы (протагонист), которая заставляет людей совершать самоубийство.
Хоррор: Счастливого Дня смерти
Три хочет, чтобы ее день перестал повторяться, но этого не хочет убийца, охотящийся за Три. «На кону» Картер, который представляет жизнь за пределами Три, преследуемой убийцей и повторяющей каждый свой день снова и снова.
Теперь самое время удостовериться, что три главных элемента – протагонист, антагонист и персонаж, который символизирует собой то, что стоит «на кону» — работают так, как надо в этом трехстороннем конфликте.
Очень частая ошибка в сценариях, написанных по собственной инициативе, это то, что есть явный протагонист, который и не пытается достигнуть чего-либо в борьбе с сильным антагонистом.
Но еще чаще этого выпадает тот самый персонаж – символ «ради чего». Для того, чтобы укрепить структуру сценария, необходимо ответить на вопросы:
С чем борется мой главный герой, чтобы достичь своей цели?
Кто или что мешает ему?
Что «на кону»? И кто именно воплощает это собой в сценарии?
Если у вас нет готовых ответов на эти три вопроса – то скорей всего что-то не так на уровне самого концепта сценария, и необходимо подумать над ними – это может решить проблему. Когда сценаристов спрашивают, как бы они определили «высокие ставки» в сценарии, они обычно отвечают: нужно удостовериться, что персонажу есть что терять, если он не достигнет своей цели. Тем не менее, этой схемы часто недостаточно, если отсутствует третья сторона конфликта.
Как только читателю станет ясно, что главный герой и его противник борются за что-то конкретное – и это «что-то» выражено в третьем персонаже – ключевой конфликт и сама история станут восприниматься намного лучше.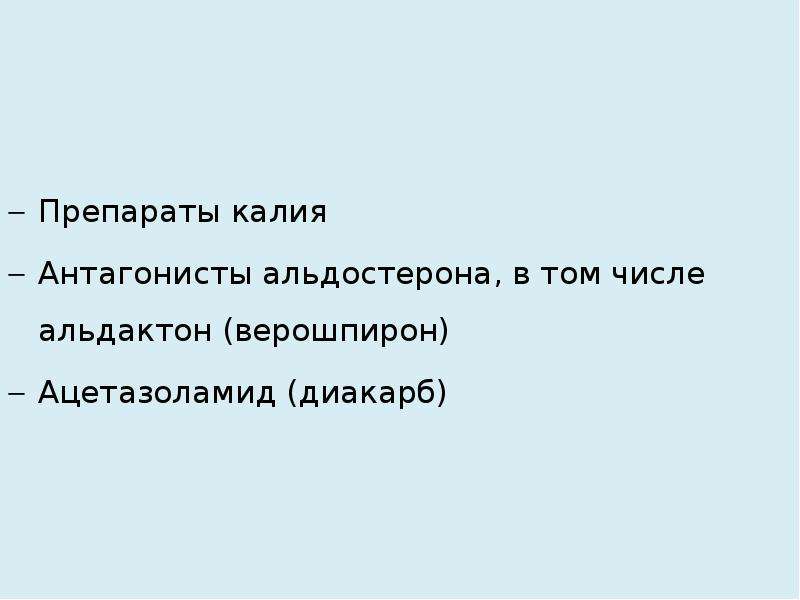
Антагонисты АТ 1 -рецепторов ангиотензина II, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента в регуляции гемодинамики и активности ренинангиотензин-альдостероновой системы. Фокус на органопротективные эффекты | Максимов
1. Naylin Bissessor and Harvey White. Valsartan in the treatment of heart failure or left ventricular dysfunction after myocardial infarction. Vasc Health Risk Manag 2007; 3(4): 425-30.
2. Ortlepp J.R., Vosberg H.P., Reith S. et al. Genetic polymorphisms in the renin-angiotensin-aldosterone system associated with expression of left ventricular hypertrophy in hypertrophic cardiomyopathy: a study of five polymorphic genes in a family with a disease causing mutation in the myosin binding protein C gene. Heart 2002; 87(3): 270-5.
3. Funatsu H., Yamashita H., Nakanishi Y., Hori S. Angiotensin II and vascular endothelial growth factor in the vitreous fluid of patients with proliferative diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 2002; 86(3): 311-5.
Funatsu H., Yamashita H., Nakanishi Y., Hori S. Angiotensin II and vascular endothelial growth factor in the vitreous fluid of patients with proliferative diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 2002; 86(3): 311-5.
4. Feman S.S., Mericle R.A., Reed G.W. et al. Serum angiotensin converting enzyme in diabetic patients. Am J Med Sci 1993; 305: 280-4.
5. Wagner J., Danser A.H.J., Derkx F.H.M. et al. Demonstration of renin mRNA, angiotensinogen mRNA, and angiotensin converting enzyme mRNA expression in the human eye: evidence for an intraocular renin-angiotensin system. Br J Ophthalmol 1996; 80: 159-63.
6. Мареев В.Ю. Новые достижения в оптимизации лечения хронической сердечной недостаточности. Кардиология 1997; 12: 4-9.
7. Barajas L. Anatomy of the juxtaglomerular apparatus. Am J Physiol 1979; 236 (Renal Fluid Electrolyte Physiol. 5): F240-6.
Barajas L. Anatomy of the juxtaglomerular apparatus. Am J Physiol 1979; 236 (Renal Fluid Electrolyte Physiol. 5): F240-6.
8. Taugner R., Bührle C.P., Hackenthal E. et al. Morphology of the juxtaglomerular apparatus. Contrib Nephrol 1984; 43: 76-101.
9. Kurtz A., Wagner Ch. Role of nitric oxide in the control of renin secretion. Am J Physiol Renal Physiol 1998; 275: F849-62.
10. Barajas L. Cell-specific protein and gene expression in the juxtaglomerular apparatus. Clin Exp Pharmacol Physiol 1997; 24: 520-6.
11. Hall J.E. Historical perspective of the renin-angiotensin system. Mol Biotechnol 2003; 24: 27-39.
12. Leyssac P.P., Holstein-Rathlou N.H., Skott O. Renal blood flow, early distal sodium, and plasma renin concentrations during osmotic diuresis. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol 2000; 279: R1268-76.
Leyssac P.P., Holstein-Rathlou N.H., Skott O. Renal blood flow, early distal sodium, and plasma renin concentrations during osmotic diuresis. Am J Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol 2000; 279: R1268-76.
13. Padmanabhan N., Padmanabhan S., Connell J.M. Genetic basis of cardiovascular disease-the renin-angiotensin-aldosterone system as a paradigm. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2000; 1: 316-24.
14. Hall J.E., Brands M.W., Shek E.W. Central role of the kidney and abnormal fluid volume control in hypertension. J Hum Hypertens 1996; 10: 633-9.
15. Haber E. The role of renin in normal and pathological cardiovascular homeostasis. Brenner & Rector’s The Kidney, 7th ed., Saunders, 2004. pp.2118-9.
16. Kobori Н., Nangaku М., Navar G. et al. The Intrarenal Renin-Angiotensin System: From Physiology to the Pathobiology of Hypertension and Kidney Disease. Pharmacol Rev 2007; 59(3): 251-87.
Kobori Н., Nangaku М., Navar G. et al. The Intrarenal Renin-Angiotensin System: From Physiology to the Pathobiology of Hypertension and Kidney Disease. Pharmacol Rev 2007; 59(3): 251-87.
17. Wai Han Yiu, Chi-Jiunn Pan, Robert A Ruef. The angiotensin system mediates renal fibrosis in glycogen storage disease type Ia nephropathy. Kidney Int 2008; 73(6): 716-23.
18. Hollenberg N., Fisher N., Price D. Pathways for angiotensin II generation in intact human tissue: evidence from comparative pharmacological interruption of the renin system. Hypertension 1998; 32: 387-92.
19. Елисеева Ю.Е. Ангиотензин-превращающий фермент, его физиологическая роль Вопр. мед. хим. 2001; 47(1) http://medi. ru/pbmc/8810103.htm УДК 577.152.34
20. Li Q., Zhang J., Pfaffendorf M., van Zwieten P.A. Comparative effects of angiotensin II and its degradation products angiotensin III and angiotensin IV in rat aorta. Br J Pharmacol 1995; 116: 2963-70.
Li Q., Zhang J., Pfaffendorf M., van Zwieten P.A. Comparative effects of angiotensin II and its degradation products angiotensin III and angiotensin IV in rat aorta. Br J Pharmacol 1995; 116: 2963-70.
21. Paul M., Mehr A.P., Kreutz R. Physiology of local renin-angiotensin systems. Physiol Rev 2006; 86: 747-803.
22. Navar L.G., Harrison-Bernard L.M., Imig J.D. et al. Renal responses to AT1 receptor blockade. Am J Hypertens 2000; 13: 45S-54.
23. Zhuo J., Moeller I., Jenkins T. et al. Mapping tissue angiotensin-converting enzyme and angiotensin AT1, AT2 and AT4 receptors. J Hypertens 1998; 16: 2027-37.
24. Matsusaka T., Ichikawa I. Biological functions of angiotensin and its receptors. Annu Rev Physiol 1997; 59: 395-412.
25. Williams G.H. Converting-enzyme inhibitors in the treatment of hypertension. N Ensl J Med 1988; 319: 1517-25.
26. Kostis J.B. Angiotensin-converting enzyme inhibitors. Emerging differences and new compounds. Am J Hypertens 1989; 2: 57-64.
27. Brown N.J., Vaughan D.E. Angiotensin-converting enzyme inhibitors. Circulation 1998; 97: 1411-20.
28. Dzau V.J., Bernstein K., Celermajer D. et al. The relevance oftissue angiotensin-converting enzyme: manifesiations in mechanistic and endpoint data. Am J Cardiol 2001; 88(9A): 1-20.
29. Dzau V.J. Theodore Cooper Lecture: Tissue angiotensin and pathobiology of vascular disease: a unifying hypothesis. Hypertension 2001; 37(4): 1047-52.
30. Klingbeil A.U., Schneider M., Martus P. et al. A meta-analysis of the effects of treatment on left ventricular mass in essential hypertension. Am J Med. 2003; 115(1): 41-6.
31. Brugts J.J., Ferrari R., Simoons M.L. Angiotensin-converting enzyme inhibition by perindopril in the treatment of cardiovascular disease. Expert Rev Cardiovasc Ther 2009; 7(4): 345-60.
32. Horning B., Landmesser U., Kohler C. et al. Comparative effects of ace inhibition and angiotensin II type receptor antagonism on bioavailability of nitric oxide in patients with coronary heart disease: role of superoxide dismutase. Circulation 2001; 103: 799-805.
33. Jackson E.K. Renin and angiotensin. In: Hardman JG, Limbird LE, Editors. The pharmacological basis of therapeutics. 10th Ed. New York; 2001: pp. 809-41.
34. Forclaz A., Maillard M., Nussberger J. et al. Angiotensin II receptor blockade: is there truly a benefit of adding an ACE inhibitor? Hypertension 2003; 41: 31-6.
35. Paul M., Mehr A.P., Kreutz R. Physiology of local renin-angiotensin systems. Physiol Rev 2006; 86: 747-803.
36. Морозова Т.Е., Вартанова О.А., Михайлова Н.В. Возможности коррекции коронарного и миокардиального резервов у больных ишемической болезнью сердца ингибитором ангиотензин-превращающего фермента периндоприлом. Кардиология. 2008; 48(8): 9-15.
37. Klotz S., Danser A.H., Foronjy R.F. et al. The impact of angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy on the extracellular collagen matrix during left ventricular assist device support in patients with end-stage heart failure. JACC 2007; 49(11): 1175-7.
38. Galderisi M., de Divitiis O. Risk factor-induced cardiovascular remodeling and the effects of angiotensin-converting enzyme inhibitors. J Cardiovasc Pharmacol 2008; 51(6): 523-31.
39. Weir M.R. Effects of renin-angiotensin system inhibition on endorgan protection: can we do better? Clin Ther 2007; 29(9): 1803-24.
40. Peng H., Carretero, O. Vuljaj N. et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors: A New Mechanism of Action. Circulation 2005; 112(16): 2436-45.
41. Deblois D., Tea B.S., Beaudry D., Hamet P. Regulation of therapeutic apoptosis: a potential target in controlling hypertensive organ damage. Can J Physiol Pharmacol 2005; 83(1): 29-41.
42. Matsuda H., Hayashi K., Wakino S. et al. Role of endothelium-derived hyperpolarizing factor in ACE inhibitor-induced renal vasodilation in vivo. Hypertension 2004; 43(3): 603-9. Epub 2004 Feb 9.
43. Levey A.S., Coresh J., Balk E. et al. National Kidney Foundation practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Ann Intern Med 2003; 139: 137-47.
44. Jacoby D.S., Rader D.J. Renin-angiotensin system and atherothrombotic disease: from genes to treatment. Arch Inter Med 2003;163(10): 1155-64.
45. Dagenais G.R., Pogue J., Fox K. et al. Angiotensin-converting-enzyme inhibitors in stable vascular disease without left ventricular systolic dysfunction or heart failure: a combined analysis of three trials. Lancet 2006; 368 (9535): 581-8.
46. Chobanian A.V., Bakris G.L., Black H.R. et al. The seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure. JAMA 2003; 289: 2560-72.
47. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively-designed overviews of randomised trials. Lancet 2003; 362: 1527-35.
48. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events in individuals with and without diabetes mellitus: results of prospectively-designed overviews of randomised trials. Arch Intern Med 2005; 165: 1410-9.
49. Maschio G., Alberti D., Locatelli F. et al. The ACE Inhibition in Progressive Renal Insufficiency (AIPRI) Study Group Angiotensin-converting enzyme inhibitors and kidney protection: the AIPRI trial J Cardiovasc Pharmacol 1999; 33 Suppl 1: S16-20.
50. EUCLID Study Group. Randomised placebo-controlled trial of lisinopril in normotensive patients with insulin dependent diabetes and normalbuminuria. Lancet 1997; 349: 1787-92.
51. Chaturvedi N., Sjolie A.K., Stephenson J.M. et al. Effect of lisinopril on progression of retinopathy in normotensive people with type 1 diabetes. The EUCLID Study Group. EURODIAB Controlled Trial of Lisinopril in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. Lancet 1998; 351(9095): 28-31.
52. Agardh C.D., Garcia-Puig J., Charbonnei В. et al. Greater reduction of urinary albumin excretion in hypertensive type II diabetic patients with incipient nephropathy by lisinopril than by nifedipine. J Hum Hypertens 1996; 10: 185-92.
53. Lewis E.J., Hunsicker L., Вain R. et al. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. N Engl J Med 1993; 329: 1456-62.
54. Diercks G.F., Janssen W.M., van Boven A.J. Rationale, design, and baseline characteristics of a trial of prevention of cardiovascular and renal disease with fosinopril and pravastatin in nonhypertensive, nonhypercholesterolemic subjects with microalbuminuria (the Prevention of REnal and Vascular ENdstage Disease Intervention Trial [PREVEND IT]). Am J Cardiol 2000; 86(6): 635-8.
55. Ruggenenti Р., Perna A., Gherardi G. et al. Renoprotective properties of АСЕ inhibition in non-diabetic nephropathies with non-nephrotic proteinuria. Lancet 1999; 354: 359-64.
56. Ruggenenti Р., Реrnа А., Gherardi G. et al. Renal function and requirement for dialysis in chronic nephropathy patients on long-term ramipril: REIN follow-up. Lancet 1998; 352: 1252-6.
57. Bosch J., Yusuf S., Pogue J. et al. HOPE Investigators. Use of ramipril in preventing stroke: double blind randomised trial. BMJ 2002; 324: 699-702.
58. Wood D., De Backer G., Faergeman O. et al. for the Second Joint Task Force of European and other Societies-ton Coronary Prevention: European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society, European Society of Hypertension, International Society of Behavioural Medicine, European Society of General Practice/Family Medicine, European Network. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Eur Heart J 1 998: 19: 1434-503.
59. De Backer G., Ambrosioni E., Borch-Johnses K. et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2003; 24: 1601-10.
60. Collaborative Group Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet 2001; 358: 1033-41.
61. Wing L.M., Reid C.M., Ryan P. et al. A comparison of outcomes with angiotensin-converting-enzyme inhibitors and diuretics for hypertension in the elderly. N Engf J Med 2003; 348(7): 583-92.
62. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. JAMA 2002; 288: 2981-97.
63. Rossing P., Parvingan H.-H., de Zeeuw D. Renoprotection by blocking the RAAS in diabetic nephropathy-fact or fiction? Nephrology Dialysis Transplantation 2006; 21(9): 2354-7.
64. Сидоренко Б.А., Преображенский Д.В. Блокаторы АТ-ангиотензиновых рецепторов. Москва 2001. Карпов ЮА. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов: обоснование нового направления терапии в современной кардиологии. РМЖ 2000; 5.
65. Карпов Ю.А. Блокаторы ангиотензиновых рецепторов: обоснование нового направления терапии в современной кардиологии. РМЖ 2000; 5. http://www.rmj.ru/articles_1568.htm
66. De Gasparo M., Levens N. Does blockade of angiotensin II receptors offer clinical benefits over inhibition of angioten-converting enzyme? Pharmacol Toxicol 1998; 82: 257-71.
67. Barone F.C., Coatney R.W., Chandra S. et al. Eprosartan reduces cardiac hypertrophy, protects heart and kidney, and prevents early mortality in severely hypertensive stroke-prone rats. Cardiovasc Res 2001; 50(3): 525-37.
68. Kjeldsen S.E., Lyle P.A., Kizer J.R. et al. Fixed combination of losartan and hydrochlorothiazide and reduction of risk of stroke. Vasc Health Risk Manag 2007; 3(3): 299-305.
69. Hoieggen A., Alderman M.H., Kjeldsen S.E. et al. The impact of serum uric acid on cardiovascular outcomes in the LIFE study. Kidney Int 2004; 66(4): 1714-5.
70. Dahlof B., Devereux R.B., Kjeldsen S.E. et al. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention for Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomized trial against atenolol. Lancet 2002; 359: 995-1003.
71. Pohl M.A., Blumenthal S., Cordonnier D.J. et al. Independent and additive impact of blood pressure control and angiotensin II receptor blockade on renal outcomes in the irbesartan diabetic nephropathy trial: clinical implications and limitations. J Am Soc Nephrol 2005; 16(10): 3027-37.
72. Persson F., Rossing P., Hovind P. et al. Irbesartan treatment reduces biomarkers of inflammatory activity in patients with type 2 Diabetes and microalbuminuria: an IRMA 2 substudy. Diabetes 2006; 55(12): 3550-5.
73. Lozano J.V., Llisterri J.L., Aznar J. et al. Losartan reduces microalbuminuria in hypertensive microalbuminuric type 2 diabetics. Nephrol Dial Transplant 2001; 16(Suppl 1): 85-9.
74. Remuzzi G., Ruggenenti P., Perna A. et al; RENAAL Study Group. Continuum of renoprotection with losartan at all stages of type 2 diabetic nephropathy: a post hoc analysis of the RENAAL trial results. J Am Soc Nephrol 2004; 15(12): 3117-25.
75. Eijkelkamp W.B., Zhang Z., Remuzzi G. et al. Albuminuria is a target for renoprotective therapy independent from blood pressure in patients with type 2 diabetic nephropathy: post hoc analysis from the Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan (RENAAL) trial. J Am Soc Nephrol 2007; 18(5): 1540-6.
76. Viberti G., Wheeldon N.M. MicroAlbuminuria Reduction With VALsartan (MARVAL) Study Investigators Microalbuminuria reduction with valsartan in patients with type 2 diabetes mellitus: a blood pressure-independent effect. Circulation 2002; 106: 672-8.
77. Julius S., Kjeldsen S.E., Weber M. et al. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004; 363: 2022-31.
78. Ridker P.M., Danielson E., Rifai N., Glynn R.J. Valsartan, Blood Pressure Reduction, and C-Reactive Protein Primary Report of the Val-MARC Trial. Hypertension 2006; 48: 73-9.
ДВА ЗВЕНА В ЦЕПИ БЕЗОПАСНОСТИ Антикоагулянт защитит от инсульта, антагонист – от кровотечений – «ИнфоМедФармДиалог»
– Пациенты с фибрилляцией предсердий иногда нуждаются в экстренной помощи. При этом, как мы знаем, высок риск кровотечений во время оперативного вмешательства. Что помогает его снизить?
– В России в настоящее время только для дабигатрана зарегистрирован специфический антагонист – Праксбайнд, о котором я уже ранее упоминал. И это очень хорошая возможность сохранить жизнь пациенту! К сожалению, бытует мнение, что раз есть антагонист, значит, сам препарат представляет большую опасность, чем его аналоги. Это не так. Антагонист в клинической практике – это все равно что подушка безопасности в машине. Это не значит, что машина быстрее развалится или будет чаще попадать в аварию. Это наша безопасность. Люди, принимающие пероральные антикоагулянты, никак не могут миновать риска оперативных вмешательств, травм, экстренных случаев. И в этом случае необходимо срочно инактивировать препарат. И наличие Праксбайнда делает жизнь этих пациентов более комфортной.
– Не секрет, что антикоагулянтная терапия пациентов с фибрилляцией предсердий пожизненная. Как убедить пациента длительно принимать пероральные антикоагулянты?
– Кардиология – как уравнение со многими неизвестными. Очень часто пациент не подозревает, какую колоссальную работу мы проводим, чтобы продлить ему жизнь. Никто не знает, сколько ему отпущено… И снова аналогия с автомобилем оказывается очень кстати. Техобслуживание. Машины до или после ТО будут ездить одинаково, с той лишь разницей, что после ТО мотор прослужит дольше. То же самое с пациентом. Врач может подарить ему в полтора раза больше жизни без инсульта или инфаркта, но пациент этого почувствовать не может. Поэтому врачу очень важно правильно выстроить диалог и во что бы то ни стало объяснить пациенту необходимость постоянного приема антикоагулянтов – то есть постоянного ТО.
Второй момент заключается в альтернативности. Пациент раньше принимал варфарин, был привязан к лабораторным анализам, диете, режиму приема препарата. А сегодня все изменилось кардинально! Не нужны ни лаборатории, ни диеты, а в случае экстренной ситуации необходимую помощь он может получить сразу же по прибытии в стационар. Другой вариант – отсутствие антикоагулянтной терапии и высокий риск инсульта, в случае которого пациент либо погибнет, либо останется на всю жизнь глубоким инвалидом. Задача врача – найти подходящую мотивацию для пациента. Поэтому правильное объяснение тактики безопасности и эффективности служит залогом успешной комплаентности пациента.
И, что немаловажно, в Москве, где реализована программа бесплатного обеспечения пероральными антикоагулянтами под эгидой правительства и Департамента здравоохранения, эта проблема решена. Препарат даже не надо покупать. Пациенту его выпишут в поликлинике и выдадут бесплатно. А в условиях эпидемии COVID‑19 – даже на полгода.
Может ли протагонист быть антагонистом?
Член Гильдии сценаристов США Майкл Табб, сотрудничавший с Universal Studios и Disney Feature Anomation, написал для Scriptmag о том, как быть, если в вашем сценарии антагонист и протагонист — это одно и то же лицо.
Мне всякий раз лестно, когда молодые авторы пытаются представить мне свои идеи, и я часто слышу от них, что их протагонист — это также и антагонист. Давайте обдумаем эту возможность. Может ли в сценарии герой быть своим собственным худшим врагом? Мы все понимаем, что роковой изъян может стать сутью характера героя, но превратится ли в этом случае герой в злодея?
В четырех случаях протагонист может обладать мощнейшей антагонистической силой:
1) что-то или кто-то внутри протагониста создает конфликт в фильме
2) когда внутренние изменения доминируют над внешними — фокус перемещается на личный изъян героя
3) когда протагониста некому противопоставить
4) протагонист поступает очевидно неправильно или является воплощением зла
Давайте разберем каждый случай по очереди.
Первый случай связан с ситуацией, когда у главного героя ярко выражены две стороны характера (например, как «Докторе Джекиле и мистере Хайде»). После того, как я написал фильм об оборотне, я рассматриваю такие истории о «внутренних чудовищах» как аллегорию на борьбу человека с импульсами и инстинктами. Как классический пример, «Человек-волк» может быть рассмотрен как метафорическая борьба с алкоголем. Ночью герой опускается, грубеет, совершает не те поступки, находясь под влиянием или же не в своем уме. Наутро просыпается, ничего не помня о насилии, которое совершил прошедшей ночью. Этот пункт я сразу же исключаю. Этот кровожадный зверь находится внутри протагониста, но он сам не является протагонистом. Это все равно, что сказать, что больной раком — сам себе враг. «Внутренний зверь» действует независимо от самого протагониста без его согласия или влияния; следовательно, они не равны друг другу. Это антагонисты, которые являются отдельными персонажами, даже если они находятся в одном теле протагониста.
Во втором случае, драматические фильмы, которые больше сконцентрированы на внутренних изменениях, чем на внешних, могут заставить молодого сценариста поверить, что внутренний изъян героя может сделать из него антагониста. Говоря о поведении под воздействием каких-либо стимуляторов, нужно вспомнить фильм «Покидая Лас-Вегас». Не ведитесь на первую возможную идею: алкоголизм героя не его антагонист. Это история о медленной борьбе Бена с суицидом из-за потерь, его личная борьба за волю жить. Благодаря включению любовной линии (в ней задействована Сэра — проститутка), сценарий решает центральный вопрос — может ли новая любовь заменить в разбитом сердце пустоту? Ответ — нет. Некоторые травмы не пережить — спросите об этом у кого-нибудь, кто страдает посттравматическим стрессовым расстройством.
Тут можно вспомнить фильм «Рожденный четвертого июля», где Рон Ковик борется с идеологией слепого патриотизма в военное время. Противостоит героям, внутри которых разворачивается борьба, некая внешняя сила. Рон страдает комплексом вины и полон ненависти к самому себе, которая подпитывает его, когда он борется против идеологии патриотической нации, обладающей комплексом превосходства, поскольку она не проиграла мировую войну (и вообще любую войну на тот момент). Когда протагонист не может смириться с действиями, которые совершал в прошлом, начинается борьба…. Но в фильме это борьба должна быть показана и подтверждена различными внешними элементами взаимоотношений протагониста с антагонистом и другими препятствиями. Только через внешнюю борьбу и противостояние с внешним врагом (а это социальная идеология, к которой он был приобщен в юности и которая привела его к инвалидному креслу) герой может вылечиться и простить.
Я сталкивался с мнением, что в фильме «Руди» ограничения, которые сам себе поставил герой, и являются антагонистической силой. Опять же, может ли какая-то черта характера или изъян стать противником героя. В основе фильма — подлинная история о мужчине, который пытается доказать, что всё возможно, если ты достаточно храбр. Он сталкивается с одним-единственным антагонистом, мешающим исполнению желаний — реальностью. Чтобы попасть в команду Notre Dame, Руди нужны деньги и достаточно баллов по GPA. Чтобы играть в футбол, надо набрать физическую форму. У него ничего этого нет. Он борется с бедностью и пытается преодолеть физические ограничения, но не думает о борьбе с самим собой.
Может быть, сложно заметить различие между препятствиями и антагонистами. Препятствия — это то, что протагонист должен преодолеть, в то время как антагонист — человек с железной волей, который совершает нечто, чтобы цель, к которой стремится герой, не была достигнута. Бедствие распространяется, огонь сжигает, шторм бушует. Персонифицирован ли он или нет, антагонист действует. Руди борется против всего, чтобы преодолеть препятствия, но у его препятствий нет собственной воли. Руди борется против общества. Он отказывается принять его условия, мнения и заблуждения в тех вещах, в которых он сам способен принять решение. Приемная комиссия, тренеры, семья … антагонистом становится всякий, кто является носителем общепринятого мнения о том, что общество делится на типы, каждый из которых должен знать свое место. Благодаря своей силе воли Руди побеждает мир, который постоянно твердит: «Нет, оставайся реалистом. Стой, где стоишь, и не мешай». Эта безнадежная философия и есть главный враг.
Бен («Покидая Лас-Вегас») опровергает мысль, что «всё проходит», Рон («Рожденный четвертого июля») борется со слепым патриотизмом, а Руди («Руди») ведет личную борьбу, чтобы оправдать собственные ожидания — это всё «неверные суждения» (misconception), которые и оказываются главными врагами. Эти «неверные суждения» озвучивают герои (которые убеждены, что действуют абсолютно правильно), окружающие протагонистов и мешающие им. То есть, когда в центре внимания внутренние изменения героя, антагонист может быть нематериальным и неуловимым. Протагонисты борются против убеждений и идеологий, которые оказываются неверны в какой-то конкретно взятой ситуации. Идеология в таком случае описывается как некая публичная собственность, всеобщее заблуждение. Тем не менее, никогда недостаточно иметь только одну сюжетную линию с внутренним изменением героя и один внутренний конфликт.
Антагонист открыто противостоит внешним целям главного героя. Требуется физическая сила, чтобы организовать внешнюю схватку с волей главного героя. Во всех этих фильмах есть антагонист, который выполняет эту функцию. Например, цель Руди — сыграть за команду Notre Dame. Он тратит все свои силы, чтобы убедить тренеров позволить ему участвовать в игре. Как и в любом сценарии, у него есть внешняя цель, против которой работают антагонистические силы (даже если фильм, по большей части, концентрируется на внутренних изменениях).
В-третьих, на ум могут прийти фильмы, в которых нет никого, кроме протагониста. Такие картины, как «Гравитация», «Изгой» или «Погребенный заживо». Отбросьте сомнения. Оказавшись на необитаемом острове, в открытом космосе или в деревянном ящике под землей, они сражаются с антагонистом — самими обстоятельствами. Обстоятельства — мощная сила, которая ставит под угрозу их выживание или воссоединение с близкими, также как и битва с природой или болезнью.
Наконец, давайте обсудим фильмы, в которых главный персонаж — отрицательный герой. Подобные персонажи могут быть ужасными людьми, но у них есть свои антагонисты, которые часто олицетворены силами правопорядка. Алекс в «Заводном апельсине» должен пройти реабилитацию и противостоит своему надзирателю и Министерству внутренних дел. Уильяму Фостеру и его желанию воссоединиться с семьей в фильме «С меня хватит» противостоит сержант Мартин Пендергаст. Детектив Дональд Кимбал никак не может остановить Патрика Бэйтмена в «Американском психопате». Так что даже в таких случаях протагонист — это не антагонист. Здесь применимы законы Ньютона. На каждое действие есть противодействие. Про подобного персонажа интереснее всего узнать, выживет он или нет, ведь, как у большинства антагонистов, у них нет особой арки. Если у центрального персонажа нет арки, значит он не совсем протагонист. Это переводит его в разряд ложного протагониста. В этом нет ничего нового. Например, шекспировские Ричард III и Макбет попадают в эту категорию. Так что даже в редких ситуациях, когда нам кажется, что история не подчиняется правилам и главный герой ведет себя как антагонист, все равно есть внешняя сила, с которой они должны бороться.
Мы живем в смелом мире, и, в отличие от старых времен, ключевые персонажи не всегда умирают в конце трагичной истории. Шекспир измерял трагедию глазами главного героя, так что его или ее смерть была высшей степенью трагедии в его время. Сегодня трагедия часто измеряется по реакции на нее аудитории.
Писака вроде меня посчитает, что тот факт, что подобные персонажи живут безнаказанно — гораздо большая трагедия, чем если бы они умерли. Выйти сухим из воды после страшных преступлений — в некоторых случаях гораздо трагичнее. Однако это статья о другом. Позвольте мне завершить разбор этого случая. Неважно, кто главный герой сценария — симпатичный ложный протагонист, который умирает (как Винсент Вега, погибший из-за того, что он не последовал совету своего партнера Джулса в «Криминальном чтиве») или же буквально отвратительный ложный протагонист, который остается жив, чтобы вновь убивать (как Луи Блум в «Стрингере» или Том Рипли в «Талантливом мистере Рипли») — все они встречают внешнего противника. Антагонисты хотят остановить этих персонажей и служат своеобразными контраргументами замысла, внешней базой понимания аудитории.
Во всех великих киноисториях, которые мне приходят в голову, протагонист объявляет войну чему-то, олицетворяющему точку зрения, противоположную основному посылу. Фильм — это не книга, где мы можем все время провести в чьих-то мыслях, слушая бесконечный текст внутреннего монолога. Это было бы скучно. Нам нужно увидеть противостояние, чтобы понять его. Нам нужно увидеть, как под сомнения ставятся идеалы. Таким образом зритель погружается в повествование и понимает, о чем рассказывает история на конкретных примерах. Это запускает катарсис, который, в случае хорошего исполнения, затрагивает душу зрителя.
Подумайте об этом с точки зрения логики. Если протагонист будет антагонистом, как это будет выглядеть? В визуальном искусстве очень важно представлять картинку. В центре истории всегда конфликт. Если персонажу не противостоит отдельная внешняя сила, значит в истории нет внешнего конфликта, следовательно смотреть там не на что. Протагонисты борются с чем-то, что находится вне их самих, как Иаков, который, согласно Библии, сражается с другим неясным существом, прежде встретиться со своим братом. Да, эта битва может быть метафорой внутреннего конфликта, но антагонист должен быть отдельной сущностью. Почему? Кино — визуальное искусство, и персонификация врага — это единственный способ показать противостояние.
Шекспир старался дать противнику главного героя лицо за сотни лет до появления кино. Яго побеждает Отелло, манипулируя его ревностью. Вы можете назвать этого персонажа провокатором, если вам так хочется, но именно он здесь антагонист.
Я прекрасно понимаю, почему многие так хотят продвинуть сценарии, в котором протагонист является антагонистом. Это звучит драматично, эмоционально и круто. Но подобные истории не работают технически и кинематографически. Так что после завершающего анализа, по крайней мере, на мой взгляд, ответом на вопрос, можно ли сделать протагониста антагонистом будет решительное «нет».
Россия и Запад остаются антагонистами / Геополитика / Независимая газета
30-летние попытки помириться завершились весьма печально
Одним из первых в Белграде был уничтожен телецентр. Фото Reuters
Россия де-юре стала наследником СССР, что дало ей как преимущества, так и проблемы. Но в политическом смысле она была не только не наследником, но и в значительной степени «отрицанием СССР». Несмотря на унаследованную от СССР экономическую катастрофу, это давало основание Москве не считать себя проигравшей стороной завершившейся холодной войны. Более того, российское руководство имело основание претендовать на «вхождение в Запад» хотя бы потому, что оно деятельно помогло Западу решить важнейшую для него задачу – ликвидацию мировой коммунистической системы.
Москва не претендовала на роль равного США, но считала возможным получить роль «заместителя США» (или «вице-президента мира»), либо стать «третьим столпом» Запада наряду с США и ЕС, пусть на тот момент и наиболее слабым. Москва в первой половине 90-х не могла и не хотела решать какие-либо глобальные задачи, но рассчитывала на признание своих естественных и очевидных интересов на постсоветском пространстве (ни в коем случае не отрицая при этом суверенитет и территориальную целостность постсоветских стран) и, главное, на общие правовые подходы со стороны Запада, на соблюдение норм международного права и единых правил поведения для всех.
Если бы эти надежды Москвы реализовались, это кардинально изменило бы геополитическую ситуацию не только в Европе, но и в мире в целом, обеспечив реальную безопасность Западу и, с очень высокой вероятностью, развитие России, а с ней и всего постсоветского пространства по пути укрепления демократии и рыночной экономики.
К сожалению, Запад воспринял постсоветскую Россию как наследника СССР во всех аспектах, как проигравшую сторону, которая должна вести себя соответствующим образом, отказавшись, по сути, от любых национальных интересов (особенно если они хотя бы в минимальной степени не совпадают с интересами Запада). К России отнеслись как к Германии после Первой мировой (это подтверждается тем, что сейчас на Западе часто проводятся параллели между действиями современной России и нацистской Германии в 30-е годы). Не сумев осознать даже того, что бесконечной травлей демократической Германии 20-х годов ХХ века именно Запад и довел ее тогда до нацизма.
С этой фундаментальной ошибки Запада (в первую очередь США) начались все последующие проблемы. Другой стороной данной ошибки стало восприятие Западом себя как победителя, которого не судят. Это существенно усугубило последующие проблемы.
В начале 90-х годов Западу еще хватало реализма не мешать действиям России на постсоветском пространстве. Несмотря на сложнейшую ситуацию в ВС РФ, они показали себя весьма эффективным миротворцем в Молдавии, Грузии, Таджикистане. Это было особенно явно заметно на фоне действий опереточных войск ООН в других регионах мира, где они в лучшем случае не решали никаких местных проблем, в худшем – создавали дополнительные проблемы. Впрочем, невмешательство Запада в дела постсоветского пространства в начале 90-х, по-видимому, объяснялось неготовностью к вмешательству, а также желанием не навредить первому президенту РФ, который, как тогда казалось, действовал в интересах Запада.
В дальнейшем, однако, в действиях Запада во все большей степени стали проявляться элементы сдерживания России. Весьма показательной в этом смысле стала известная книга Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска» (издана в 1997 году), основной идеей которой было не просто «зажимание» России в ее географических границах, но, по сути, ее добровольный самороспуск, то есть превращение в слабую конфедерацию трех государств, каждое из которых ориентировано на географических соседей. Разумеется, ни в момент написания данной книги, ни после этого Бжезинский не занимал никаких официальных постов в Вашингтоне, эта книга никогда не имела статуса целостной внешнеполитической доктрины США. Тем не менее невозможно не видеть того, что именно применительно к России положения «Великой шахматной доски» выполнялись в наибольшей степени. Создается впечатление, что Запад в то время не добивался полного развала России по единственной причине – из-за опасений по поводу судьбы ее ядерного оружия.
ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ
Еще одним крайне неприятным открытием для Москвы стали действия Запада (в первую очередь США) на международной арене по принципу «Друзьям – все, врагам – закон». Запад счел себя вправе полностью игнорировать нормы международного права, требуя от остальных государств неукоснительного выполнения этих норм (на что, кстати, с тревогой указывал тот же Бжезинский в своих более поздних работах, понимая, что это очень сильно вредит имиджу США в мире). Вообще в действиях Запада было продемонстрировано такое количество двойных стандартов, что оно уже давно перешло в качество, чего сам Запад не заметил и не понял.
Абсолютно принципиальное значение для дальнейшего развития событий в Европе и в мире в целом имела агрессия НАТО против Югославии в 1999 году с дальнейшим насильственным отторжением от этой страны автономного края Косово. Именно это стало прецедентом для дальнейшей перекройки границ в Европе (когда таким прецедентом на Западе называют Крым – это верх лжи и лицемерия). Попытки Запада доказать беспрецедентность косовского случая критики не выдерживают, ибо Косово как раз было совершенно типичным примером непризнанного государства, значительное количество которых возникло в результате распада СССР и Югославии.
Тем более не выдерживает критики объяснение агрессии гуманитарными мотивами. Во-первых, международное право не допускает «гуманитарных агрессий» (агрессия в любом случае остается агрессией). Во-вторых, возникает вопрос, почему в таком случае НАТО полностью игнорировало гораздо большие по масштабам гуманитарные катастрофы в Руанде, Заире/ДРК, в Афганистане до 2001 года? Почему сейчас игнорируются гуманитарные катастрофы в Ливии (притом, что причиной данной катастрофы стала еще одна агрессия со стороны НАТО) и Йемене (за которую полную ответственность несут стратегические союзники США – аравийские монархии во главе с Саудовской Аравией)? Разумеется, в ходе «гуманитарной интервенции» в Косово и после ее окончания были полностью проигнорированы все преступления, совершенные албанскими боевиками против сербского мирного населения. Вообще такая ситуация сложилась применительно ко всем войнам на территории бывшей Югославии: преступления совершали все стороны, но наказания несли почти исключительно сербы.
| Президенты Борис Ельцин и Билл Клинтон всегда стремились продемонстрировать особое расположение друг к другу. Фото Reuters |
В дальнейшем под ложным предлогом США и их союзники совершили в 2003 году агрессию против Ирака, в 2011 году НАТО и аравийские монархии – агрессию против Ливии (во втором случае имелся мандат ООН на обеспечение бесполетной зоны для всех сторон конфликта, но ни в коем случае не на полномасштабные боевые действия ни одной из сторон этого конфликта).
Что касается продемонстрированных странами Запада двойных стандартов, то количество их слишком велико для полного перечисления. В качестве одного из примеров можно привести отношение к абсолютно тоталитарной Саудовской Аравии, к тому же являющейся спонсором и организатором почти всего суннитского терроризма, как к важнейшему стратегическому союзнику, а к весьма демократическому по меркам Ближнего и Среднего Востока Ирану (где, в частности, имеют место реальные конкурентные выборы) – как к стране-изгою. Кстати, само понятие «страна-изгой» никакого отношения к международному праву не имеет и лишь подчеркивает, до какой степени США это право игнорируют.
Другой пример – когда одни и те же по своей сути действия по подавлению внутренних мятежей со стороны Асада и Каддафи объявляются Западом преступными, а со стороны нынешнего режима в Киеве – полностью законными.
Третий пример – беспрецедентное давление на КНДР из-за ее ракетно-ядерной программы при полном отсутствии подобного давления на Индию и даже на Пакистан, не говоря уже об Израиле. На самом деле эти двойные или даже тройные стандарты являются одной из важнейших причин того, что ужесточение давления на КНДР неизменно вызывает лишь ответное ужесточение позиций Пхеньяна и ничего более.
Нельзя также не упомянуть беспрецедентную по интенсивности и неприличию истерику в США по поводу «вмешательства России в американские выборы». Независимо от того, имело ли место это вмешательство на самом деле, нельзя не отметить, что вмешательство в выборы и вообще в любые внутриполитические процессы в других странах (кроме, быть может, ближайших союзников) является основой внешней политики США (если не синонимом их внешней политики вообще). Наконец, борьба с допинговой системой в российском спорте (независимо от того, есть ли таковая на самом деле) ведется абсолютно неправовыми методами, не имеющими никакого отношения к «чистоте мирового спорта». Налицо отвратительное политиканство и ничего более.
КРЫМСКИЙ ВОПРОС
В данном контексте, конечно, нельзя не затронуть вопрос о Крыме. Разумеется, прецедентом для его перехода в Россию (как и для признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии) стал вышеупомянутый казус Косово. Но дело не только в данном прецеденте. Российский МИД в данном случае продемонстрировал полный непрофессионализм, ссылаясь на заведомо не имеющие отношения к делу принцип права наций на самоопределение и Конвенцию ООН по деколонизации. Между тем здесь первичен вопрос законности передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году, когда были нарушены даже декоративные советские законы. Кроме того, принципиальным является тот факт, что крымский референдум в марте 2014 года соотносился с законодательством Украины точно так же, как украинский референдум о независимости в декабре 1991 года – с законодательством СССР. То есть, если считать незаконным выход Крыма из состава Украины, то незаконна и независимость Украины. При этом в декабре 1991 года результат референдума оказался выше законности – за независимость проголосовало примерно 76% граждан Украины, имеющих право голоса. Единственными исключениями стали Крым и Севастополь, где за независимость проголосовало ровно вдвое меньше – 38% от общего числа избирателей. То есть незаконно переданный Украине Крым затем был еще и незаконно «уведен в независимость» против его воли.
В марте 2014 года за переход в Россию проголосовало 80% крымчан, имеющих право голоса, причем если бы голосовать могли те жители полуострова, которые в этот день находились за его пределами, данный результат был бы еще выше. Мнение 80% населения не может быть незаконным, если только не ввести в юридическую практику оруэлловский термин «мыслепреступление». К тому же, кроме косовского прецедента, имеются прецеденты Гибралтара и Фолклендских островов, где именно результаты референдумов среди местного населения Лондон считает достаточным основанием для снятия вопросов об их принадлежности.
Вообще можно отметить примечательный момент. Если не де-юре, то де-факто советский коммунистический режим на Западе принято считать практически таким же преступным, как гитлеровский. При этом, однако, одно из главных преступлений советского режима, а именно – совершенно произвольное проведение внутренних административных границ, а также не менее произвольное введение «иерархии народов», с точки зрения Запада, должно оставаться совершенно незыблемым. Это еще один пример двойного стандарта, причем объясняется данный феномен, по-видимому, тем, что нарезка внутренних границ в СССР практически всегда производилась ее коммунистическим руководством в ущерб России (тогда – РСФСР) и за счет России.
Действия России в Крыму, Абхазии и Южной Осетии можно, разумеется, до бесконечности называть аннексией, агрессией и оккупацией, но никуда не денется тот факт, что не менее 80% населения каждой из этих трех территорий считает Россию освободителем, а в качестве оккупантов воспринимало Украину и Грузию. Изменение статуса данных территорий представляет собой продолжение процесса распада СССР с этой совершенно искусственной нарезкой внутренних границ. Более того, жители Южной Осетии сегодня всерьез обижаются на Москву за то, что та запрещает им провести референдум, подобный крымскому, о вхождении в состав РФ. Запретить осетинам, являющимся разделенным народом, хотеть присоединиться к России, можно лишь при легитимации понятия «мыслепреступление».
На Западе весьма популярен тезис о «вековой природной агрессивности» России. Этот тезис очень удобен в пропагандистском плане, но, разумеется, не имеет никакого отношения к реальности. Россия во всех своих воплощениях (от Московского царства до СССР) была ничуть не более агрессивной, чем другие страны того же геополитического масштаба той же исторической эпохи, и традиционно играла по правилам, сложившимся в соответствующую эпоху. Более того, Россия порой демонстрировала на международной арене благородство в ущерб собственным интересам («Главное – не повторять ошибки», «НВО» от 17.03.17). Нынешняя Российская Федерация тоже добивается права на игру по общим правилам и ничего более.
И ВНОВЬ ОБ ИДЕОЛОГИИ
Следует также обратить внимание на идеологический аспект нынешней конфронтации, а именно: на абсолютное доминирование в странах Запада леволиберальной идеологии с гипертрофированным вниманием к правам разнообразных меньшинств, нередко в ущерб правам большинства. Эта идеология начинает рассматриваться Западом как единственно верная (здесь невозможно не провести параллелей с советской коммунистической идеологией, тем более что она тоже левая) и в «приказном порядке» навязывается всему остальному человечеству. Возникает ощущение, что с точки зрения официального Запада в какой-либо стране демократия имеет место не в том случае, когда у власти находится политическая сила, получившая поддержку большинства населения, а в том случае, когда у власти находятся носители леволиберальной идеологии, независимо от того, каким путем они к власти пришли.
В 70-е годы советские диссиденты обращались к власти с призывом «Выполняйте свою Конституцию!». Сейчас есть все основания обратиться к странам Запада с призывом «Выполняйте свое международное право!». Не видеть этого можно, только если обладать квазирелигиозной верой в исключительность Запада (в первую очередь США), каковая обеспечивает ему «право на бесправие» и узаконивает его беззаконие. На самом деле сохранение у значительной части человечества подобной веры становится для Запада в значительной степени способом выживания.
Во-первых, поверив в химерическую концепцию «постиндустриального информационного общества», Запад сам себя в значительной степени деиндустриализовал, при этом обеспечил индустриализацию Китая и других стран восточной половины Азии. Во-вторых, в результате ряда социально-экономических процессов Запад (в несколько меньшей степени – США, в абсолютной степени – Европа) утратили возможность ведения войн с сопоставимыми по силам противниками, поскольку психологически не готовы к людским потерям, превышающим уровень статистической погрешности. Последним практическим фактором, способствующим сохранению западной гегемонии, остается научно-технологическое превосходство, но и оно постепенно утекает в Азию вместе с промышленностью и оружием. В итоге единственной основой западной гегемонии остается вышеупомянутая квазирелигиозная вера остального человечества в то, что на эту гегемонию у Запада есть какое-то особое право. Отражением ее является тот факт, что очень многие люди в мире (в том числе и в России) до сих пор всерьез отождествляют понятия «Запад» и «цивилизованный мир» (или даже «мировое сообщество»). Эта вера в значительной степени сохраняется по инерции с тех времен, когда гегемония Запада имела под собой практические основания (промышленную и военную мощь). Соответственно наибольшей опасностью для Запада становится разоблачение указанной веры.
РОССИЯ ПОБЕЖДАЕТ ЗАПАД НА ИНФОРМАЦИОННОМ ФРОНТЕ
Российская элита еще в конце 90-х годов осознала, что Запад не собирается добровольно принимать ее в качестве «вице-президента мира» или «третьего столпа». С тех пор и до сего дня она заведомо безуспешно стремится «войти в Запад» силовым путем на своих условиях. Точнее, она пытается явочным порядком доказать, что «правила игры без правил», которые Запад, как было показано выше, распространил на самого себя, относятся и к России тоже. Это создает несколько парадоксальную ситуацию. С одной стороны, Россия (точнее, ее элита) верят в западную исключительность на условиях включения себя в эту исключительность. С другой стороны, именно Россия в наибольшей степени эту исключительность разрушает.
Хотя в практическом плане главной угрозой гегемонии Запада является Китай, он не ведет с Западом никакой борьбы (кроме чисто оборонительной) в идеологическом и информационном пространствах. Россия же сумела создать исключительно эффективную информационную машину, способную работать в условиях жесткой конкуренции как внутри страны (при почти поголовном распространении в России Интернета и его почти полной свободе), так и вне ее. Это представляет собой разительный контраст с советским агитпропом, который перестал работать еще в 70-е годы, несмотря на полную информационную изоляцию СССР.
Поскольку вера в исключительность Запада является чисто информационным феноменом, именно российская пропагандистская машина представляет для него гораздо большую угрозу, чем колоссальная экономическая мощь Китая: Россия может довести до человечества информацию о том, что «король-то голый». Более того, Россия начинает предлагать даже самому Западу нечто вроде альтернативной идеологии («традиционные ценности» в противовес левому либерализму), при этом в отличие от СССР не выходя за рамки традиционной парадигмы демократии и рыночной экономики. Это усиливает для западных элит восприятие России как угрозы, даже если в данный момент предлагаемая Москвой идеологическая альтернатива маргинальна. В борьбе с российской пропагандой Запад явно пойдет на попрание еще одного собственного основополагающего принципа и продемонстрирует еще один двойной стандарт. Введение против российских медиаструктур на Западе административных ограничений означает, что и «священный принцип свободы слова» на Западе действует только до тех пор, пока дает преимущества Западу.
Особенно показательной стала реакция Запада на крымско-украинские события. Запад анонсировал разоблачение кремлевской пропаганды своей чистой правдой, но в реальности ответил своей же пропагандой, в которой правды было еще меньше, а глупости, усугубленной идеологическим пафосом, еще больше. Впрочем, многочисленные антироссийские статьи в западных СМИ, как правило, отражают откровенную глупость авторов (руководствуясь идеологическими штампами, они просто не понимают, о чем пишут). Но российский Интернет забит антироссийской пропагандой на русском языке, которая является уже не глупостью, а целенаправленной сознательной ложью. Ее слишком много, чтобы не видеть в этом скоординированной кампании. Соответственно обвинения в адрес России в распространении на Западе фейковых новостей – не более чем еще один пример двойного стандарта. Запад ведет себя абсолютно так же, и здесь не имеет значения, кто первый начал.
Кроме того, своими успешными и эффективными действиями в Южной Осетии, Грузии, в Крыму, на Украине, в Сирии Россия ясно показала полное военное бессилие НАТО и лишила европейские страны альянса ставшего привычным чувства полной внешней безопасности. И это сделала «бензоколонка, возомнившая себя страной», как изящно выразился сенатор Маккейн и как думает практически вся западная политическая элита. Эта элита не только никогда не признает, что именно она несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию, но, по-видимому, вполне искренне этого не понимает.
АМЕРИКАНСКИМ УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Дополнительной проблемой является в данном случае то, что на Западе, включая США, по сути, нет специалистов по России. Людей, формально таковыми считающихся, очень мало. При этом специалисты – коренные американцы не всегда обладают необходимым объемом знаний о России и, самое главное, не понимают контекста происходящего в России. Специалисты – выходцы из СССР/России почти всегда обладают как нужными знаниями, так и пониманием контекста. Но они по понятным причинам стремятся показать себя «большими американцами, чем сами американцы», и к тому же испытывают идейную ненависть к своей бывшей стране. Поэтому их анализ является заведомо предвзятым, относясь скорее к сфере пропаганды, чем аналитики.
Соответственно американской элите просто неоткуда получить объективную информацию. Это ведет к неадекватной реакции на действия России и к столь же неадекватному требованию от нее безоговорочной капитуляции, которое, разумеется, не может быть принято. Вполне очевидно, что если политика Запада и будет меняться, то лишь в сторону дальнейшего ужесточения. Отказ США ради сближения с Россией от своей мессианской роли и от абсолютной первичности национальных интересов по отношению к международному праву совершенно невозможен. Европе данная ситуация может не очень нравиться, но она как минимум не откажется от союза с США хотя бы в силу собственной военной слабости. Кроме того, в действиях Европы идеологические мотивы не менее сильны, чем в действиях США.
В России же вследствие описанных обстоятельств все действия Запада начали рассматриваться значительной частью как элиты, так и населения, как направленные на полное подчинение или даже уничтожение России. Более того, многие элементы традиционной демократии теперь воспринимаются как часть манипулятивных технологий, направленных на подрыв России изнутри. То есть за сворачивание в России значительной части демократических свобод ответственность несет на самом деле Запад же, который (по крайней мере его руководство) в российском восприятии превратился в средоточие вероломства, подлости и лицемерия. Постоянные поучения в адрес России со стороны США не просто воспринимаются как вмешательство во внутренние дела РФ, но вызывают полное отторжение, поскольку практика действий Вашингтона очень часто прямо противоположна содержанию его поучений. Подавляющее большинство как элиты, так и населения России считает, что США не имеют ни малейшего морального права чему-либо учить Россию. Причем считает совершенно справедливо. Если бы США и Запад в целом открыто действовали в рамках традиционной realpolitik, предъявлять к ним претензии было бы глупо: таким действиям принципиально чужда любая мораль, двойные стандарты являются нормой, а главный принцип – vae victis («горе побежденным»). Но Запад без устали рассказывает нам и всему человечеству, что давно отказался от realpolitik и руководствуется исключительно «ценностями». И вот от этого его поведение становится не просто аморальным, но аморальным в квадрате.
ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ
Таким образом, нынешняя ситуация в отношениях между Западом и Россией отчасти даже хуже, чем была во времена холодной войны. В то время между сторонами не было доверия, но существовало определенное уважение друг к другу как к сильным противникам. Сейчас доверия так и не появилось, но исчезло и уважение. При этом возродилось, пусть и в новой, более скрытой форме, идеологическое противостояние, а таковое в отличие от обычной геополитической конкуренции всегда носит непримиримый характер. Соответственно совершенно непонятно, откуда могут взяться тенденции к примирению.
Не просто снижение, но обнуление напряженности между Западом и Россией вполне реально. Необходимо признание свершившихся фактов, то есть юридическое оформление через решения Совбеза ООН нового статуса Косово, Абхазии, Южной Осетии и Крыма (возможно, через дополнительные референдумы). Далее – необходимы компромиссные решения по Донбассу и Приднестровью с приданием этим регионам особого статуса в рамках Украины и Молдавии. НАТО должно юридически отказаться от приема в свой состав любых новых постсоветских стран. Россия и Запад должны принципиально отказаться от того, чтобы ставить постсоветские страны перед жестким выбором «мы или они» (а до сих пор обе стороны вели себя именно так). Наконец, необходимо выработать, а затем неукоснительно выполнять общие для всех стран нормы и правила поведения на международной арене в рамках существующего либо модифицированного по взаимному согласию международного права.
Разумеется, с России должны быть сняты все без исключения западные санкции, которые не столько наносят России реальный ущерб, сколько исключают возможность равноправного диалога, поскольку Запад не имеет ни юридического, ни морального права «наказывать» Россию. Кроме того, если США интересуют именно снижение напряженности в отношениях с Россией и укрепление демократии в России, а не установление контроля над действиями России, Вашингтону необходимо не на словах, а на деле отказаться от любого вмешательства во внутренние дела Москвы. В частности, необходимо отказаться от любых форм поддержки прозападной демократической оппозиции в России. Только в этом случае появится шанс, что в России возникнет прозападная демократическая оппозиция, которая будет являться (и восприниматься населением) как национальная политическая сила, а не как агент иностранного влияния. И только в этом случае у такой оппозиции появится шанс приобрести реальное влияние на внутреннюю политику России.
Нет ни малейших сомнений, что ничего этого сделано не будет. Возможность подобного решения проблемы не будет сформулирована западными элитами даже в отрицательном варианте. Поэтому останется лишь дождаться того, когда в российском руководстве полностью исчезнут иллюзии по поводу возможности «вхождения в Запад» на каких бы то ни было условиях. После этого Россия начнет реальный «поворот на Восток» со строительством нового восточного блока, антагонистичного западному. Изначально (в 2014 году) данный лозунг носил чисто пропагандистский характер, по сути, это был призыв к Западу: «Одумайтесь!» Сейчас, однако, появились определенные признаки того, что лозунг начинает превращаться в реальную внешнеполитическую доктрину.
Насколько успешным будет этот «поворот» и какую пользу он принесет самой России – вопрос крайне сложный и неоднозначный. Но нет сомнений, что Западу это создаст очень большие проблемы в самых различных аспектах. Учитывая вышеописанный генезис нынешней ситуации, можно сказать, что эти проблемы Запад на самом деле создаст самому себе. Однако нет никаких оснований ожидать от Запада осознания истинного положения вещей ни сейчас, ни в будущем.
Комментарии для элемента не найдены.
Определение антагониста по Merriam-Webster
ан · тег · о · нист | \ an-ˈta-gə-nist \ 1 : тот, который борется или противостоит другому : противник, противник политические антагонисты а : мышца, которая сокращается и ограничивает действие агониста, с которым она связана.— также называется антагонистическая мышца
б : химическое вещество, которое действует в организме, снижая физиологическую активность другого химического вещества (например, опиата). особенно : тот, который противодействует действию на нервную систему лекарственного средства или вещества, встречающегося в организме естественным образом, путем объединения и блокирования его нервного рецептора — сравните чувство агониста 2bЧто такое антагонист? Определение и примеры
Антагонистом в литературе обычно является персонаж или группа персонажей, которые противостоят главному герою рассказа, известному как главный герой.Антагонистом также может быть сила или институт, например правительство, с которым главный герой должен бороться. Простой пример антагониста — лорд Волан-де-Морт, печально известный темный волшебник из романов о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг. Термин «антагонист» происходит от греческого слова antagonistēs , что означает «противник», «конкурент» или «соперник».
Ключевые выводы: антагонисты
- Антагонистом в литературе обычно является персонаж или персонажи, которые выступают против главного героя рассказа, известного как главный герой.
- Антагонистами также могут быть силы, события, организации или существа.
- Антагонисты часто служат главными героями в качестве фольгированных персонажей.
- Не все антагонисты «злодеи».
- Истинный антагонист всегда является основным источником или причиной конфликта в истории.
Как писатели используют антагонистов
Конфликт — хороший бой — вот почему мы читаем или смотрим. Кому не нравится любить героя и ненавидеть злодея? Писатели используют отношения антагониста и главного героя для создания конфликта.
После того, как главный герой «хорошего парня» пытается выжить против антагониста «плохого парня», сюжет обычно заканчивается либо поражением антагониста, либо трагическим падением главного героя. Антагонисты часто служат главными героями в качестве фольгированных персонажей, воплощая качества и ценности, которые подпитывают огонь конфликта между ними.
Отношения главного героя и антагониста могут быть такими же простыми, как герой против злодея. Но поскольку эта формула может стать слишком предсказуемой, авторы часто создают разные типы антагонистов, чтобы создать разные типы конфликтов.
Яго
Как наиболее распространенный тип антагонистов, злодей «плохой парень», движимый злыми или эгоистичными намерениями, пытается помешать или остановить главного героя «хорошего парня».
В пьесе Уильяма Шекспира «Отелло» героический солдат Отелло трагически предан своим знаменосцем и лучшим другом, коварным Яго. Один из самых известных антагонистов в литературе, Яго стремится уничтожить Отелло и его жену Дездемону. Яго обманом заставляет Отелло ошибочно полагать, что вечно верная Дездемона изменяла ему, и наконец убеждает его убить ее.
В какой-то момент пьесы Яго сеет в сознании Отелло семена сомнения в верности Дездемоны, предупреждая его о печально известном «зеленоглазом чудовище» или ревности.
О, берегись, милорд, ревности;
Это зеленоглазое чудовище, которое издевается
Мясо, которым он питается. Этот рогоносец живет в блаженстве,
Кто, уверенный в своей судьбе, не любит своего обидчика:
Но о, какие проклятые минуты говорят ему о
Кто обожает, но сомневается, подозревает, но сильно любит!
Все еще считая Яго своим верным другом, Отелло не может понять истинную мотивацию Яго, чтобы убедить его убить Дездемону из неуместной ревности и прожить остаток своей жизни в страданиях из-за своей трагической ошибки.Теперь — это злодей.
Мистер Хайд
В классическом романе Роберта Луи Стивенсона 1886 года «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» доктор Джекил является главным героем. Его собственный альтернативный персонаж, мистер Хайд, является антагонистом. Через его изображение пугающих, непредсказуемых превращений добродетельного доктора Джекила в кровожадного мистера Хайда Стивенсон изображает войну за контроль между «ангелом» и «демоном», который, как он утверждает, живет во всех людях.
Эта концепция внутреннего антагониста, пожалуй, лучше всего выражена в этой цитате из главы 10, в которой д-р.Джекил понимает, что его поглощает злая сторона его собственной личности:
С каждым днем и с обеих сторон моего интеллекта, морального и интеллектуального, я таким образом неуклонно приближался к истине, частичное открытие которой обрекало меня на такое ужасное кораблекрушение: этот человек на самом деле не один, а действительно два.
Уолтер Уайт в фильме «Во все тяжкие»,
В знаменитом сериале AMC Network «Во все тяжкие» Уолтер Уайт является классическим примером героического антагониста.Уолтер, школьный учитель химии, узнает, что умирает от рака легких. Он начинает производить и продавать запрещенный наркотический кристаллический метамфетамин, чтобы обеспечить финансовую стабильность своей семьи в будущем. По мере того, как его криминальные навыки улучшаются, Уолтер становится фантастически успешным, богатым и опасным. Он принимает свое подлость, одновременно отталкивая и очаровывая зрителей.
Когда жена Уолтера, Скайлер, узнает о тайной жизни своего мужа, она выражает свои опасения за его безопасность. В следующем отрывке Уолтер демонстрирует неожиданную гордость своим преступным мастерством, лая на нее:
Я не в опасности, Скайлер.Я опасен. Парень открывает дверь и получает пулю, и ты так думаешь обо мне? Нет, это я стучу!
В последнем эпизоде истории Уолтер признается себе, что опасения за финансовое будущее его семьи были просто предлогом для его действий:
«Я сделал это для себя», — сказал он. «Мне понравилось. У меня это хорошо получалось. И я действительно был… я был жив ».
Партия и Большой брат в фильме ‘1984’
В своем классическом романе-антиутопии «1984» Джордж Оруэлл использует фольгированного персонажа по имени О’Брайен, чтобы раскрыть реальных антагонистов истории: тираническое правительство под названием «Партия» и его вездесущую систему наблюдения за гражданами «Большой брат».”
Как партийному сотруднику, О’Брайену поручено убедить главного героя истории, гражданина по имени Уинстон, принять душераздирающую идеологию партии с помощью моральных и физических пыток.
После одной из длительных пыток О’Брайен говорит Уинстону:
Но всегда — не забывай этого, Уинстон — всегда будет опьянение силой, постоянно увеличивающееся и все более тонкое. Всегда, в каждый момент будет азарт победы, ощущение, что врага попирают, который беспомощен.Если вы хотите получить картину будущего, представьте себе, как ботинок ударит по человеческому лицу — навсегда.
Нечеловеческие антагонисты
Антагонисты не всегда люди. В романе К.С. Льюиса «Последняя битва» коварная обезьяна по имени «Сдвиг» руководит событиями, которые приводят к последним дням страны Нарнии. В библейской книге Бытия безымянная змея обманом заставляет Адама и Еву съесть запретный плод, тем самым совершая «первородный грех» человечества. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, штормы, пожары, эпидемии, голод и астероиды, являются другими часто наблюдаемыми неживыми антагонистами.
Заблуждение злодея
Злодей всегда является «злым» персонажем, но, как показано в предыдущих примерах, не все антагонисты обязательно являются злыми или даже настоящими злодеями. Хотя термины «злодей» и «антагонист» иногда используются как синонимы, это не всегда верно. Во всех историях основной причиной конфликта является истинный антагонист.
Источники
Булман, Колин. «Творческое письмо: Руководство и глоссарий по написанию художественной литературы.»1-е издание, Polity, 7 декабря 2006 г.
«Главный герой против антагониста — в чем разница?» WritingExplained, 2019.
«Роберт Льюис Стивенсон». Фонд поэзии, 2019, Чикаго, Иллинойс.
«То, что вы могли не заметить о лорде Волан-де-Морте.» Pottermore, Wizarding World Digital, 19 марта 2018 г.
Антагонист: определение и примеры | LiteraryTerms.net
I. Что такое антогонист?
В рассказе антагонист (произносится как ан-ТАГ-о-нист) является противоположностью главного героя или главного героя.Обычно это какой-то злодей, но не всегда! Это просто противник главного героя или кто-то, кто встанет у них на пути.
В каждой истории есть хотя бы один главный герой, но не во всех историях есть антагонист! В некоторых случаях главный герой просто борется с безличными силами, такими как природа, обстоятельства, социальные ограничения или зависимость. В этих случаях в истории нет антагониста. Однако в истории может быть любое количество антагонистов, стоящих на пути главного героя.
II. Примеры и пояснения
Пример 1Адольф Гитлер (Всемирная история)
Диктатор появился как антагонист в бесчисленных историях, как вымышленных, так и документальных, за последние несколько поколений. В пересказах Второй мировой войны союзники почти всегда являются героями, что делает Гитлера злодейским антагонистом.
Пример 2Гомер Симпсон (Симпсоны)
Если Гомер — главный герой Симпсоны , то у него много антагонистов, некоторые из них злые, а другие менее.Его жена Мардж, например, часто пытается помешать его планам — не потому, что она злодейка, а потому, что опасается за его безопасность или репутацию семьи. Но когда она препятствует достижению целей Гомера, она все еще действует как антагонист (хотя ни герой, ни злодей).
Пример 3 [СПОЙЛЕР!]Озимандиас (Хранители)
Для большей части графического романа главные герои не уверены, кто их антагонист. Против них замышляет загадочная фигура, но никто не знает, кто это.В конце концов, оказывается, что антагонист — Озимандиас, гениальный супергерой на пенсии. Озимандиас вызывает миллионы смертей, но он также предотвращает Третью мировую войну и завершает холодную войну, тем самым, возможно, спасая миллионы жизней. Поскольку Озимандиас все еще супергерой, и поскольку его план находится в такой моральной серой зоне, это спорный пример героя-антагониста.
III. Типы протагонистов
а. Злодей
Большинство антагонистов — традиционные злодеи — они «плохие парни» и в какой-то мере движимы злом.У самых интересных злодеев есть правдоподобные мотивы для своих действий, но иногда злодей — это просто чистое зло и не хочет ничего, кроме как убивать и разрушать без особой причины.
г. Герой-антагонист
Иногда вся история рассказывается с точки зрения злодея, и таким образом герой становится антагонистом. Это менее распространено, чем традиционные злодеи, но может создать очень интересную историю!
IV. Важность антагонистов
Истории естественным образом движутся конфликтом, а простейшая форма конфликта — это конфликт между двумя или более персонажами.У героя есть цель; злодей надеется помешать этой цели; и конфликт развивается естественным образом. Конечно, чтобы история была убедительной, антагонист должен быть хорошо написан и правдоподобен. Мы расскажем, как это выглядит, в разделе «Как создать антагониста».
V. Примеры антагонистов в литературе
Пример 1Инспектор Жавер ( Les Misérables)
Инспектор Жавер на протяжении всей истории стоит в серой зоне морали, но его все еще можно рассматривать как антагониста-героя.В целом он кажется хорошим человеком, но он чрезмерно привязан к своим моральным принципам и непреклонно преследует главного героя, Жана Вальжана, чтобы арестовать его за воровство.
Пример 2Король Джоффри ( Песнь льда и пламени серия )
В серии «Песнь льда и пламени » Джорджа Мартина есть несколько отдельных сюжетных линий, каждая со своими главными героями и антагонистами. Во многих случаях мы видим историю с обеих сторон, то есть отдельные персонажи, такие как Станис Баратеон, по очереди занимают роли как главного героя, так и антагониста.Однако есть один персонаж, который однозначно является злодеем-антагонистом — король Джоффри, который, кажется, не имеет ничего, кроме врагов в истории, и явно злой.
VI. Примеры антагонистов в популярной культуре
Пример 1Саруман ( Властелин колец, трилогия)
У трилогии много антагонистов, большинство из них довольно простые злодеи (фэнтезийная вселенная Толкина — страна абсолютной черно-белой морали).Тем не менее, волшебник Саруман более понятен, чем многие другие злодеи, поскольку он начинает как друг героев и наставник Гэндальфа.
Пример 2Российская Красная Армия (Падение )
Фильм « Падение » рассказывает о последних днях жизни Адольфа Гитлера с точки зрения его молодой машинистки. Поскольку главный герой — немец во время Второй мировой войны, противники — враги Гитлера — Российская Красная Армия, которая обстреливает Берлин.Возможно, это пример героя-антагониста. Однако изображение Красной Армии в фильме лишь незначительно более позитивно, чем изображение нацистов. Так что точнее будет сказать, что этот мрачный фильм изображает мир без героев.
Пример 3У каждого супергероя есть как минимум один антагонист, а обычно несколько — Джокер Бэтмена, Лекс Лютор Супермена или Локи Тора. Обратите внимание: если история рассказывается с точки зрения злодея, супергерой становится антагонистом героя.
VII. Связанные термины
Главный герой
Главный герой — главный герой истории, обычно, но не всегда, герой. Это противник антагониста.
Дейтерагонист
Второстепенный главный герой, менее важный, чем главный герой, но все же важный для истории, называется дейтерагонистом . Примеры могут включать Сэма Гэмджи из Властелина колец или Хана Соло из Звездных войн .
Антагонист — определение и примеры
Определение антагониста
Что такое антагонист? Вот краткое и простое определение:
Антагонист — это обычно персонаж, который противостоит главному герою (или главному герою) истории, но антагонистом также может быть группа персонажей, организация или сила, с которыми главный герой должен бороться. . Простым примером антагониста является Королева в Белоснежка и семь гномов, , которая выступает против и хочет уничтожить Белоснежку.
Некоторые дополнительные ключевые детали об антагонистах:
- Не во всех историях, в которых есть главный герой, обязательно есть антагонист, но антагонист не может существовать без главного героя.
- Конфликт, возникающий из-за противостояния антагониста главному герою, не всегда может проявляться как явное противостояние (как это происходит между Королевой и Белоснежкой). Иногда антагонист может бросить вызов главному герою другими способами, например, посредством конкурентного соперничества, не связанного с насилием.
- Хотя антагонист часто может быть «плохим» или «злым», это не всегда так. Антагонисты могут быть такими же сложными, как и главные герои, с различными мотивами или убеждениями.
Антагонист Произношение
Вот как произносится антагонист: an- tag -uh-nist
Типы антагонистов
Когда большинство людей думают об антагонисте, они думают о «плохом парне», как злодеи в фильмы о супергероях. Но на самом деле существует много разных типов антагонистов, из которых стандартный злодей — только один.
- Злодей-антагонист: Злодей-антагонист — наиболее распространенный тип антагонистов. Персонаж, который является злодеем-антагонистом, имеет злые или эгоистичные намерения и хочет остановить или воспрепятствовать главному герою, который — в обычном повествовании — скорее всего, будет «хорошим парнем». Королева в Белоснежке — главный злодей. Таковы антагонисты в большинстве историй о супергероях и боевиках. Важно помнить, что злодей — это просто один тип антагонистов, и не все злодеи являются антагонистами.
- Герой-антагонист : Герой-антагонист — это персонаж, чьи намерения благородны, и их главная цель — остановить или воспрепятствовать действиям главного героя по любой причине. Если в истории есть главный герой-злодей, велики шансы, что антагонист-герой попытается помешать планам злодея. Однако присутствие героя-антагониста не всегда означает, что главный герой должен быть злодеем. Поскольку антагонист-герой встречается не очень часто, его часто используют, чтобы оспорить предположения читателя о моральном выборе или традициях повествования.
- Групповые антагонисты : Антагонистом рассказа может быть группа людей, а не один человек. Например, в военном фильме антагонистом может быть целая страна. Или в таком фильме, как « вересков», «», который представляет собой мрачную комедию о социальной динамике в средней школе, антагонистом является клика, состоящая из популярных девушек, которых всех зовут Хизер (поэтому группа называется «Верески» ).
- Нечеловеческий антагонист : В истории может быть антагонист, который вообще не является человеком (или группой людей).Например, в Jaws антагонист — акула-убийца. Фактически, антагонистам технически не обязательно быть живыми . В жанре «фильмов-катастроф», где главным источником конфликта является надвигающаяся или продолжающаяся катастрофа, иногда стихийные бедствия сами выступают в качестве основных антагонистов (например, землетрясения, приливные волны или астероид, ударяющийся о Землю). Некоторые даже утверждают, что общественные обычаи, мешающие главному герою, могут быть антагонистами.
- Внутренний антагонист: Некоторые авторы используют термин «внутренний антагонист» для описания ситуации, в которой внутренний недостаток или проблема главного героя в первую очередь стоит на его или ее пути.Например, можно утверждать, что в романе Джейн Остин « Эмма », что именно уверенность Эммы в своих способностях и праве вмешиваться в жизни других в первую очередь стоит на ее пути. Хотя в романе есть и другие персонажи, которые каким-то образом доставляют неудобства Эмме, в конечном итоге конфликты в романе вызваны собственными действиями Эммы, и препятствия, которые ей приходится преодолевать, находятся внутри нее, а не созданы кем-либо еще. Тем не менее, некоторые люди могут возразить против термина «внутренний антагонист» и вместо этого возразят, что в романе типа « Эмма » вообще нет настоящего антагониста, а вместо этого просто есть динамичный, сложный главный герой.
Примеры усложненного антагониста
Антагонист может действовать так многими разными способами, что не каждый антагонист, с которым вы сталкиваетесь, попадет в одну из категорий, описанных выше. Некоторые антагонисты могут даже попасть в более , чем одна из категорий. Хорошим примером сложного антагониста является монстр из романа Франкенштейн .
Сложный антагонист в фильме Мэри Шелли
ФранкенштейнПовествование Франкенштейн рассказывает о человеке по имени Виктор Франкенштейн, который создает монстра, называемого Существом.Существо в конечном итоге восстает против своего создателя и разрушает жизнь Виктора. Но монстр — не простой злодей-антагонист. Как ясно говорится в романе, монстр действует так же, как и он, потому что Виктор сначала оставляет монстра после его создания, а затем отказывается создать монстра-компаньона, чтобы облегчить ужасное одиночество монстра. Месть чудовища — сделать Виктора таким же одиноким, убив его близких. Кроме того, в какой-то момент романа Существо рассказывает Виктору свою историю одиночества после того, как Виктор оставил его — в этой части романа монстр становится главным героем его собственной истории.В целом, Виктор — главный герой Франкенштейн : аудитория видит историю глазами Виктора, зная, что Виктор знает, и понимая последствия событий, исходя из того, что чувствует и рассказывает Викторс. Публика Виктору симпатизирует. Но аудитория также до некоторой степени симпатизирует Существу, которое становится смертоносным злодеем из-за собственного чувства ужасной несправедливости. Существо — злодей, но его можно понять, а значит, это сложный антагонист.
Литературные термины, которые обычно путают с антагонистом
Есть несколько тесно связанных терминов, которые часто путают с антагонистом, но между ними есть важные различия, которые важно знать, чтобы лучше понять, как идентифицировать антагониста.
- Злодей : Злодей — злой персонаж в истории. Конечно, как мы теперь знаем, не все антагонисты злы или злодеи. Вы можете слышать, как люди используют термины «злодей» и «антагонист» как синонимы, но это неверно.Злодеи часто бывают антагонистами, но не всегда. Чтобы определить местонахождение антагониста, найдите основной конфликт истории и спросите, откуда этот конфликт возник.
- Фольга : Фольга — это персонаж, который контрастирует с другим персонажем, чтобы лучше выделить их определяющие черты. Например, Драко Малфой и Гарри Поттер — два амбициозных персонажа, которые делают кардинально разные выборы в серии книг Гарри Поттер . Гарри борется со злом, или лорд Волан-де-Морт, и Драко присоединяется к нему — сравнение этих двух персонажей фокусирует внимание на их хороших и плохих качествах.Лорд Волан-де-Морт — главный антагонист в этой серии, хотя главный герой, Гарри, встречает на своем пути множество других препятствий (включая Драко). В то время как антагонист часто выступает для главного героя как фольга, это , а не . У главного героя может быть много фишек и только один основной антагонист.
- Antihero : Антигерой — это тип главного героя, который может поступать правильно, но часто делает это по неправильным причинам. Отсутствие большинства обычных черт героев (честность, храбрость, порядочность и т. Д.), И они, как правило, движимы собственными интересами, а не , а не стремлением к нравственному поведению.Антигерой может изначально выглядеть как злодей, и, следовательно, можно было бы подумать, что он антагонист, но ключевое отличие состоит в том, что антигерой по-прежнему будет продвигать сюжет вперед и должен преодолевать препятствия, представленные другими (антагонистическими) силами. .
Примеры антагонистов
Антагонисты могут иметь множество различных форм. Хотя во всех историях есть главный герой, не во всех историях есть антагонист (хотя в большинстве случаев). Ниже мы привели пример каждого из четырех основных типов антагонистов: злодеев, антагонистов героев, групповых антагонистов и «нечеловеческих» антагонистов, а также пример антагониста, который нелегко вписывается ни в один из эти категории.
Злодей-антагонист в
Чудо-женщинаВ фильме 2017 года « Чудо-женщина » Диана Принс спасает американского шпиона и пилота, капитана Стива Тревора, после того, как он потерпел крушение возле скрытого острова, где живут она и амазонская раса женщин-воинов. После того, как он рассказывает амазонцам о разрушениях, происходящих в мире в результате Первой мировой войны, Диана решает сопровождать его на передовую. Она считает, что виноват Арес — злодей, основанный на греческом боге войны, и что, если Арес умрет, война закончится.Личность Ареса раскрывается только в самом конце фильма, и два персонажа сражаются. Хотя у Ареса относительно мало времени на экране, и в этой истории много других злодеев, ясно, что злодеяния Ареса были основной причиной страданий главного героя и тех, кого она хочет спасти, что делает Ареса основным. злодей-антагонист в этом повествовании.
Герой-антагонист в
Во все тяжкиеГлавный герой сериала « Во все тяжкие» — Уолтер Уайт, школьный учитель химии, у которого диагностирован неоперабельный рак легких.Чтобы оставить свою семью на надежной финансовой основе, он начинает производить и продавать запрещенный наркотик, известный как метамфетамин. Хотя основное желание Уайта может быть хорошим — помочь его семье, — его преступная жизнь быстро выходит из-под контроля, и он становится главным злодеем шоу. Между тем зять Уайта, Хэнк, является амбициозным и бесстрашным агентом Управления по борьбе с наркотиками, который пойдет на все, чтобы найти местного торговца наркотиками, известного как Гейзенберг (который на самом деле является Уолтером Уайтом).У Хэнка в основном благородные намерения (он хочет защитить общественность), и он постоянно срывает планы Уайта по торговле наркотиками, что делает его антагонистом героя.
Групповой антагонист в книге Джорджа Оруэлла
1984В романе-антиутопии «1984» изображена политическая реальность, в которой современная Великобритания, названная в романе «Взлетно-посадочная полоса №1», контролируется системой правительства, именуемой «Партия». Страна находится в постоянной войне, системы наблюдения следят и контролируют каждое движение населения с помощью бригады полиции мыслей (которая наказывает индивидуализм), и всем постоянно манипулируют с помощью пропаганды.Повествование следует за главным героем Уинстоном, который критикует Партию и начинает вести дневник с критикой. Он начинает тайный роман с женщиной по имени Джулия после того, как обнаруживает, что она разделяет некоторые из его чувств. Пара должна быть хитрой, чтобы не быть пойманными полицией мыслей, но в конце концов их обнаруживают в ходе операции по укусу и подвергают пыткам. В то время как Партия в романе представлена через персонажа по имени О’Брайен, которого можно назвать антагонистом романа, вы также можете утверждать, что истинным антагонистом романа является вся группа Партии, потому что она в более широком смысле безликая. партия, а не высокопоставленный функционер партии, такой как О’Брайен, это всепроникающая сила, которая препятствует Уинстону.
Нечеловеческий антагонист в
Deep ImpactПредпосылка фильма Deep Impact заключается в том, что комета движется к Земле. Повествование в основном следует за молодым астрономом-подростком, который первым открыл комету, но также переплетается между другими персонажами и способами, которыми они готовятся к удару кометы, когда она мчится к Земле, где, вероятно, убьет всех. Главный конфликт — это гонка со временем, когда ученые, политики и молодой астроном пытаются предотвратить катастрофу.Группа астронавтов в открытом космосе может разбить часть кометы, но не всю ее, поэтому астронавты принимают смелое решение разбить свой корабль вместе со всеми оставшимися взрывчатыми веществами во вторую часть кометы. тем самым спасая Землю от полного уничтожения. Центральное напряжение фильма создается путем кометы к Земле, что делает саму комету примером нечеловеческого антагониста.
Какова функция антагониста в литературе?
В то время как главный герой имеет тенденцию предлагать сюжетную линию с человеком, с которым аудитория может идентифицировать или «болеть», когда они стремятся достичь какой-то цели, антагонист — это кто или что создает напряжение или конфликт, которые затрудняют достижение этой цели. .Без антагониста многим историям, казалось бы, не хватало чувства драмы или действия, и главный герой не столкнулся бы с какими-либо проблемами при достижении своей цели. Антагонист волнует или мешает главному герою, и поэтому вносит конфликт в сюжет. В типичном повествовании этот конфликт приводит к кульминации сюжета и обычно служит предпосылкой для большей части сюжета, что делает повествование увлекательным. Конфликты, вызванные антагонистом, также могут проверить мораль и убеждения персонажей, что показывает аудитории, кто на самом деле главные герои и что они представляют.
Другие полезные ресурсы по антагонистам
Антагонист: что это?
Антагонист в художественном произведении — это персонаж или сила, которые противостоят главному герою, главному герою, который часто является героем рассказа. Антагонист создает конфликт истории, создавая препятствие для главного героя истории.
Вот что вам нужно знать об антагонистах, чтобы использовать их в своих рассказах.
Что такое антагонист?
Каждая история нуждается в конфликте, и общий источник этого конфликта — антагонист.Эти персонажи добавляют в историю своего рода конфликт. Как правило, этот конфликт находится в прямой оппозиции к главному герою или герою рассказа.
Хотя сюжетные злодеи почти всегда являются антагонистами в прямом конфликте с главным героем, не все антагонисты являются злодеями.
Напряжение и конфликт, создаваемые антагонистами, могут быть незаметными, например, создавая препятствия для главных героев, а не противодействуя им напрямую, или невольно препятствуя продвижению героя.В некоторых историях антагонистом может быть сила природы. Сам главный герой может стать антагонистом, когда история имеет дело с внутренней битвой.
Как работает антагонист?
Чтобы понять роль антагониста в художественной литературе, подумайте о классической структуре старого вестерна. Герой истории — или главный герой — едет по городу, и горожане просят их о помощи. Город терроризирует злодей, который берет то, что они хотят, и угрожает убить любого, кто встанет у них на пути.Этот злодей является антагонистом, и то, что они терроризируют в городе, создает конфликт, который герой может разрешить. Герой и злодей сражаются друг с другом, и когда герой побеждает, конфликт разрешен, город спасен, и история подходит к завершению.
Очевидно, это упрощенный взгляд на роли главных героев и антагонистов, и хорошая литература никогда не бывает такой простой. Истории богаче, когда читатели могут сопереживать как главным героям, так и антагонистам.Некоторые истории могут даже бросить читателю представление о главном и антагонисте с ног на голову, и они не могут сказать, кто добрый, а кто злой.
Известные примеры антагонистов
Чтобы лучше понять антагонистов, полезно проанализировать антагонистов из известных историй.
В современной английской литературе одно из самых известных сочетаний главного героя и антагониста — это Гарри Поттер и лорд Волан-де-Морт в фильме Дж. Роулинг из сериала «Гарри Поттер». Лорд Волан-де-Морт представляет злую силу в волшебном мире Роулинг, которая угрожает как жизни Гарри, так и всем добрым волшебникам и ведьмам.Все семь книг серии построены на решающей битве между добром и злом. По пути лорд Волдеморт представляет второстепенных злодеев, чтобы попытаться заставить Гарри споткнуться и потерпеть неудачу. Это создает напряжение, которое поддерживает развитие сюжета и увеличивает ставки в финальной битве.
Эта динамика преобладает во всех формах повествования. В мире кино одной из самых известных комбинаций главного героя и антагониста является комбинация Люка Скайуокера и Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звездных войн».Дарт Вейдер угрожает не только Люку и его друзьям, но и всему хорошему в галактике. У Вейдера есть союзники, которые пытаются помешать Люку в меньших битвах — создают напряженность и поддерживают развитие сюжета до последнего боя Люка с Вейдером.
Сложный антагонист
Приведенные выше примеры — довольно простые примеры антагониста. Они злодеи, которые явно противостоят герою. Не все антагонисты так просты. Любое существо, которое создает конфликт и препятствия, может считаться антагонистом.
Например, соперничество может обеспечить динамику протагониста / антагониста, не обязательно делая одну сущность «хорошей», а другую — «злой». Может существовать здоровая конкуренция, которая движет сюжетом и создает конфликт, не полагаясь на идеи добра и зла.
Точно так же силы природы могут стать антагонистами в историях. Моряк мог бороться с сильным штормом, угрожающим его жизни. Шторм не «зло», но он служит для создания конфликта, который главный герой должен разрешить.
Другой довольно распространенный антагонист, который не входит в категорию «злодеев», — это сам главный герой. Истории могут касаться вопросов внутреннего конфликта, и в этом случае конфликт исходит изнутри «героя» рассказа. Персонаж одновременно создает и разрешает конфликт.
Ключевые выводы
- Антагонист — это персонаж в истории, который создает напряжение, которое главный герой должен разрешить.
- Самый простой пример антагониста — классический злодей, такой как Дарт Вейдер, который находится в прямой оппозиции с явным героем, таким как Люк Скайуокер.
- Антагонисты также могут быть более сложными — они могут быть силами природы, и даже сам главный герой может создать свой собственный конфликт.
Что такое антагонист? Определение и объяснение примеров
Что такое антагонист в рассказе, вынесенном во внешний вид?
Как сделать мир антагонистом
Обычно персонаж противостоит внутреннему (конфликт внутри себя) или внешнему (конфликт с миром или другими персонажами). Оба варианта — отличные варианты, потому что внутренний и внешний конфликт могут оживить вашу историю.
Хотя и редко, но есть истории, в которых антагонистом выступает сила окружающей среды. Этот антагонист окружающей среды уходит корнями в давнюю структуру конфликта «человек против природы».
Яркий пример «мужчина против природы» или, скорее, «женщина против природы» в кино — это один из лучших фильмов Альфреда Хичкока: « Птицы ».
Это следующее видео из «Take» показывает нам, как конфликт центральной власти в «Птицах» наложен на подтекст. Это также показывает нам, как Хичкок устрашающе передает конфликт.
Примеры антагонистов • Видео-очерк о птицах от Take
В этом классическом фильме Хичкока Мелани Дэниэлс (Типпи Хендрен) и жители Бодега-Бэй необъяснимо атакованы обезумевшими птицами.
«Птицы» олицетворяют антагонистические силы природы, а Мелани — главный герой истории.
Причина, по которой этот конфликт работает так хорошо, заключается в том, что во многих отношениях он совершенно необъясним. Этот конфликт приводит к ощущению сверхъестественного — и он активирует разум аудитории, чтобы догадаться, что означает подтекст.
Определение антагониста
Что такое вторичные антагонисты?
В любой истории может быть только один главный герой. Однако антагонистов может быть бесчисленное множество. В некоторых фильмах есть первичный антагонист, а затем несколько вторичных антагонистов.
В одном из лучших фильмов Квентина Тарантино « Убить Билла» есть главный и несколько второстепенных антагонистов. Главный антагонист — сам Билл; второстепенные антагонисты — члены Отряда Убийц Смертельной Змеи.
В этой следующей сцене мы увидим, как Квентин Тарантино записывает второстепенных антагонистов в свой сценарий «Убить Билла » с помощью «Списка смерти» невесты.
Что такое антагонист? • Kill Bill Script
Один полезный трюк — думать о второстепенных антагонистах как о мини-боссах, с которыми вы сталкиваетесь в видеоигре, прежде чем добраться до финального босса.
В Kill Bill Невесте предстоит сразиться с этими второстепенными мини-боссами-антагонистами, прежде чем попасть к финальному боссу главного антагониста.
Кто в наши дни антагонист?
Какова функция антагониста в рассказе сегодня?
Теперь, когда мы рассмотрели некоторые современные и исторические примеры антагонистов в кино, справедливо предположить, что мы готовы ответить на вопрос: что такое антагонист? Антагонист — это просто сила, противостоящая главному герою, физическая, экологическая или психологическая.
Каковы преимущества понимания функции антагониста? Самым важным преимуществом является то, что он помогает нам решить, какие типы конфликтов персонажей лучше всего работают в наших собственных сценариях.
Если наш главный герой — герой, то антагонист должен быть злодеем. Если наш главный герой — антигерой, то антагонист должен быть моральным антагонистом. Если наш главный герой не в ладах с миром, он должен задушить его; и так далее и тому подобное.
Но чтобы полностью понять конфликт персонажей, нам нужно также взглянуть на главных героев.
Главный герой против антагониста
Кто такой главный герой и антагонист?
Главный герой и антагонист действуют в симбиотических отношениях друг с другом.Возможно, хороший способ исследовать антагонистов — изучить их противоположность: главного героя.
Вот пример того, как возникает и разрешается конфликт между главным и антагонистом.
Главный герой : Персонаж хочет вещь X .
Антагонист : Персонаж B хочет вещь Z .
Вещи X и Z находятся напротив друг друга.
Давайте подключим эти переменные, работая с The Lion King .
Примеры протагонистов и антагонистов • Король Лев
Главный герой: Симба требует правосудия за своего убитого отца.
Антагонист: Шрам хочет абсолютной власти над прайдом.
Обратите внимание, как эти две вещи работают друг против друга? Это связано с тем, что борьба главного героя и антагониста является наиболее распространенным примером конфликта персонажей. Момент, когда эти персонажи и вещи, которые они хотят, сталкиваются, называется кульминацией.
ВВЕРХ ДАЛЕЕ Кто такой главный герой?Протагонисты и антагонисты работают друг против друга в спорных, но симбиотических отношениях. Мы рассмотрели различные типы антагонистов на примерах из кино и телевидения, поэтому давайте сделаем то же самое с главными героями. На примерах из Star Wars , Tenet и других мы разберем, как главные герои используются в сценарии, чтобы вы были готовы решать конфликт персонажей в своих сценариях.
Следующее: Кто главный герой? →
Примеры и определение антагониста
Определение антагониста
В литературе антагонист — это персонаж или группа персонажей, которые противостоят главному герою Протагонист . Термин «антагонист» происходит от греческого слова antagonistēs , что означает «противник», «конкурент» или «соперник».
Обычно антагониста называют злодеем (плохой парень), против которого сражается Герой (хороший парень), чтобы спасти себя или других.В некоторых случаях внутри главного героя может существовать антагонист, который вызывает внутренний конфликт или моральный конфликт внутри его разума. Этот внутренний конфликт является основной темой многих литературных произведений, таких как Доктор Фауст Кристофера Марлоу, Гамлет Уильяма Шекспира и Портрет молодого художника Джеймса Джойса. Как правило, антагонист предстает перед главным героем как фольга, воплощая в себе качества, которые контрастируют с качествами главного героя.
Примеры антагонистов в литературе
Пример № 1:
Антигона (Софокл)Классическим примером антагониста является царь Креонт в трагедии Софокла Антигона . Здесь функция антагониста заключается в том, чтобы препятствовать продвижению главного героя с помощью злых заговоров и действий. Антигона, главный герой, борется с королем Креонтом, антагонистом, в ее попытке устроить своему брату достойное захоронение. Своими злыми замыслами Креонт пытается помешать ей в этой попытке, объявив, что ее брат был предателем, и постановив, что «он должен быть оставлен на произвол судьбы.Этот конфликт между главным героем и антагонистом становится темой этой трагедии.
Пример № 2:
Отелло (Уильям Шекспир)Другой пример антагониста — персонаж Яго в шекспировском « Отелло ». Яго считается одним из самых известных злодеев всех времен, проводя все свое время в заговоре против Отелло, главного героя, и его жены Дездемоны. Через свои злые планы Яго убеждает Отелло, что его жена изменяет ему, и даже убеждает его убить свою собственную жену, несмотря на то, что она была ему верна.Что отличает Яго от других антагонистов, так это то, что мы действительно не знаем, почему он хочет уничтожить Отелло.
Пример № 3:
Доктор Джекил и мистер Хайд (Роберт Льюис Стивенсон)В своем романе Доктор Джекил и мистер Хайд Роберт Луи Стивенсон исследует тему двойника, в которой Хайд не только злой двойник благородного доктора Джекила, но его противник. Джекил создает Хайда путем серии научных экспериментов, чтобы доказать свое утверждение:
«Человек на самом деле не один, а на самом деле двое.
Он имеет в виду, что человеческая душа представляет собой смесь зла и добра. Другими словами, антагонист каждого мужчины существует внутри него самого. Хайд — проявление зла, существовавшего в благородном докторе Джекилле. Известный как респектабельный викторианский джентльмен, Джекил никогда не смог бы исполнить свои злые желания. Он отделил свое «злое я» и дал ему отдельную идентичность, таким образом изобретая своего собственного антагониста, который в результате приводит его к падению.
Пример № 4:
Убить пересмешивающую птицу (Харпер Ли)Боб Юэлл — злобный антагонист в книге Харпер Ли «Убить пересмешивающуюся птицу» .Убежденный, что Мэйелла могла быть виновна в совершении преступления, Юэлл стремится сделать так, чтобы наказание понесли кто-то другой. Юэлл продолжает следовать за Аттикусом, судьей Тейлор и Хелен Робинсон — даже после завершения дела — и доходит до того, что почти убивает детей Финча.