Человек и природа: христианская альтернатива
Человек и природа: христианская альтернатива
Православный взгляд узнает в подмене понятий, воцарившейся в западной цивилизации, нечто более серьезное, чем реорганизация мирового экономического устройства, нечто более зловещее, чем обычное стремление к наживе.
Отказ от развития, обрекающий слабые страны на крах, а их жителей на вымирание, говорит о том, что субъект мирового управления мотивирован злом. Он ведет планету к катастрофе. Он не от Бога.
На протяжении всей истории человек преобразовывал природу вокруг себя, не присваивая ее дары, а стремясь их приумножить. Производя отбор сельскохозяйственных культур, человек не только обслуживал свои нужды, но и вносил разнообразие в природу. Домашние животные, особенно близкие спутники человека — собаки и кошки — тем отличаются от своих диких родственников, что в них вложена частица человеческой души.
О принципиальном различии в отношении к животным в восточных верованиях и в христианстве писал князь Е. Н. Трубецкой: «Жалостливое отношение к живой твари есть и в религиях Востока, в браманизме и буддизме, но там это сострадание и жалость обусловлены признанием тщеты всего жизненного стремления как такового. Эта жалость чужда надежды; она не несет с собою никакого обетования и радости для низшей твари. Христианство любит эту тварь иною любовью: оно верит в ее безусловную ценность и открывает ей в человеке и через человека сонаследие вечной жизни».
Возникновение домашних животных за много веков и эпох до появления научной селекции и открытия генетики — доказательство правоты христианского взгляда на отношения человека с природой.
Преображение природы человеком — процесс, в котором неизменно уничтожаются не только отдельные особи, но и видовые массы. Одним видам делается преимущество над другими — культурным растениям (не обязательно употребляемым в пищу) над сорняками, насекомым, способствующим опылению, — над насекомыми, поедающими кору и листья живых растений или сосущими кровь человека или скота. Это отличие подхода авраамических религий от ряда восточных религий (буддизма, джайнизма) исходит не из произвола, а из представления о Божественном присутствии в дикой природе.
Одним видам делается преимущество над другими — культурным растениям (не обязательно употребляемым в пищу) над сорняками, насекомым, способствующим опылению, — над насекомыми, поедающими кору и листья живых растений или сосущими кровь человека или скота. Это отличие подхода авраамических религий от ряда восточных религий (буддизма, джайнизма) исходит не из произвола, а из представления о Божественном присутствии в дикой природе.
Н. О. Лосский описывал «предвестники» нравственного поведения у высокоразвитых млекопитающих (хищников и травоядных) и напротив, прототипы безнравственности — использование своего потомства в пищу, умерщвление полового партнера и др. — у ряда видов дифференцированных членистоногих (пауков, клещей, термитов). При этом он отмечал, что у животных-паразитов наблюдается гипертрофированное развитие одних систем (пищеварение, размножение) и неразвитие других (зрение, дыхание). Из его сопоставления следует, что бытовое эстетическое восприятие человеком различных видов живых существ зависит не только от их формы, цвета, движения, но и от их образа жизни, вплоть до дифференциации внутри отрядов и семейств.
Следуя христианской этике, человек целенаправленно помогает братьям меньшим, которым покровительствует, избавиться от паразитов, мешающих жить, цвести и плодоносить, высасывающих кровь и соки. Преображенная человеком природа отличается от хаоса нетронутой природы тем же, чем сад отличается от леса. Сад — это преображенная, более совершенная природа, где растения не отнимают друг у друга свет и тепло, где им продлевается жизнь, когда они болеют, в которой сам человек испытывает высшие эстетические переживания. Превращение дикого леса в сад — стремление к Божественному идеалу гармонии. Оно требует целенаправленного творческого, развивающего душу труда, противостоящего энтропии как в природе, так и в самом человеке. Такую деятельность в быту называют «благодарной», поскольку ее результат вызывает особого рода эстетические чувства у самого преобразующего — подобно чувствам композитора, завершившего симфонию.
Превращение дикого леса в сад — стремление к Божественному идеалу гармонии. Оно требует целенаправленного творческого, развивающего душу труда, противостоящего энтропии как в природе, так и в самом человеке. Такую деятельность в быту называют «благодарной», поскольку ее результат вызывает особого рода эстетические чувства у самого преобразующего — подобно чувствам композитора, завершившего симфонию.
Городская среда, насыщенная садами и парками, не только содержит больше кислорода, чем «каменные джунгли» — в ней человек раскрывает лучшие свои черты, вдохновляется самыми чистыми помыслами, особенно если эстетика природы вливается в эстетику классической архитектуры.
Христианский идеал предполагает вовлечение дикой природы в человеческие смыслы — в противоположность первобытному хаосу, а никак не в согласии с ним. Сюжеты русских икон «О тебе радуется, благодатная, всякая тварь», где Богородица изображалась на фоне храма в окружении дикой твари — не хищной, не коварной, а преображенной, тянущейся к ней с выражением любви, или «Всякое дыхание да хвалит Господа», где твари лесные, стремясь ко Христу, соседствовали с ангелами небесными.
«Если есть всемирный смысл, то весь мир должен объединиться во единый храм Божий, вся тварь должна собраться вокруг благовестителя этого смысла — человека… Это и есть тот грядущий космос, собранный во Христе, мир, согретый материнскою любовью св. Девы и воскресший в Боге, который в христианстве противополагается ныне царствующему на земле хаосу», — писал по этому поводу Е. Н. Трубецкой.
Стремление к этому идеалу в человеческой культуре воплотилось в создании зоологических садов и парков. Аллегории приручения всего животного мира проникли и в советскую детскую литературу, служа образной антитезой насильственной мировой революции в поэтических сказках К. И. Чуковского. К этому же ряду относится многовековой цирковой жанр укротительства, в начале ХХ века в России ставший высоким искусством благодаря В. Л. Дурову. Между тем в западной культуре середины ХХ века эта идея инвертировалась в свою противоположность — в опыты проживания людей в хищной стае не с целью ее очеловечивания, а ради эскапистского погружения человека в первобытность.
Отечественное цирковое сообщество практиковало выращивание детенышей хищников в домашних условиях, о чем были написаны замечательные развивающие книги. Увы, это начинание было прервано после инцидента с семьей Берберовых, содержавших дома взрослых львов. Фактически Берберовы совершили две ошибки: во-первых, предоставили диким зверям статус равноправных членов семьи, во-вторых, создали вокруг питомцев телевизионный культ — то есть, сообщив питомцам человеческие свойства, развили в них гордыню. Этот эпизод, достойный не только естественнонаучной, но и богословской интерпретации, не опровергает, а подтверждает императив владычествования человека над дикой природой, постулированный в Книге Бытия.
Христианское отношение человека с живой природой — это отношение покровительства. Природа не может без человека излечить свои раны не только, когда их создал сам человек — например, при извержении вулкана или падении метеорита. Только человек в состоянии остановить наступление пустыни, спасти растения от засухи, погасить пожар, вызванный молнией.
Вопреки обилию природозащитных мероприятий и инициатив, сам стиль организации которых выражает ханжество международной бюрократии, процессы глобализации отнюдь не способствуют сохранению природы в преображенном или даже в первобытном состоянии. Распад СССР ознаменовался разрушением и разграблением уникального Сухумского заповедника. В Африке национальные парки (Кения, Танзания) стали лагерями незаконных вооруженных формирований при прямом попустительстве западных держав. Подвергшийся «демократизации» Египет не имеет средств на борьбу с опустыниванием своих земель. Практика политического мальтузианства грозит как человеку, так и живой природе, поскольку лишает ее покровительства, к которому Св. Писанием призван человек.
Исходя из этого, русское православие, формулируя собственный подход к проблемам окружающей среды, может выступить на международном уровне с Доктриной преображения природы, ставящей во главу угла Человека — как выразителя воли Господней и как покровителя всего живого. Человек, как образ и подобие Божие, должен обладать источниками собственного выживания, чтобы осуществлять заботу о природе и целенаправленно, а не хаотически, восстанавливать ее цветущее разнообразие. Фундаментальное право человека на жизнь есть первая предпосылка развития природы в гармонии.
Человек, как образ и подобие Божие, должен обладать источниками собственного выживания, чтобы осуществлять заботу о природе и целенаправленно, а не хаотически, восстанавливать ее цветущее разнообразие. Фундаментальное право человека на жизнь есть первая предпосылка развития природы в гармонии.

До получения достоверных данных о тенденции к глобальному потеплению и/или об угрозе полного истощения минеральных ресурсов земли за 100 лет (точнее, за 60, т. к. подобный прогноз Римского клуба относится к 1972 году) как исполнение указаний и требований, основанных на неподтвержденных гипотезах, представляется нецелесообразным.
«Существующие учебники экологии, в которых нет Божиего мира, представляются мне каким-то чудовищным искажением природы», — говорил на Рождественских Чтениях 1997 года энтузиаст религиозного преподавания естественнонаучных дисциплин профессор Московской государственной геологоразведочной академии, доктор химических наук А. В. Панкратов. К сказанному можно добавить, что в государственных доктринальных документах в этой области сегодня, к сожалению, также нет Божиего мира — зато присутствуют требования IPCC и догматы т. н. Хартии Земли, где права человека приравнены к правам дикой фауны и флоры.
«Чудовищное искажение», о котором говорит А. В. Панкратов, представляется нам результатом не только игнорирования христианского представления об отношениях человека с природой, но и объективных научных данных о природных процессах. Между тем экологические проблемы могли бы стать важной платформой для постоянного диалога между наукой и религией в России, на основе которого выносились бы рекомендации о неотложных мерах защиты природных сред в различных регионах, о ликвидации последствий неряшливого пользования природными источниками и недрами, о восстановлении лесных массивов, о совершенствовании противопожарных мероприятий, о воспроизводстве рыбных ресурсов, а также об уместных и целесообразных формах развития энергетики с учетом экономической обоснованности и о приоритетах создания пригородных зеленых зон и озелененных общественных пространств в городах.
В. Панкратов, представляется нам результатом не только игнорирования христианского представления об отношениях человека с природой, но и объективных научных данных о природных процессах. Между тем экологические проблемы могли бы стать важной платформой для постоянного диалога между наукой и религией в России, на основе которого выносились бы рекомендации о неотложных мерах защиты природных сред в различных регионах, о ликвидации последствий неряшливого пользования природными источниками и недрами, о восстановлении лесных массивов, о совершенствовании противопожарных мероприятий, о воспроизводстве рыбных ресурсов, а также об уместных и целесообразных формах развития энергетики с учетом экономической обоснованности и о приоритетах создания пригородных зеленых зон и озелененных общественных пространств в городах.
Экологическое образование в школе, прививающее не только знания об исчезающих видах, но и о способах их сохранения в естественных и искусственных условиях, необходимо совместить с изучением географии — включая как основы геологии и климатологии, так и экономическую географию. Неподдельная любовь к дикой природе начинается со своих скворцов и журавлей, а не с заморских горилл.
Неподдельная любовь к дикой природе начинается со своих скворцов и журавлей, а не с заморских горилл.
Экологическая доктрина Русской Православной Церкви, выражающая традицию богословской мысли в сфере отношений природы и человека, призвана поставить во главу угла нравственные ценности, рассматривая совершенствование природной среды на основе совершенствования самого человека, и через них сформулировать этические требования ко всем профессиям, связанным с использованием природных ресурсов, отдав должный приоритет отраслям производства общественно необходимых продуктов, и с определением источников средств на экологические нужды — с позиций благополучия и достатка граждан. Этот документ, рассчитанный на мировое звучание, должен быть противопоставлен мизантропии.
Константин Черемных
Человек и природа в русской литературе
(1 вариант)
Одной из проблем, которые волновали и, очевидно, будут волновать человечество на протяжении всех веков его существования, является проблема взаимоотношений человека и природы. Тончайший лирик и прекрасный знаток природы Афанасий Афанасьевич Фет так сформулировал ее в середине XIX века: «Только человек, и только он один во всем мироздании, чувствует потребность спрашивать, что такое окружающая его природа? Откуда все это? Что такое он сам? Откуда? Куда? Зачем? И чем выше человек, чем могущественнее его нравственная
Тончайший лирик и прекрасный знаток природы Афанасий Афанасьевич Фет так сформулировал ее в середине XIX века: «Только человек, и только он один во всем мироздании, чувствует потребность спрашивать, что такое окружающая его природа? Откуда все это? Что такое он сам? Откуда? Куда? Зачем? И чем выше человек, чем могущественнее его нравственная
О том, что человек и природа связаны неразрывными нитями, писали и говорили в прошлом веке все наши классики, а философы конца XIX – начала XX века даже установили связь между национальным характером и образом жизни русского человека, природой, среди которой он живет.
Евгений Базаров, устами которого Тургенев выразил мысль определенной части общества о том, что «природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», и доктор Астров, один из героев пьесы Чехова «Дядя Ваня», сажающий и выращивающий леса, думающий о том, как прекрасна наша земля, –
вот два полюса в постановке и решении проблемы «Человек и природа».
Погибающее Аральское море и Чернобыль, загрязненный Байкал и высыхающие реки, наступающие на плодородные земли пустыни и страшные болезни, появившиеся только в XX веке, – вот лишь немногие «плоды» человеческих рук. А таких, как Астров, слишком мало, чтобы остановить разрушающую деятельность людей.
Тревожно зазвучали голоса Троепольского и Васильева, Айтматова и Астафьева, Распутина и Абрамова и многих, многих других. И возникают в русской литературе зловещие образы «архаровцев», «браконьеришек», «туристов-транзисторщиков», которым «сделались подвластны необъятные просторы». «На просторах» они так резвятся, что за ними, как после Мамаева войска, – сожженные леса, загаженный берег, дохлая от взрывчатки и отравы рыба». Люди эти потеряли связь с землей, на которой они родились и выросли.
Голос сибирского писателя Валентина Распутина в повести «Пожар» звучит гневно и обличающе против людишек, которые не помнят родства своего, своих корней, истока жизни. Пожар как возмездие, обличение, как сжигающий огонь, уничтожающий на скорую руку построенное жилье: «Горят леспромхозовские склады в деревне Сосновка». Повесть, по замыслу писателя, созданная как продолжение «Прощания с Матерой», говорит о судьбе тех, кто …предал свою землю, природу, самую человеческую суть. Прекрасный остров уничтожен и затоплен, так как на его месте должно быть водохранилище, оставлено все: дома, огороды, неубранный урожай, даже могилы – место святое для русского человека. По указанию начальства все должно быть сожжено. Но природа противится человеку. Как кресты, торчат из воды обгорелые скелеты деревьев. Гибнет Матера, но гибнут и души людей, теряются духовные ценности, сохранявшиеся веками. И по-прежнему одиноки продолжатели темы чеховского доктора Астрова Иван Петрович Петров из повести «Пожар» и старуха Дарья из «Прощания с Матерой». Не услышаны ее слова: «Эта земля рази вам однем принадлежит? Это земля-то вся принадлежит кто до нас был и кто после нас придет».
Повесть, по замыслу писателя, созданная как продолжение «Прощания с Матерой», говорит о судьбе тех, кто …предал свою землю, природу, самую человеческую суть. Прекрасный остров уничтожен и затоплен, так как на его месте должно быть водохранилище, оставлено все: дома, огороды, неубранный урожай, даже могилы – место святое для русского человека. По указанию начальства все должно быть сожжено. Но природа противится человеку. Как кресты, торчат из воды обгорелые скелеты деревьев. Гибнет Матера, но гибнут и души людей, теряются духовные ценности, сохранявшиеся веками. И по-прежнему одиноки продолжатели темы чеховского доктора Астрова Иван Петрович Петров из повести «Пожар» и старуха Дарья из «Прощания с Матерой». Не услышаны ее слова: «Эта земля рази вам однем принадлежит? Это земля-то вся принадлежит кто до нас был и кто после нас придет».
Тональность темы человека и природы в литературе резко изменяется: из проблемы духовного обнищания она превращается в проблему физического уничтожения природы и человека. Именно так звучит голос киргизского писателя Чингиза Айтматова. Автор рассматривает эту тему глобально, в общечеловеческом масштабе, показывая трагичность разрыва связей человека с природой, соединяя современность с прошлым и будущим.
Именно так звучит голос киргизского писателя Чингиза Айтматова. Автор рассматривает эту тему глобально, в общечеловеческом масштабе, показывая трагичность разрыва связей человека с природой, соединяя современность с прошлым и будущим.
Уничтожающий и продающий заповедный лес Орозкул превращается в быкоподобное существо, отвергающий народную нравственность и отстранившийся от жизни родных ему мест Сабиджан, вообразивший себя большим городским начальником, проявляет черствость и неуважение к умершему отцу, возражая против его похорон на родовом кладбище Ана-Бейт, – это «герои» романа «Буранный полустанок».
В «Плахе» до предела заострен конфликт между природой и «темными силами», и в лагере положительных героев оказываются волки. Имя волчицы, теряющей по вине людей один выводок за другим, – Акбара, что значит «великая», а глаза ее охарактеризованы теми же словами, что и глаза Иисуса, легенду о котором Айтматов сделал составной частью романа. Огромная волчица не угроза человеку. Она беззащитна перед мчащимися грузовиками, вертолетами, винтовками.
Она беззащитна перед мчащимися грузовиками, вертолетами, винтовками.
Природа беспощадна, она нуждается в нашей защите. Но как порой обидно за человека, который отворачивается, забывает о ней, обо всем добром и светлом, что только есть в ее недрах, и ищет свое счастье в ложном и пустом. Как часто мы не прислушиваемся, не хотим слышать сигналы, которые она без устали посылает нам.
Свои размышления я хочу завершить словами из рассказа Виктора Астафьева «Падение листа»: «Пока падал лист; пока он достиг земли, лег на нее, сколько же родилось и умерло на земле людей? Сколько произошло радостей, любви, горя, бед? Сколько пролилось слез и крови? Сколько свершилось подвигов и предательств? Как постигнуть все это?»
(2 вариант)
Тему человека и природы рассматривали многие писатели, и среди них мне хотелось бы назвать Валентина Распутина и его роман «Прощание с Матерой». Природа в этом произведении предстает перед читателем в разных значениях. Это и пейзаж, и художественный символ гибели, смерти, и выявление сущности человека, человеческой природы; природа как хозяин жизнеустройства, мироустройства. Эти аспекты понимания природы я и попытаюсь раскрыть.
Эти аспекты понимания природы я и попытаюсь раскрыть.
Пейзаж в повести выявляет настроение каждого и всех героев. Когда слухи о переселении жителей были еще неясными, неточными, то природа предстает перед нами успокаивающая, нежная, добрая: «Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал ветерок и от нагретой земли исходило теплое испарение, такая наступала кругом благодать, такой покой и мир… так все казалось прочным, вечным, что ни во что не верилось – ни в переезд, ни в затопление, ни в расставание… В конце романа природа показывается тревожной, затихает в ожидании чего-то плохого, сумрачного; такое же настроение было и у оставшихся жителей Матеры: «Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доносило привычного шума с переката на недалеком верхнем изломе Ангары, не булькала одиноким случайным чмоком со дна рыба, не возникало, не пробивалось нигде длинного и мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста течения, молчала земля – все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой плотью…» В романе картины природы выступают в роли символов, которые меняют свое значение в зависимости от развития сюжета и авторской идеи. К таким символам можно отнести образ Ангары. В начале романа – это «могучая сверкающая течь», которая катится «с чистым, веселым перезвоном», в конце же Ангара вовсе исчезает, она «сгинула в кромешной тьме тумана». Эволюция этого символа неотделима от эволюции жителей Матеры: ведь и они живут как в тумане: Павел на катере не может найти свою родную деревню, старухи, жившие столько лет вместе, не узнают друг друга, лишь видно, как «в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания…» Затем очень символичен туман, опустившийся на Матеру. Такого густого тумана не было уже давно, и он как бы является символическим концом Матеры, последний раз оставляя ее в одиночестве с ее старейшими жителями. Вообще я хочу отметить, что природа, по Распутину, так или иначе изменяется в соответствии с изменениями в людской жизни, и можно сделать справедливый вывод, что природа и человек имеют в романе огромное влияние друг на друга и существуют нераздельно.
К таким символам можно отнести образ Ангары. В начале романа – это «могучая сверкающая течь», которая катится «с чистым, веселым перезвоном», в конце же Ангара вовсе исчезает, она «сгинула в кромешной тьме тумана». Эволюция этого символа неотделима от эволюции жителей Матеры: ведь и они живут как в тумане: Павел на катере не может найти свою родную деревню, старухи, жившие столько лет вместе, не узнают друг друга, лишь видно, как «в тусклом размытом мерцании проносятся мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на тучи очертания…» Затем очень символичен туман, опустившийся на Матеру. Такого густого тумана не было уже давно, и он как бы является символическим концом Матеры, последний раз оставляя ее в одиночестве с ее старейшими жителями. Вообще я хочу отметить, что природа, по Распутину, так или иначе изменяется в соответствии с изменениями в людской жизни, и можно сделать справедливый вывод, что природа и человек имеют в романе огромное влияние друг на друга и существуют нераздельно.
Теперь я перейду к изображению природы как образа Хозяина. Сначала он описывается как «маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек», которого «никто никогда не видел», но «он здесь знал всех и все, что происходило из конца в конец и из края в край на этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле». Однако он не является бессловесным существом: его мысли, его анализ происходящего сразу же выдают его предназначение. С одной стороны, это, безусловно, сам автор, который наблюдает за событиями как бы со стороны, заглядывает вперед повествования («Знал Хозяин, что Петруха скоро распорядится своей избой сам») и выносит его на суд читателя через призму собственного восприятия. А с другой стороны, этот образ настолько гармоничен, что невольно напрашивается его олицетворение с самой природой, и через него она выражает свое отношение ко всему происходящему. Особенно четко это видно в самом конце произведения, когда «..в раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой – то был прощальный голос Хозяина»; природа в образе Хозяина прощается с Матерой, которая была ей так дорога и близка.
Наконец, я подхожу к третьему, самому, на мой взгляд, сложному аспекту представления природы в изображении Валентина Распутина – природы, выявляющей природу человека. Эта тема является одной из основных во всех произведениях писателя. В «Прощании с Матерой» он создал яркие, колоритные образы, показав в них все стороны человеческого характера. Это и бесстыдство Петрухи, который, после того как поджег свою избу, говорил, как «в последний момент проснулся от дыма в легких и от жара в волосах – волоса аж потрескивали»; это и самобытность «чужака» Богодула, и духовная сила старухи Дарьи, которая сама прибирает свою избу, прощается с ней, со своей прошлой жизнью; она исполняет извечный обряд: «…Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение, когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит»; это и недетская серьезность молчаливого Коли, еще совсем маленького мальчика, который, однако, уже успел узнать жизнь. Автор нередко «выворачивает» своих героев наизнанку, показывая самые тайные уголки их души. И я думаю, что Валентина Распутина можно смело назвать знатоком природы человека и писателем драматического времени, совестью своего народа.
И я думаю, что Валентина Распутина можно смело назвать знатоком природы человека и писателем драматического времени, совестью своего народа.
(3 вариант)
Тема взаимоотношений между человеком и природой во все времена была очень актуальна. Она находит свое отражение в произведениях многих писателей: Ч. Айтматова, В. Астафьева, В. Распутина, М. Пришвина, К. Паустовского. В своем сочинении я попытаюсь раскрыть эту тему, опираясь на роман Ч. Айтматова «Плаха», в котором, на мой взгляд, эта проблема поставлена наиболее остро.
Ч. Айтматов уже давно стал одним из ведущих писателей нашего времени. В своем романе он ставит перед нами философскую проблему взаимоотношений Бога, человека и природы. Как это все связано?
Автор объединяет эти понятия в один узел. И именно нам он предоставляет возможность развязать его.
Этот роман – призыв одуматься, оглянуться назад, осознать свою ответственность за все, что происходит сейчас в мире. Экологические проблемы, поднятые в романе, Ч. Айтматов пытается решить прежде всего как проблемы состояния человеческой души. Ведь, разрушая мир, мы обрекаем самих себя на погибель.
Айтматов пытается решить прежде всего как проблемы состояния человеческой души. Ведь, разрушая мир, мы обрекаем самих себя на погибель.
Одна из важнейших проблем романа – взаимоотношения между человеком и окружающей средой. На примере конфликта между волчьей стаей и человеком (в лице Базарбая и шайки Обер-Кандалова) Ч. Айтматов показывает, как может нарушиться равновесие между этими двумя великими силами. Этот раскол провоцирует страшный человек. Базарбай – пьяница, подлец, привыкший оставаться безнаказанным, ненавидящий весь мир, завидующий всем. Он воплощение духовного распада и зла. Базарбай, как хищник, уничтожает все, бессмысленно и грубо врываясь в саванну. Его поступок ужасен, он похищает волчат, лишая потомства волчицу Акбару и Ташчайнара. И это неотвратимо приводит к схватке волчицы и человека, которая завершается трагично. В романе людям противопоставлены волки. Они не просто очеловечены. Ч. Айтматов наделяет их благородством, тем качеством, которого нередко лишены люди. Они самоотверженно преданы друг другу. Но их постигает беда: человек нарушает закон природы, который никогда и нигде не должен быть нарушен. Если бы люди не напали на Акбару, она, встретив беззащитного человека, не стала бы его трогать. Но, загнанная в тупик, отчаявшаяся и озлобленная, волчица обречена на борьбу с человеком. И выход у нее один – убить человека и самой погибнуть. Очень важно, что в этой жестокой борьбе погибает не только Базарбай, но и невинный ребенок. Акбара похищает мальчика и этим мстит за свое потомство. По роковому стечению обстоятельств этот мальчик – сын Бостона.
Они самоотверженно преданы друг другу. Но их постигает беда: человек нарушает закон природы, который никогда и нигде не должен быть нарушен. Если бы люди не напали на Акбару, она, встретив беззащитного человека, не стала бы его трогать. Но, загнанная в тупик, отчаявшаяся и озлобленная, волчица обречена на борьбу с человеком. И выход у нее один – убить человека и самой погибнуть. Очень важно, что в этой жестокой борьбе погибает не только Базарбай, но и невинный ребенок. Акбара похищает мальчика и этим мстит за свое потомство. По роковому стечению обстоятельств этот мальчик – сын Бостона.
Образ Бостона в романе олицетворяет собой естественную человечность. Он жертва глупой и жестокой выходки Базарбая, его антипод. Бостон, как и Акбара, не найдя иного выхода, стреляет в волчицу, убивая тем же выстрелом своего сына. Эта трагедия разыгралась еще в саванне, когда одним махом был нарушен закон естественного течения жизни. Автор показывает нам, как безнравственность Базарбая сломала жизни и судьбы других людей.
В романе «Плаха» Ч. Айтматов обращается к вечной теме Иисуса Христа. Автор рисует образ Авдия, сына священника. Целью своей жизни он считает спасение человеческих душ. Все его действия говорят о высоте его помыслов и о твердом желании пролить свет в погрязшие во тьме души. Он стремится пробудить в своих врагах раскаяние и совесть – таков его способ борьбы со злом. Его поступки достойны глубокого уважения. В нем есть какая-то беспомощность и беззащитность. Ч. Айтматов наделяет его способностью к самопожертвованию.
С образом Авдия связана идея гуманизма, веры в доброе начало в человеке. Роман Айтматова – воззвание к совести каждого. Тревога – вот главный смысл произведения. Тревога за утрату веры и высокие идеалы, за человека и окружающую среду.
Роман заставляет нас задуматься о жизни, вспомнить, как она коротка.
ВЗГЛЯД / Ученые не признаются в создании коронавируса :: Общество
Представители академической науки утверждают, что одолевший планету коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?
Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?
В опросе газеты ВЗГЛЯД «Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?» приняли участие почти 40 тысяч человек. Около 85% из них ответили: «Да, верю».
Верящих легко понять: официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковками, а конспирология в области международных заговоров и смертельно опасных исследований особенно привлекательна.
Меж тем, если смотреть на эту ситуацию с научной точки зрения, искусственное происхождение самого знаменитого на сегодняшний день коронавируса маловероятно. Объяснение этому лежит в самой природе вирусов – организмов, систематика которых до сих пор четко не определена.
Их отличительной особенностью является то, что они способны воспроизводить себе подобных только внутри живой клетки, пользуясь ее ресурсами.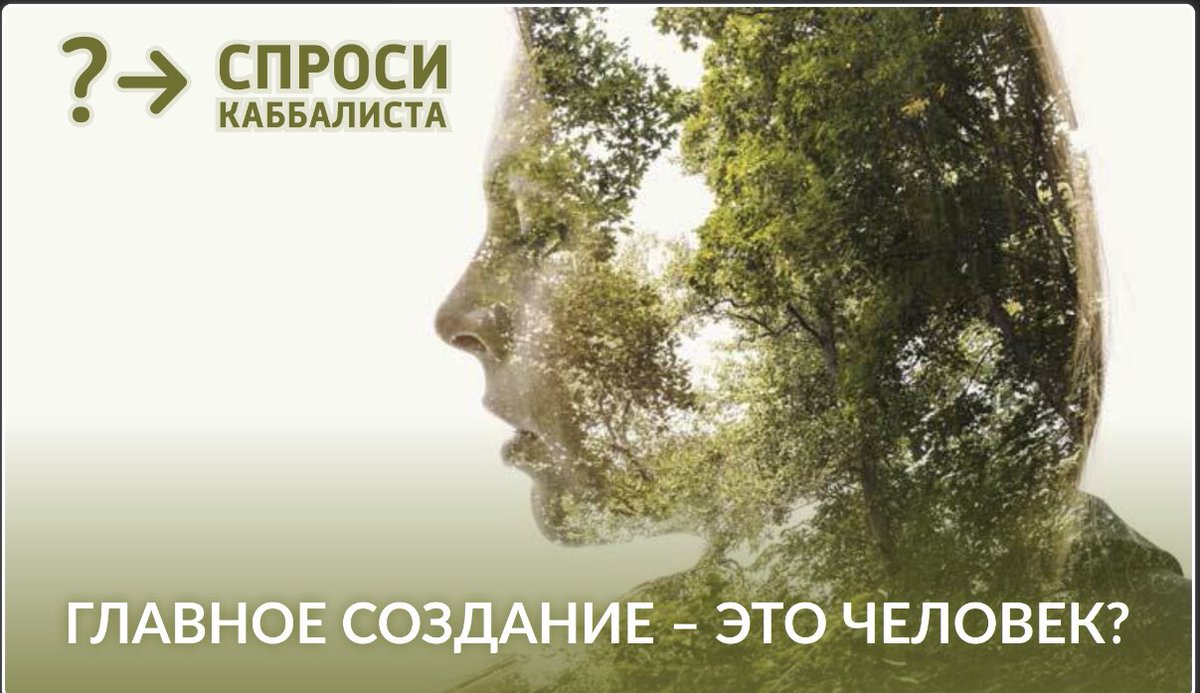 То есть они по определению паразиты.
То есть они по определению паразиты.
Проникнуть в защищенную мембраной клетку и покинуть ее в компании новых вирусов – задача крайне трудная. Говоря бытовым языком, для этого вирус должен иметь при себе два «ключа» – на вход и на выход. Роль ключей или сигналов типа «свой-чужой» выполняют белки. У коронавирусов они расположены на кончиках покрывающих их «шипов».
Эти «ключи» уникальны, как уникальна произвольная пара «пароль и отзыв». Система распознавания наших клеток закалена миллионами лет эволюции и чрезвычайно надежна – в противном случае вирусы умертвили бы на планете все живое. Зато у них есть собственный «бонус»: будучи предельно примитивными организмами, они очень легко мутируют и обзаводятся новыми «ключами».
Кстати, на блокировании «ключей» строится работа ингибиторов – противовирусных препаратов, благодаря которым, например, ВИЧ в современном мире уже не смертелен: вирус не исчезает из организма полностью, но теряет способность размножаться и передаваться другим людям.
Считается, что на планете миллионы видов вирусов. И каждый из них на уровне отдельно взятого организма сконцентрирован на том, чтобы стать болезнетворным – проникать в клетки и размножаться за их счет. «Подбор ключей» в ходе мутации можно сравнить с вычислительным процессом многих миллиардов компьютеров, эффективность которого в плане выработки биологического оружия измеряется количеством опасных для человека вирусов. А их немного – благо, помимо нужных «ключей», нужно обладать еще и дополнительными характеристиками: устойчивостью, «заразностью», смертоносностью и так далее.
Когда мы говорим об искусственном происхождении COVID-2019, мы очень сильно льстим своему уровню научно-технического прогресса. Он и близко не подразумевает тех «вычислительных мощностей», которые есть в совокупности у вирусов в их «естественной» среде обитания.
В НИИ Скриппса, крупнейшем частном центре биомедицинских исследований в США, проанализировав геном терзающего планету коронавируса, так и пишут: COVID-2019 слишком сложен и, если хотите, совершенен для того, чтобы его можно было создать на текущем уровне развития науки и техники.
Приземленно выражаясь, мы можем вывести новую породу собак, но крылатого медведя – не можем. А все известные человечеству опасные патогенные вирусы – это своего рода крылатые медведи.
Однако то, что теория искусственного происхождения эффективного болезнетворного вируса маловероятна, не означает того, что подобное полностью исключено. Если искать клад не в произвольной точке мира, а с приблизительной картой на руках, может улыбнуться удача.
В 2015 году она улыбнулась ученым из университета Северной Каролины, изучавшим как раз коронавирусы.
Эта группа вирусов (всего известно около 40 видов) в плане возникновения новой и опасной для человека заразы выглядела особенно перспективно. В основном ее представители вызывают заболевания у животных, в том числе и смертельные, но мембрана человеческих клеток их надежно блокирует. Однако хорошо известны два исключения – атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).
В первом случае речь идет о мутировавшем коронавирусе, поражавшем циветт, во втором – верблюдов. Выявленный уровень смертности от них гораздо выше, чем от COVID-2019 (10% для SARS, 25% для MERS), правда, они менее «заразные». Но для нашего примера важно то, что эти коронавирусы обладают необходимым набором ключей-белков, чтобы эффективно проникать в клетки человека и распространяться дальше.
Соединив «ключи» коронавируса SARS с коронавирусом, вызывающим легочное заболевание у азиатских подковоносов, ученые получили новый штамм, теоретически способный вызвать эпидемию. Теоретически, потому как никто не испытывал на практике, насколько новый коронавирус заразен и уязвим для иммунной системы человека.
В любом случае это исследование вызвало переполох в научных кругах – даже сами авторы перепугались своего успеха. Но американские власти перепугались еще раньше, введя в 2014 году запрет на исследования, подразумевающие создание новых болезнетворных организмов. Поэтому то, что начиналось в Северной Каролине, закончилось в Китае, конкретно – в Уханьском институте вирусологии. Именно его конспирологи называют возможным местом утечки нового коронавируса, вину за появление которого китайцы изначально возлагали на уханьский рынок, где жарят летучих мышей.
Именно его конспирологи называют возможным местом утечки нового коронавируса, вину за появление которого китайцы изначально возлагали на уханьский рынок, где жарят летучих мышей.
Это, конечно, особенно подозрительно: мало ли в Китае и в мире рынков, где жарят летучих мышей, но сдетонировало именно в том районе, где располагается наиболее современный, строго засекреченный и не имеющий в КНР аналогов институт вирусологии, в котором должен храниться штамм искусственно созданного коронавируса.
Как следствие, между США и КНР сейчас разворачивается коронавирусная информационная война.
Для Америки борьба с пандемией грозит стать рекордно затратной, а лично для Дональда Трампа ставит под большой вопрос его переизбрание президентом на второй срок. Учитывая антикитайский настрой действующей администрации, неудивительно, что на Пекин посыпались обвинения в диверсии – американские журналисты и политики любят конспирологию ничуть не меньше, чем наши.
Пекин не только защищается, но и атакует в ответ: в китайских СМИ немало материалов о том, что коронавирус может иметь американское происхождение. Понятно, что их авторы ссылаются на китайских же ученых, в свободе высказывания которых есть основания сомневаться. Понятно и то, сколь велико в данном случае желание спихнуть с себя ответственность за накрывшую планету пандемию, сопровождающуюся тысячами смертей и миллиардными убытками.
Однако, если иметь в виду тот самый коронавирус летучих мышей, экспериментировать с которым начали в Северной Каролине, Китай можно считать оправданным. Как следует из процитированного выше исследования НИИ Скриппса, новый коронавирус – это именно что уникальный организм, а не тот случай, когда за основу были взяты SARS, коронавирус подковоносов или любой другой известный науке вирус.
В калифорнийском НИИ Скриппса могут чистосердечно заблуждаться, но врать им бессмысленно. Геном COVID-2019 расшифрован, его образцы теперь (к сожалению) есть повсеместно, так что коллеги-вирусологи из других стран калифорнийцев обязательно поправят – это вопрос недолгого времени.
Таким образом, к утверждениям о том, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, нужно относиться с большой осторожностью: создать такую заразу «с нуля» для современной науки невозможно, а методом Франкенштейна –возможно, но не так, чтобы это не оставило следов и объект нельзя было идентифицировать как искусственный.
При этом с ходу и на все 100% можно исключать возможность создания вирусного оружия, которое поражало бы только представителей определенной национальности или расы. Пока от COVID-2019 заболевали исключительно в Китае, приписывание ему «расистских» свойств можно было встретить сплошь и рядом. В реальности клетки у китайцев и людей любых других национальностей схожи, а потому одинаково уязвимы для одного и того же белкового «ключа».
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Человек и природа в русской прозе XX века (на примере одного произведения) ❤️
«Я думаю, что такого природ о люба, такого проницательного знатока природы и чистейшего поэта ее, как Вы, в нашей литературе не было», — писал М. Горький М. М. Пришвину.
Горький М. М. Пришвину.
Как видит и как изображает природу Пришвин? Во-первых, он всегда достоверен. В то же время его видение природы поэтично, недаром он иногда говорил про себя в шутку, что он поэт, распятый на кресте прозы, а свои короткие зарисовки природы в шутку же называл поэмами. Фотографическая точность в прозе Пришвина чудесным образом сочетается с высокой поэзией — это главная отличительная черта Пришвина как художника. Пришвин живет как бы в некоем микромире, где не бросающиеся в глаза детали и подробности выходят на первое место. Это внимательное разглядывание природы. «Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а скажи — сколько в ней лепестков, не скажу». Природа попадает на страницы пришвинской прозы, если рождает в художнике движение души и мысль.
«Вода сегодня такая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были совершенно одинаковые: казалось, летели нам навстречу два кулика» . «В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые, а цветы возле них разные».
Тонкое наблюдение, поэзия, чистый простой язык. Иногда Пришвина упрекали в равнодушии к человеку в том смысле, что у него в книгах мало людей, действующих лиц. Это заблуждение.
Основная тема творчества Пришвина, основной объект его художественного исследования — человек. Человек и Природа. Восприятие природы человеком, влияние природы на человека, взаимодействие человеческой души и природы, тончайшие и глубокие движения человеческой души в ответ на те или иные проявления природы.
Душа человека в ее сокровеннейших переживаниях — вот источник всего творчества Пришвина.
«Золотой луг», «Лесная капель», «Календарь природы». Повествуя о природе, он прежде всего сосредоточивает внимание на ответственности человека в ней.
В. П. Дстафьев продолжает гуманистические традиции русской классики. Цикл рассказов «Конь с розовой гривой». Рассказ «Зачем я убил коростеля?» автобиографичен. Это признание взрослого человека в давнем детском проступке: глупой и жестокой мальчишеской забаве — охоте на живое с палкой, рогаткой, хлыстом.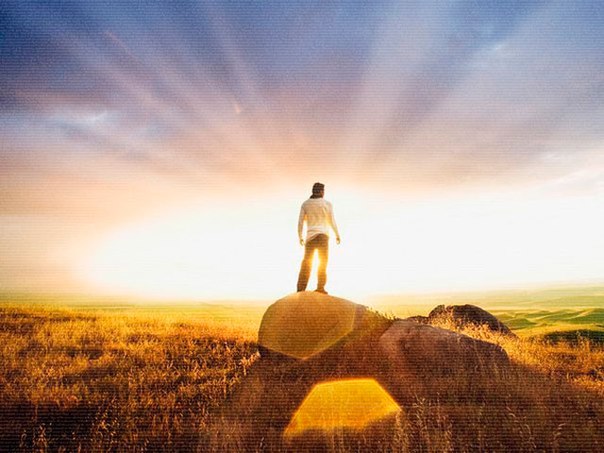 Должно быть, игра эта передается мальчишкам с кровью далеких предков, бесчисленные поколения которых добывали пищу, охотясь на зверя и птицу. Инстинкт, когда-то спасительный для человеческого рода, утратил ныне свой смысл, сделался врагом природы и самого человека. Подчинившись ему, герой рассказа однажды в детстве догнал и захлестал насмерть подраненную, плохо бегающую птицу, которую даже не принято употреблять в пищу. Но его сердца хватило, чтобы понять всю бессмысленную жестокость своего поступка, пусть и с опозданием, ужаснуться себе, азартно бьющему сыромятной плетью по беззащитному крохотному живому тельцу. Этот запоздалый ужас и преследует его всю дальнейшую жизнь мучительным вопросом, вынесенным в заглавие рассказа. В устах человека, прошедшего всю великую войну, много раз бывшего на краю гибели и стрелявшего по врагам, этот вопрос звучит особенно взыскующе. Потому что нравственность именно в ответе на вопрос: зачем насильственная смерть?
Должно быть, игра эта передается мальчишкам с кровью далеких предков, бесчисленные поколения которых добывали пищу, охотясь на зверя и птицу. Инстинкт, когда-то спасительный для человеческого рода, утратил ныне свой смысл, сделался врагом природы и самого человека. Подчинившись ему, герой рассказа однажды в детстве догнал и захлестал насмерть подраненную, плохо бегающую птицу, которую даже не принято употреблять в пищу. Но его сердца хватило, чтобы понять всю бессмысленную жестокость своего поступка, пусть и с опозданием, ужаснуться себе, азартно бьющему сыромятной плетью по беззащитному крохотному живому тельцу. Этот запоздалый ужас и преследует его всю дальнейшую жизнь мучительным вопросом, вынесенным в заглавие рассказа. В устах человека, прошедшего всю великую войну, много раз бывшего на краю гибели и стрелявшего по врагам, этот вопрос звучит особенно взыскующе. Потому что нравственность именно в ответе на вопрос: зачем насильственная смерть?
Настоящий охотник никогда не поднимет руку на глухариную самку, если та кормит и согревает своих еще не оперившихся птенцов и живот у нее выщипан догола, потому что, высиживая яйца, она должна дать им больше тепла, а перья этому мешают («Капалуха»). Не против добычи куньего меха, а против глупого равнодушия к природе обращен и рассказ «Белогрудка» — как ребятишки сгубили выводок белогрудой куницы, и она, обезумев от горя, мстит всему окружающему свету, изничтожая домашнюю птицу в двух соседних деревнях, пока не погибает сама от ружейного за — ряда.
Не против добычи куньего меха, а против глупого равнодушия к природе обращен и рассказ «Белогрудка» — как ребятишки сгубили выводок белогрудой куницы, и она, обезумев от горя, мстит всему окружающему свету, изничтожая домашнюю птицу в двух соседних деревнях, пока не погибает сама от ружейного за — ряда.
«Стрижонок Скрип» — по форме, по жанру — натуралистическая сказка. Но, читая, как папу стрижонка убили из рогатки озорные мальчишки, мы невольно вспомним то место из рассказа «Конь с розовой гривой», где говорится, как Санька с Витькой подбили камнем стрижа и он, захлебываясь кровью, умер у них на руках.
Сказку о дружной стрижиной стае, которая не дает погибнуть осиротевшему птенцу, питает правда, означающая в сказке, как и в жизни, далеко не всегда радость, но обязательно победу светлых, добрых начал.
Человек и природа в «Записках охотника» Тургенева
Название «Записки охотника» возникло, очевидно, случайно и не случайно. Академик М. Алексеев пишет в статье «Заглавие «Записки охотника» , что описание охоты занимает очень малое место в рассказе «Хорь и Калиныч», к которому впервые и был дан при публикации подзаголовок «Из записок охотника»; «сразу чувствуется, что написан он по другому поводу и что упоминание охотничьих скитаний или приключений носит здесь орнаментальный характер. Вся книга в целом, когда завершилось ее сложение из отдельных очерков, также представлялась читателям в большей мере книгой «нравоописательных», чем «охотничьих» очерков, на что в действительности имелись вполне основательные причины».
Вся книга в целом, когда завершилось ее сложение из отдельных очерков, также представлялась читателям в большей мере книгой «нравоописательных», чем «охотничьих» очерков, на что в действительности имелись вполне основательные причины».
В самом деле, европейские писатели приняли с удивлением это заглавие, ибо ни образ «охотника», ни сами новеллы не отвечали уже сложившемуся во Франции и особенно в Англии литературному направлению «охотничьих» очерков, «воспоминаний», «происшествий», которые главным образом были полны как серьезными, так и комическими, и сатирическими наставлениями охотникам, перемежавшимися анекдотическими картинками сельской жизни.
М. Алексеев считает, что, по-видимому, популярность в России английского «охотничьего очерка» навела Панаева на мысль о подзаголовке очерка «Хорь и Калиныч» и закрепила затем этот заголовок за всем циклом. Отчасти, наверное, так оно и было, хотя, несомненно, имела место и необходимость провести тургеневский очерк через цензуру . Панаев был достаточно опытным литератором, чтобы не увидеть разницы между очерком Тургенева и популярными английскими охотничьими очерками.
Панаев был достаточно опытным литератором, чтобы не увидеть разницы между очерком Тургенева и популярными английскими охотничьими очерками.
Необходимо при этом вспомнить и еще одну деталь. Тот же Панаев публикует в «Современнике» сатирическую заметку «Литературный маскарад накануне нового года», в которой называет автора «Записок охотника» большим чудаком, ибо он хоть и скитается в охотничьем одеянии с ружьем и собакой, однако не столько охотится, сколько как бы вписывает себя в природу, при этом «ничто в природе не ускользает от его верного, поэтического и пытливого взгляда, и птицы спокойно, ласково и безбоязненно летают вокруг этого странного охотника…» . Так что кто-кто, а именно Панаев отлично понимал, что охотничий костюм рассказчика маскарадный и речь в его рассказах, перенасыщенных природой, идет совсем не об охоте, обычном дворянском развлечении. «Портрет его (Тургенева. – Л. С.) не зря дан на фоне тонко выписанного пейзажа», – замечает Алексеев об этом месте статьи Панаева.
Действительно, эту книгу Тургенева вполне можно было бы назвать книгой о природе и о человеке в природе. Даже если герои никак не соотносятся с природой, все равно повествование о них не обходится без хотя бы мимоходом упомянутых пейзажей. Не случайно поэтому сборник заканчивается поэтическим гимном природе «Лес и степь». Несомненно, главным эстетическим связующим звеном всех новелл является рассказчик, «странный охотник» – человек вне общественной цивилизации, человек природы, неразрывно связанный с нею. Его душа, его духовный мир заполнены природой. И через эту природно-эстетическую призму и преломляются все истории, о которых он повествует, поэтому последняя новелла как заключительный аккорд сюиты – о самой природе. Тургенев «приходил к признанию включенности человеческой личности в общий поток мировой жизни, к признанию единства человека и природы» .
Такое единение «странного охотника» с природой, такое эстетическое единство «Записок охотника» через многочисленные пейзажи напоминает учение Жан-Жака Руссо о «естественном человеке».
Еще в юности Тургенев был потрясен «Исповедью» Руссо. Известен небольшой (в два десятка строк) ранний автобиографический набросок Тургенева. Юноше только что исполнилось семнадцать лет, и он решает «написать все», что знает «о себе». Решить Тургенев решил, но написать не написал. Впоследствии, став уже известным писателем, Тургенев не любил подробно и достоверно свидетельствовать о себе, хотя написал и «Литературные и житейские воспоминания», и два варианта короткой автобиографии. В изложении фактов своей жизни и истории создания своих произведений он не всегда точен и последователен, а уж путаницам в датах – несть числа . При этом Тургенев, как и его мать, отличался редкостным педантизмом, в том числе и в отношении дат. Не вдаваясь в анализ этого феномена, замечу лишь, что, возможно, Тургенев в автобиографических воспоминаниях (в том числе и в письмах) осознавал себя писателем и вольно или невольно создавал образ автора для читателя, как в художественном произведении.
Тем более интересно свидетельство о себе не обремененного еще художественным опытом семнадцатилетнего юноши.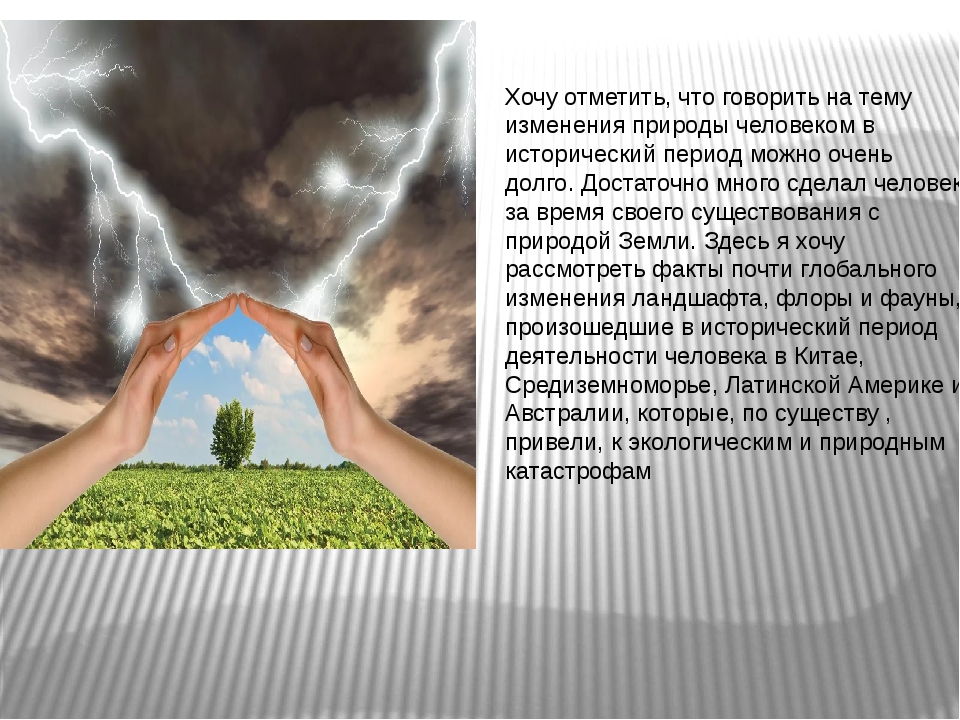 И все-таки мы присутствуем здесь при почти первом (если не считать полуюношеских, не имеющих художественного значения стихотворений), еще робком пробуждении художественной мысли будущего писателя. Внимание к становлению личности в условиях абсолютизма в России красной нитью проходит впоследствии через все творчество Тургенева. Тургенев пишет: «Я хочу написать все, что я знаю о себе, – всю мою жизнь. Для чего я это делаю – две причины. Во-первых, читал недавно «Les confessions» J. -J. Rousseau. Во мне возродилась мысль написать свою Исповедь» . Очевидно, что речь идет не просто об описании своей жизни, а о художественном описании, как это сделал Руссо, хотя, может быть, Тургенев этого в тот момент и не осознавал. Но стремление подражать Руссо налицо. Однако при этом следует учитывать, что не о влиянии идей Руссо на Тургенева должна идти речь, а о взаимозависимости общественных идеалов в сходных общественных условиях.
И все-таки мы присутствуем здесь при почти первом (если не считать полуюношеских, не имеющих художественного значения стихотворений), еще робком пробуждении художественной мысли будущего писателя. Внимание к становлению личности в условиях абсолютизма в России красной нитью проходит впоследствии через все творчество Тургенева. Тургенев пишет: «Я хочу написать все, что я знаю о себе, – всю мою жизнь. Для чего я это делаю – две причины. Во-первых, читал недавно «Les confessions» J. -J. Rousseau. Во мне возродилась мысль написать свою Исповедь» . Очевидно, что речь идет не просто об описании своей жизни, а о художественном описании, как это сделал Руссо, хотя, может быть, Тургенев этого в тот момент и не осознавал. Но стремление подражать Руссо налицо. Однако при этом следует учитывать, что не о влиянии идей Руссо на Тургенева должна идти речь, а о взаимозависимости общественных идеалов в сходных общественных условиях.
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
ПРИРОДА НЕ ПРЕДПОЛАГАЛА, ЧТО ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОДЕЖДОЙ
Отвлеченное вступление Эта статья подвернулась под руку как-то на отдыхе, когда ночевали у одной бабушки. Старый сервант, а в нём старые книги. Плюс стопка журналов «Наука и Жизнь». Листая перед сном, нашел эту статью: содержание показалось забавным и поучительным, всё изложенное лихо ложится на современные технологии «гортексов», «корелофтов» и всяких кулмаксовых и полипропиленовых волокон с мериносной шерстью.ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПРОБЛЕМЫ «Человек в условиях холода»: ОДЕЖДА
Странички те перефотографировал, чтобы потом другим рассказывать.
Позже выяснилось, что автор — Александр Ефимович Берман, мастера спорта СССР и заслуженный путешественник России – корифей и классик. Сколько у него научных работ, книг и статей. Предмет знал, в северных походах, на морозе и в горах не одну жизнь прожил, если по меркам обычного человека мерить.
Кстати, упоминания про статью «Один из аспектов проблемы «Человек в условиях холода»: Одежда» легко отыскиваются в списках литературы к десятку диссертаций и сотням рефератов. Впрочем, чаще всего авторы почему-то раз за разом пишут, что материал вышел в 1966 году (видимо, навык копипаста сработал). Хотя, на самом деле то была «Наука и Жизнь» №2 за 1969 год.
Почти полвека. Ретроспективный, так сказать, взгляд.
Но, есть о чём подумать.
С одной стороны, технологии с материалами были не те. Разбирается теплообмен на моделях типа «ватник», «шуба», «шинель». Но, все это прекрасно экстраполируется на паропроницаемость современных поровых и беспоровых мембран. И когда из 1969-го года описывается некое приближение к идеальной туристской одёжке, вспоминаешь уже реально существующие модели то из Arc’teryx’а с Сиверой, а то из The North Face.
И киваешь головой, находя научное объяснение тому эмпирическому факту, что манжеты-полуперчатки, пришитые по прихоти проектировщика-теоретика к рукаву прималофтовой курточки, превращают эту курточку-утеплитель в стремительно отмокающую дрянь (потому что на ходу весь конденсат остаётся с тобой).И когда точно такая же «прималофтина», но «без перламутровых пуговиц», то есть, без тесных манжет, – роскошная вещь. Или почему те же манжеты-полуперчи являются шикарнейшим дополнением к тёплому и функциональному термобелью.
А с другой стороны, статья инженера и мастера спорта А. Бермана – это еще и эстетически ретроспективное чтение. Про те времена, когда можно было без улыбки рассуждать про «безотказную автоматику шубы» и «телесную сердцевину». И когда реакции на события, происходящие с индивидом «при охлаждении обнаженной груди», принципиально отличались от современных.С уважением,
Алексей Соболев
Инженер А. Берман, мастер спорта
Всемогущая мода, стремящаяся в первую очередь удовлетворить эстетические запросы человека, по существу, отучила нас от строгого подхода к оценке теплозащитных свойств одежды.
 И хотя родителям, отправляющим малышей в мороз на прогулку, подчас следовало бы задуматься над этим вопросом, в принципе для горожанина средних широт он не столь уж серьезен: сравнительно мягкие зимы и возможность проводить большую часть времени в отапливаемом помещении позволяют нам при выборе одежды полагаться на опыт и традиции поколений.
И хотя родителям, отправляющим малышей в мороз на прогулку, подчас следовало бы задуматься над этим вопросом, в принципе для горожанина средних широт он не столь уж серьезен: сравнительно мягкие зимы и возможность проводить большую часть времени в отапливаемом помещении позволяют нам при выборе одежды полагаться на опыт и традиции поколений. Но, когда речь заходит, например, о дальнем лыжном походе или о том, что человеку предстоит длительное время находиться и работать на открытом воздухе в сильные морозы, вопрос о выборе одежды приобретает особое значение.
Природа так «сконструировала» человека, что его внутренние органы могут жить и нормально работать лишь при достаточно высокой и притом постоянной температуре. И, чтобы обеспечить нужный температурный режим, условно говоря, «сердцевины» тела, она наделила человеческий организм способностью интенсивно вырабатывать тепло, снабдила термозащитной «оболочкой» и системой терморегулирования.
Роль «центрального отопления» в организме выполняет кровеносная система: она доставляет тепло из глубины тела к его поверхности. Причем, как только температура окружающей среды понижается, кровеносные сосуды в поверхностном слое тела сужаются, начинают пропускать меньше крови, приток тепла изнутри уменьшается и температура кожи становится ниже. Этим организм экономит тепло: чем меньше разность температур поверхности кожи и окружающей среды, тем меньше и теплоотдача.
Причем, как только температура окружающей среды понижается, кровеносные сосуды в поверхностном слое тела сужаются, начинают пропускать меньше крови, приток тепла изнутри уменьшается и температура кожи становится ниже. Этим организм экономит тепло: чем меньше разность температур поверхности кожи и окружающей среды, тем меньше и теплоотдача.
Когда же в организме образуется избыток тепла, кровеносные сосуды, наоборот, расширяются, приток теплой крови увеличивает разность температур и теплоотдача возрастает.
Подобным образом организм осуществляет терморегулирование в пределах, что называется‚ нормальных температур. Но, если возникают критические ситуации, он может на короткое время в корне изменять эту привычную схему действий.
Так, например, когда охлаждение отдельных участков кожи достигнет такой степени, что возникнет угроза обмораживания, кровеносные сосуды в этой зоне внезапно расширяются и к замерзающим тканям устремляется поток теплой крови – во имя их спасения «сердцевина» жертвует частью собственного тепла.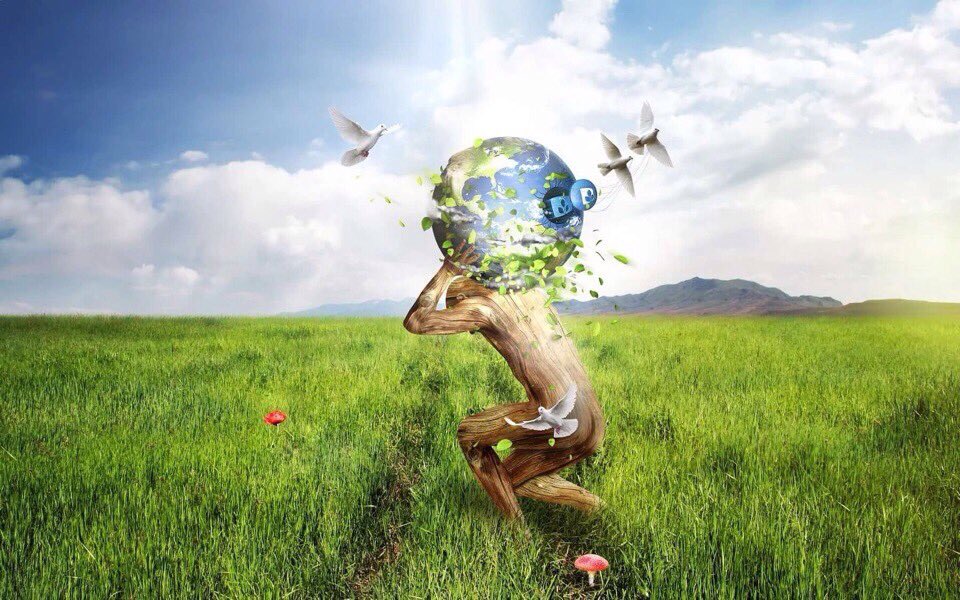
Казалось бы, столь гибкая система терморегулирования должна была бы обеспечить человеку возможность обходиться вообще без одежды. И она обеспечивает – в условиях тропиков. Но сформировавшийся в сравнительно мягком климате человеческий организм не в состоянии защитить себя на длительное время от холода средних, а тем более полярных широт. Здесь человеку необходима одежда. А между тем, как это ни парадоксально, всецело зависящий от этой искусственной оболочки человеческий организм плохо приспособлен к ее использованию.
Всем нам хорошо известно яркое чувство холодного ветра на внезапно обнаженном теле. Этот мощный предупредительный сигнал не отвечает истинным потерям тепла и не похож на ощущения замерзшего человека: ведь процесс охлаждения только начался. В чем же причина столь бурной реакции организма? Оказывается, в самом устройстве системы терморегулирования «оболочки».
Роль датчиков в ней выполняют специальные нервные окончания – терморецепторы. Причем если эту условную «оболочку» тела, толщина которой достигает примерно 2,5 сантиметра, представить состоящей из множества слоев, то можно сказать, что терморецепторы реагируют не на температуру отдельного слоя, а на разницу температур двух соседних слоев.
Когда холодный ветер попадает на обнаженное тело, разность температур тонкого поверхностного слоя «оболочки» и еще не успевшего остыть слоя под ним в первыи момент оказывается очень большой. И терморецепторы отвечают на нее мощным сигналом. По этому сигналу активно срабатывают защитные средства организма: в частности, кровеносные сосуды «оболочки» сужаются, её теплопроводность уменьшается и потери тепла оказываются сравнительно небольшими.
Одежда же, образно говоря, сбивает организм с толку, дезориентирует его. При понижении температуры в окружающей среде она медленно остывает, еще медленнее изменяется температура поверхности тела, и разность температур при таком плавном охлаждении остается настолько небольшой, что терморецепторы долго не реагируют на нее. В результате человек в теплой одежде начинает ощущать холод лишь тогда, когда его организм потеряет недопустимо большое с точки зрения нормальной деятельности количество тепла.
Теперь, чтобы восполнить столь большие потери тепла, организм должен проявить повышенную активность: например, отдыхавший на морозе человек чувствует при этом необходимость встать и походить. Человек начинает двигаться, ток крови немедленно ускоряется, и это поначалу вызывает последствия, обратные желаемым: процесс теплообразоваия только активизировался‚ а кровь уже уносит наружу значительно больше тепла, чем раньше.
Человек начинает двигаться, ток крови немедленно ускоряется, и это поначалу вызывает последствия, обратные желаемым: процесс теплообразоваия только активизировался‚ а кровь уже уносит наружу значительно больше тепла, чем раньше.
В сознание человека проникает острое «чувство холода», начинается озноб, непроизвольное сокращение мышц, вырабатывающих при этом тепло. Но вот благодаря физической нагрузке процесс теплообразования становится все активнее, организм постепенно разогревается, и, лишённый чёткой ориентации, по инерции «проскакивает» точку желанного равновесия.
Начинается перегрев организма.
И здесь проявляется второе противоречие системы «человек-одежда», причина которого в несовершенстве нашей искусственной защитной оболочки.
Когда в «сердцевине» тела образуется избыток тепла, кровеносные сосуды «оболочки» расширяются и тепловой поток устремляется наружу. Здесь бы и одежде, подобно живой «оболочке» тела, изменить свою теплопроводность и пропустить избыток тепла. Но одежда мертва, она не может изменить своих теплозащитных свойств. И выделяемое организмом тепло начинает скапливаться под ней.
Но одежда мертва, она не может изменить своих теплозащитных свойств. И выделяемое организмом тепло начинает скапливаться под ней.
При этом температура у поверхности тела повышается, и, чтобы снизить её, организм вынужден активизировать второй механизм теплоотдачи – начинается интенсивное потоотделение.
Появляющаяся на поверхности тела влага испаряется, для чего каждый ее грамм требует около 600 калории тепла, и образующийся водяной пар устремляется через толщу одежды, унося с собой тепло. (см. первую схему).
Однако и этот механизм теплоотдачи вскоре отказывает. Чем ближе к внешней среде расположен слой одежды, тем ниже его температура. На какой-то границе она оказывается равной температуре «точки росы», или, иными словами, температуре, при котором водяной пар данной концентрации начинает конденсироваться.
«Натыкаясь» на эту границу, водяной пар конденсируется, а образующаяся влага пропитывает сначала внешние, а затем и остальные слои одежды.
В результате концентрация водяного пара под одеждой достигает почти предельной величины. Испарение воды практически прекращается и температура продолжает повышаться…
Испарение воды практически прекращается и температура продолжает повышаться…
Природа, видимо, «не предполагала», что человек будет пользоваться одеждой. Во всяком случае, многих животных, «одетых» в теплые шкуры, она наделила способностью избавляться от избытка тепла путем интенсивного испарения влаги с поверхности дыхательных путей и языка. Все, наверное, не раз замечали, как в жару собака высовывает язык и часто дышит. У человека же, увы, нет такого механизма теплоотдачи.
Правда, перед лицом опасности перегрева его нервная система может прибегнуть к иным мерам – затормозить процессы, в ходе которых вырабатывается тепло. Например, если человек неподвижен – скажем, часовой стоит на посту в чрезмерно теплой одежде, то у него при этом появляется чувство апатии‚ сонливость.
У людей же‚ находящихся в движении и занимающихся физическим трудом эта реакция нервной системы на перегрев проявляется в виде одышки, чувства усталости. Человек ощущает острую потребность в отдыхе, останавливается, отдыхает и, лишённый одеждой четкости восприятия, снова переохлаждается.
Итак, основные недостатки теплой одежды очевидны: с одной стороны, она дезориентирует систему терморегулирования организма при оценке потерь тепла, а с другой – лишена способности изменять свою теплопроводность в зависимости от внешних условий и деятельности человека.
Как же устранить эти недостатки?
Первый – практически невозможно: ведь мы не можем обходиться без одежды. Правда, здесь сама природа приходит нам на помощь.
Оказывается, что по сигналам, возникающим при охлаждении открытого лица или обнаженных рук, «срабатывает» целый ряд теплозащитных средств всего организма. Более того, исследованиями установлено, что реакция организма на охлаждение лица оказывается более быстрой и интенсивной, чем, например, при охлаждении обнаженной груди. Видимо, все это новые для человека рефлексы, возникшие в результате тысячелетий использования одежды. Они в каком-то мере служат человеку в условиях города. Но злоупотреблять ими нельзя.
В длительном зимнем походе с его регулярными переохлаждениями организма и ночевками вдали от постоянного жилья даже при умеренных морозах нервная система человека постепенно приходит в состояние особого напряжения, называемого «холодовой усталостью». Эта усталость проявляется прежде всего в том, что человек утрачивает способность к сложной психической деятельности и многие операции, легко выполняемые в тепле жилья, становятся ему уже недоступными.
Эта усталость проявляется прежде всего в том, что человек утрачивает способность к сложной психической деятельности и многие операции, легко выполняемые в тепле жилья, становятся ему уже недоступными.
Постоянные же сигналы, поступающие от замерзших открытого лица или рук, ещё больше увеличивают это напряжение нервной системы.
Поэтому в зимнем походе лицо и руки приходится тщательно оберегать от переохлаждения. Отсюда и необходимость самого тщательного подхода к, казалось бы, второстепенным деталям зимней одежды: частые попадания ветра за плохо прилегающий воротник, зябнущие в коротких рукавах или рукавицах запястья рук – всё это издёргивает и утомляет организм, притупляет его защитные реакции.
Самая же тяжелая нервная нагрузка в походе обычно связана с необходимостью приспосабливаться к изменяющимся условиям теплообмена путем частых переодеваний. Поэтому-то и возникает вопрос об одежде, которая была бы одинаково хороша и на отдыхе, и в пути, и во время физической работы.
Иными словами, об одежде с автоматически изменяющимися теплозащитными свойствами. В принципе можно представить себе гипотетический костюм-автомат, подобный живой «оболочке» тела. Скажем, роль кровеносных сосудов в нем выполняли бы тонкие спирали, разогреваемые электрическим током. Величина тока и соответственно степень нагрева разных частей костюма изменялись бы по командам счетно-решающего устройства, к которому бы поступали сигналы от многочисленных термодатчиков, укрепленных как на подкладке, у тела, так и на внешней поверхности костюма. Причем внешние датчики сами должны быть с подогревом, чтобы учитывать охлаждающее влияние ветра.
Мало того, обе системы терморегулирования – естественная и искусственная должны быть строго согласованы между собой. Сама же ткань такого автоматического костюма должна быть легкой, свободно пропускающей воздух и влагу и даже… огнестойкой, чтобы порывы холодного ветра можно было нейтрализовать быстрым и мощным разогревом спиралей.
К сожалению, современная одежда с электроподогревом по своему совершенству всё ещё весьма далека от такого костюма-автомата, не говоря уже о том, что для неё не существует легких и надежных переносных источников питания. Впрочем, нужен ли вообще нам электрифицированный костюм-автомат? Живут же люди в холодном климате, и живут неплохо, и ведут далеко не праздный образ жизни, и отнюдь не в теплом жилье.
Впрочем, нужен ли вообще нам электрифицированный костюм-автомат? Живут же люди в холодном климате, и живут неплохо, и ведут далеко не праздный образ жизни, и отнюдь не в теплом жилье.
Как утверждают археологи, человек пользуется теплой одеждой еще со времени позднего палеолита, или, иными словами, уже более 10 тысяч лет. Ведь должна же была за это время появиться достаточно совершенная одежда? Так оно и есть. Примером тому – свободная шуба (или теплая куртка) длиною до колен, очень широкая у плеч, с просторными рукавами и глубокими проймами, с пришитым капюшоном, плотно прилегающим к подбородку. (на картинке Вариант А)
Автоматика такой шубы проста и безотказна. Пока человек стоит и организм вырабатывает мало тепла, она представляет собой колокол, заполненный тёплым воздухом. Этот воздух не дает холодным потокам забраться под шубу снизу, и человек пребывает в состоянии теплового комфорта. Когда же человек идёт и организм вырабатывает больше тепла, полы шубы колышутся, возникает интенсивная вентиляция, и теплоотдача резко возрастает. Наконец, если такая шуба не только просторна, но и отдельные ее части обладают определенной жёсткостью, то при движении рук, ног или наклона корпуса она сминается в грубые складки, объёмы под шубой непрестанно изменяются,ж и при этом возникает активная внутренняя циркуляция: нагретый тела воздух перемещается к более холодной внутренней поверхности шубы, отдаёт ей тепло и, охлаждённый, возвращается к телу.
Наконец, если такая шуба не только просторна, но и отдельные ее части обладают определенной жёсткостью, то при движении рук, ног или наклона корпуса она сминается в грубые складки, объёмы под шубой непрестанно изменяются,ж и при этом возникает активная внутренняя циркуляция: нагретый тела воздух перемещается к более холодной внутренней поверхности шубы, отдаёт ей тепло и, охлаждённый, возвращается к телу.
Более того, поскольку при сминании под шубой возникают местные зоны повышенного давления, под действием последнего теплый воздух «продавливается» наружу‚ а на смену ему снизу поступает холодный. «Продавливаясь» сквозь толщу шубы, теплый воздух, с одной стороны, увлекает за собой водяной пар, а с другой – сушит саму шубу.
Из этого описания «принципа действия» шубы ясно видно, что она выгодно отличается, например, от облегающего тело мехового комбинезона или широко распространенного стеганого костюма из толстых штанов и плотно сидящей куртки – в них не может быть и речи о какой-либо вентиляции.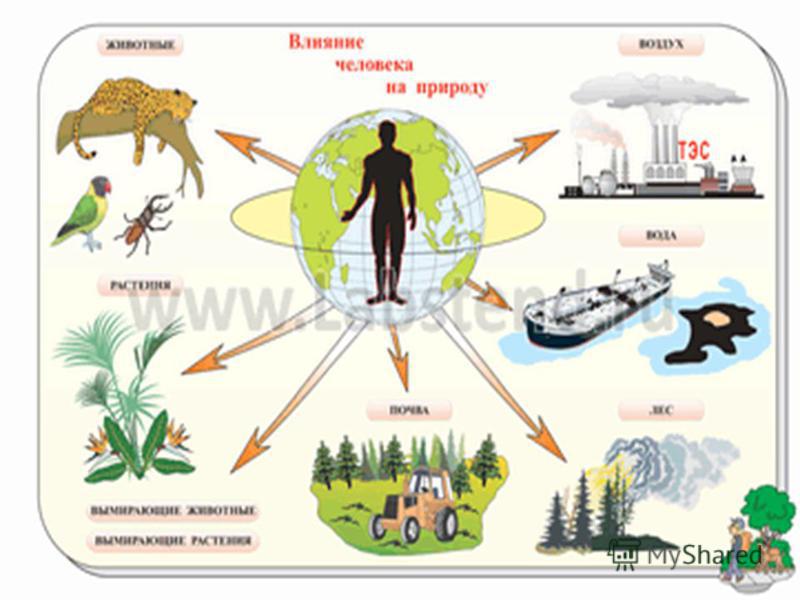 (на картинке Вариант Б)
(на картинке Вариант Б)
Подобная одежда удобна, когда нужно протиснуться в узкий люк или сидеть неподвижно в тесной кабине. Но передвигаться пешком или на лыжах, да еще с грузом за плечами, в таком одеянии неимоверно трудно.
Вероятно, на протяжении истории полярных путешествий «новинки» типа мехового комбинезона отвергались много раз и существуют по сей день лишь потому, что конструкторы этой одежды далеко не всегда пользуются ею сами.
Опыт путешествий по Крайнему Северу показывает, что одежда с приемлемой гибкостью теплозащитных свойств может состоять из теплой стеганой куртки и ветрозащитного чехла. При этом отдельные части стеганой куртки целесообразно делать разной толщины.
Например, наиболее толстыми и теплыми они должны быть от подола до пояса: здесь куртку всегда можно расстегнуть, и при ходьбе даже в теплую погоду колеблющиеся полы будут обеспечивать хорошую вентиляцию и отвод тепла. На отдыхе же или в пути по сильному морозу такая куртка позволяет обходиться наиболее удобными при ходьбе легкими брюками, которые утепляются только в области колен и голеней. Кроме того, у такой куртки толстыми и тёплыми должны быть внешние части рукавов и плечи, средней толщины – грудь, спина и внутренние части рукавов у запястий, наиболее тонкими – детали в области проймы рукавов.
Кроме того, у такой куртки толстыми и тёплыми должны быть внешние части рукавов и плечи, средней толщины – грудь, спина и внутренние части рукавов у запястий, наиболее тонкими – детали в области проймы рукавов.
Наконец, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, куртку целесообразно простегать большим числом швов. Через швы, где нет утепляющей набивки и есть отверстия от иглы, легче вытесняются воздух и водяной пар. А когда человек отдыхает, многочисленные швы лишь незначительно увеличивают теплоотдачу: швы – это, по существу, тонкие «линии», суммарная площадь которых невелика.
Несколько слов о ветрозащите. Ее целесообразность не ставится под сомнение, хотя ветрозищита и паропроницаемость – противоречивые требования.
Все дело в том, что ветрозащитные свойства ткани определяются тем фактом, что воздух под давлением с трудом проходит через мельчайшие норы между нитями. А водяной пар диффундирует через ткань, или, иными словами, проходит сквозь неё благодаря тепловому движению частиц. И малая величина пор ткани в меньшей степени мешает проницаемости пара, нежели воздуха.
И малая величина пор ткани в меньшей степени мешает проницаемости пара, нежели воздуха.
Но вот толщина ткани уже резко уменьшает паропроницаемость.
И тем не менее очень тонкие ткани – например, капроновые или нейлоновые – для ветрозащитного чехла непригодны: они колышутся на ветру и создают под одеждой в данном случае уже вредную циркуляцию воздуха, вызывающую ощущение, что ветер проник вовнутрь.
Поэтому ветрозащитный чехол приходится делать из достаточно упругих и, следовательно, толстых тканей, в силу чего он в определенной мере мешает влагообмену. Однако этот недостаток можно в какой-то мере компенсировать свободным покроем чехла: если между ним и курткой останется прослойка воздуха, то пар будет превращаться в иней на внутренней поверхности чехла, а ткань куртки останется сухой.
Не менее тщательного подхода требует и вопрос об экспедиционной обуви. Сконструировать обувь, которая бы активно вентилировалась, пока не удаётся, а между тем температурные колебания и потоотделение стопы особенно велики.
Поэтому, как бы ни была защищена обувь от влаги снаружи, она неминуемо отсыреет изнутри. О том, к чему это может привести, свидетельствует пример альпинистской экспедиции Джона Ханта, покорившей в 1953 году величайшую вершину мира – Эверест. Штурмовая двойка этой экспедиции – Тенпинг Норгей и Эдмунд Хиллари – в 300 метрах от вершины, на высоте 8500 метров, остановилась на короткий ночлег. Тенцинг отдыхал, не снимая обуви, а Хиллари разулся. И из-за этого гигантское, блестяще организованное восхождение чуть было не сорвалось: за время отдыха отсыревшие ботинки так замёрзли и окаменели, что утром, когда на счету была каждая минута, Хиллари долго не мог их надеть.
Тенцинг и Хиллари взошли на вершину Эвереста в отсыревшей обуви, несмотря на то, что она была изготовлена по специальному заказу лучшими мировыми фирмами. Но на равнине в Сибири охотники издавна неделями «мнут снег», сохраняя ноги достаточно сухими. Для этого они пользуются испытанным средством защиты обуви от влаги — бахилами.
Бахила представляет собой простой прямоугольный мешок из грубой ткани, который надевается поверх обуви и крепится ремешком таким образом, чтобы под ним оставалась толстая прослойка воздуха. Благодаря этой прослойке поверхность обуви остается теплой, водяной пар свободно проходит сквозь неё, а затем превращается в иней на достаточно холодной внутренней поверхности бахилы. Таким образом, бахила работает как конденсатор-влагосборник, который непрерывно сушит обувь.
Понятно, что всевозможные «усовершенствованные» бахилы, специально скроенные по форме сапога и потому плотно облегающие обувь, – это совершенная бессмыслица.
И, наконец, последний вопрос: как защитить от влаги зимний спальный мешок?
Человек в нем лежит неподвижно, какая-либо принудительная вентиляции отсутствует, и через десять – двенадцать ночевок на сильном морозе мешок обычно промерзает насквозь.
Поэтому лучшие образцы спальных мешков делаются двойными или, точнее, состоящими из двух мешков – тогда их можно легко разнять, выбить, отряхнуть и по отдельности быстро просушить.
Причем один из этих мешков можно сделать более толстым, а второй – потоньше. Преимущества такой конструкции стануг очевидны, если представить себе, что температура по толще мешка изменяется от очень низкой снаружи до «комнатной» внутри. При этом чем сильнее мороз, тем ближе к внутренней полости располагается «точка росы» – температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.
Отсюда ясно, что если в сильный мороз мешок вывернуть толстым слоем наружу, то можно добиться, чтобы основная часть влаги конденсировалась вблизи разъема, а не в толще материала. И наоборот, чтобы получить такой же эффект при умеренном морозе, мешок нужно вывернуть наружу тонким слоем.
В заключение следует сказать, что, несмотря на всю многовековую историю применения теплой одежды, многие аспекты ее конструирования все еще остаются спорными. Правда, в конце прошлого (читай позапрошлого) – начале этого (читай прошлого) века полярные путешественники-лыжники накопили довольно большой опыт в этом вопросе.
В наше же время, когда экспедиции широко пользуются техническими средствами передвижения, этот опыт постепенно утрачивается. Вместе с тем сегодня все большую популярность приобретают спортивные путешествия на Крайний Север – возможно, в этом проявляется стремление человека сохранить свои индивидуальные качества вопреки техническому прогрессу. И, как бы то ни было, подобные путешествия могут оказаться не только мощным стимулом к совершенствованию зимней одежды, но и наиболее надежным способом апробации её качеств.
Человек и культураХХ век наглядно показал, к каким разрушительным последствиям может привести пренебрежение к человеческой природе, чем может обернуться тоталитарное стремление соорудить социальность из безымянных фишек. Вот почему, рассуждая о человеке, нельзя не критиковать общество, в котором он живёт. Личностные задатки, человеческий потенциал всё равно окажутся богаче наличной социальной организации. Не случайно многие мыслители принципиально отказываются искать истоки общественного миропорядка, нравственных устоев, человеческих потенций в чём-то ином, нежели в самом человеке. Человек сам по себе не плох и не хорош. Он открыт для самосозидания. Это означает, что его можно соразмерять с самим собой, то есть с нераскрытым человеческим потенциалом. В этом смысле человек может оказаться некоей идеальной меркой не только для себя самого, но и для всей истории. Важно только не отступать от этой антропологической позиции, не приискивать иных трансцендентных критериев для оценки человеческого, кроме как внутри него самого. Многие современные философы при обсуждении разных вопросов — социальной динамики, исторических ситуаций, процесса социализации — видят перед собой одну и ту же проблему: как раскрывается в данном случае всечеловеческое… Итак, прежде всего решим, можно ли свести обсуждение проблемы человеческой природы к перечислению конкретных уже наличных свойств человека или речь идёт о чём-то, чему предстоит сформироваться, обрести себя. Понятия «природа», «сущность» человека часто употребляются как синонимы. Однако между ними можно провести концептуальное разграничение. В марксистской системе рассуждения понятие «природы» соотносилось обычно с биологическим естеством человека, в то время как «сущность» человека усматривалась в его социальности, в его общественной природе. Разумеется, этот взгляд не является общепринятым в современной философии. В принципе под «природой человека» подразумеваются стойкие, неизменные черты, общие задатки и свойства, выражающие его особенности как живого существа, которые присущи Homo sapiens во все времена независимо от биологической эволюции и исторического процесса. Раскрыть эти признаки — значит выразить человеческую природу. Перечисляя те или иные качества, присущие человеку, философы приходят к выводу, что среди них есть определяющие, принципиально значимые. Человеческая натура проявляется в разном, но в чём-то, надо полагать, обнаруживается верховное, державное качество человека. Выявить эту главенствующую черту означает постичь сущность человека. Какое качество можно считать специфически человеческим? Есть ли вообще в человеке какое-то внутренне устойчивое ядро? Философы отвечают на эти вопросы по-разному. Многое зависит здесь от общей мировоззренческой установки, то есть от того, что данное философское направление выдвигает в качестве высшей ценности. Многие философы убеждены, что человек не имеет собственной фиксированной природы. Люди родятся пластичными и в процессе социализации оказываются предельно разными. Биологически унаследованные задатки могут развиваться в самых неожиданных направлениях. Если сравнить дикую и домашнюю лошадь, можно отметить, что между ними есть различие. Но имеет ли оно принципиальный характер? Ведь биологическая организация, повадки, видовые особенности окажутся несомненно одинаковыми. Возможно ли такое рассуждение, если речь идёт о сопоставлении дикаря-антропоида и современного человека? Тут обнаружится масса различий… Культура накладывает глубокий отпечаток не только на поведение человека, но и на его своеобразие. Вот почему многие учёные, указывая на способность человека изменять самого себя, приходят к выводу, что никакой однажды преднайденной природы человека нет. Эту точку зрения поддерживают многие антропологи. Они утверждают, что человеческая натура восприимчива к бесконечным пересотворениям, а внутренне устойчивое ядро этой природы может быть расколото, разрушено. Нетрудно преобразовать изначальную природу в соответствии с той или иной программой. В древности думали, что жизнь на Земле простирается от акта творения и до конца света. Следовательно, человек — это существо, помещённое в этот мир, чтобы в любое мгновение своей жизни обрести либо спасение, либо проклятие. Но постепенно идея времени, переменчивости стала проникать в философию и психологию. Отсюда укрепилось воззрение, будто мы такие, какими сделали себя в процессе жизни. Если же человек историчен и преходящ во времени, если он конструирует себя, изменяя и модифицируя себя во времени, стало быть, никакой устоявшейся человеческой природы нет и не может быть. Представление о том, что человеческую природу можно радикально изменить, складывалось и в религиозном сознании. Уже в христианстве возникло воззрение, согласно которому в результате нравственных усилий можно создать «нового человека». Облагораживание человека предполагает изменение устойчивых черт Адамова потомка, присущей ему животности, разрушительных наклонностей, греховности. Мысль о том, что существует единая человеческая природа, казалась сомнительной ещё по одной причине. Нацизм и расизм, обосновывая собственные программы, полагали, что прекрасно осведомлены о человеческой натуре, и действовали на основе этого неппреложного знания. Консерваторы разных эпох, критикуя радикальные социальные проекты, указывали на тот факт, что человеческая природа не может соотнестись с общественными мутациями. Наконец, казарменный социализм, вербуя своих сторонников и предлагая к реализации социальные утопии, ссылался на то, что такова уж человеческая природа: именно она, мол, обусловливает их социальные программы и радикальные средства. Естественно, если различные идеологические течения имеют в виду неадекватно понятую человеческую природу, можно предположить, что таковая в качестве некой тотальности вообще отсутствует. Такая позиция характерна для тех мыслителей, которые отстаивают тезис об абсолютном приоритете культуры, общественных форм жизни над природными предпосылками человеческого бытия. В частности, среди структуралистов бытует убеждение, что человек есть слепок формирующих его культурных условий. Отсюда вывод: хочешь проникнуть в тайну человека, изучай те или иные структуры самой культуры, ибо индивид отражает их изменчивые формы. В ХХ веке исторический подход был подкреплён исследованиями в области культурной антропологии. Когда учёные обратились к изучению так называемых примитивных обществ, выяснилось разительное несоответствие между обычаями, традициями, ценностями различных культур. Антропология свидетельствует: вид человека остаётся неизменным вот уже несколько сотен тысяч лет, со времён кроманьонцев. Другими словами, биологическая эволюция человечества завершена. Этот вывод неове опровергается современой опровергается современной наукой. Когда политик или социальный мыслитель пытается оправдать доминирующий порядок, он, естественно, исходит из убеждения, что человеческая природа неизменна. Говоря, скажем, о неизбежности экономической конкуренции, одни идеологии ссылались на то, что человек от природы тянется к наживе, стремится к обогащению. В противовес им, другие изобличали конкуренцию как нечто искусственное, деформирующее человеческую природу. Они были убеждены, что натура человека позволяет выявлять в людях альтруизм. Люди проживают свою жизнь в условиях медленных или стремительных социальных перемен. Иногда поколение успевает оказаться в самых неожиданных обстоятельствах, повороты истории погружают их в иную реальность. Выходит, человеческая природа способна адаптироваться к различным ситуациям. Культурные антропологи объясняют: человек не растворяется в культуре. Иначе представители разных культур просто не понимали бы друг друга. Тот или иной этнический социум, если он отграничен от других групп, естественно, может сохранить своеобразные черты. Но как только исчезают социальные дистанции, эти различия стираются. «Сообщение Плиния о последних днях Помпеи, — пишет американский психолог Т. Шибутани, — показывает, что поведение людей в то время не очень отличалось от того, которое наблюдается при подобных несчастьях в нашем обществе. Те, кто видел кинофильмы, заснятые в Индии или Китае и изображающие какой-то ранний период истории, без большого труда понимают характеры и сюжет, несмотря на различия в физическом облике, одежде, языке и обычаях. Те, кто читал автобиографии лиц, живших в далёком прошлом или в чужеземных странах, находят обычаи странными, но личную жизнь автора вполне понятной. Итак, культурные различия не создают барьера для принятия ролей и взаимного понимания, хотя они делают начальное приспособление более затруднительным» Примечания»>25. Изучая государственный переворот, который произошёл в Риме две тысячи лет назад, отечественный исследователь Пётр Вайль тоже обратил внимание на поразительное совпадение событий, лиц и коллизий с тем, что происходит сегодня. Исторические события неполноценны: слишком многое меняется в жизни со временем. Но, вероятно, менее всего оказывается какой-то иной только человеческая природа. Вот почему так поучителен взгляд из разных точек истории… 26 Обратимся также к миру человеческих страстей. Разгадать, скажем, тайну любви означает, по существу, распознать феномен человека. Ведь каждый из нас, независимо от того, какой культуре он принадлежит, пытается преодолеть одиночество, выйти за пределы собственной жизни, обрести уникальный миг единения. В человеческой любви коренится та поэтическая сила, которая создала миф. По словам русского философа Николая Бердяева, Платон с гениальной божественной мощью постиг различие между Афродитой небесной и Афродистой простонародной, то есть любовью неземной, личной, ведущей к индивидуальному бессмертию, и любовью вульгарной, безлично-родовой, природной… Любовные чувства архетипны, но культура несомненно оказывает воздействие на эротику. Философы, которые обращались к теме смерти, нередко пишут о том, что в различных культурах эта тема переживалась по-разному. В иные эпохи страх смерти и вовсе отсутствовал: люди находили в себе силы противостоять угрозе физического уничтожения. Античные греки, например, учили преодолевать ужас небытия путём концентрации духа, усилием животворной мысли, воспитывать в себе презрение к смерти. Страх перед смертью заложен в самой человеческой природе, в самой тайне жизни. Он изначален, то есть коренится в глубинах человеческой психики. Однако в конкретной эпохе, через призму определённых духовных ценностей этот страх обретает различные преображённые формы. Культура постоянно воспроизводит жизненные ситуации, с которыми люди встречаются во все времена. Речь идёт о проблемах долга, любви, жертвы, трагедии, героизма, смерти. Однако культура вовсе не движется по кругу, возвращаясь вновь и вновь к одним и тем же мотивам. В каждую эпоху эти ценности приобретают новое содержание, диктуемое не только постоянной, фиксируемой природой человека, но и социальной действительностью, в которой эта природа раскрывается. Каждая культура вырабатывает определённую систему ценностей, в которой пеосмысливаются вопросреосмысливаются вопросы жизни и смерти. Она творит также определённый комплекс образов и символов, с помощью которых обеспечивается психологическое равновесие индивидов. Человек, разумеется, располагает отвлечённым знанием о факте неотвратимой смерти. Но он пытается, опираясь на существующую в данной культуре символику, сформировать более конкретное представление о том, что делает возможной полноценную жизнь перед фактом неизбежной гибели. По мнению психологов, такая система начинает складываться в психике человека уже в раннем детском возрасте. Образ, который возникает в подсознании человека в связи с его рождением, когда плод отделяется от матери, позднее трансформируется в некий прообраз ужаса перед смертью. Индивид пытается преодолеть этот ужас. Выживание человека предполагает, что в его психике закрепляются символические образы, которые позволяют наполнить земное существование смыслом. Это психологическое равновесие приходится всё время поддерживать, подкреплять. Такая потребность присуща не только отдельному человеку. Культура в целом тоже может войти в состояние разлада и сумятицы, разрушить присущее ей философско-гармоническое восприятие жизни и смерти. Когда возникает опасность для жизни отдельного человека или целого народа, образы символического бессмертия становятся более чётко выраженными, обострёнными, интенсивными. Не только биологическая конституция человека, не только культурная символика наводит на мысль о наличии некоей единой человеческой природы. Биологически все люди принадлежат к одному и тому же виду. Несомненно, общей чертой служит также высокая гибкость поведения, которая в свою очередь связана с человеческой способностью включаться в символическую коммуникацию. Западные психологи и социологи полагают также, что о единстве человеческой природы может свидетельствовать и тот факт, что люди обнаруживают чувства, которые носят типически распространённый характер. Так, американский социолог Ч. Кули полагает, что человек способен принять на себя социальную роль в другой культуре, несмотря на присущее ей своеобразие и известную отстранённость от других культур. Типические чувства как раз и составляют фундамент универсальной основы человеческого общества. Кажется, что люди действуют непредсказуемо и сугубо индивидуально. Но типы поведения всё же оказываются сходными. Типы межличностных отношений, по-видимому, одинаковы. Причины, которые вызывают вражду внутри общества, различны. Однако способы ориентации, которые характеризуют поведение союзников, противников, предателей, выглядят похожими. Во всех культурах матери обнаруживают обострённый интерес к судьбе своих отпрысков; соперников огорчают доблести противников; любящие страдают, когда не могут привлечь внимание или вызвать ответные чувства любимых. Универсальны страсти людей. Во всех обществах существуют клики, семьи, кружки соседей и молодёжные группы. Люди проявляют сходное любопытство к другим — к их эмоциональным реакциям, эротическим авантюрам, чертам характера. Фольклор и мировая литература демонстрируют поразительное сходство сюжетов, тем, событий. Действия происходят подчас в самой необычной обстановке. Но всё это царство универсальных переживаний, позволяющих переводить одно произведение на иной язык, ибо люди способны понять внутренний мир других людей. Даже когда автор создаёт эксцентрические образы — будь то фантастика, мультфильм или фильм ужасов, — мир человеческих чувствований оказывается неизменным. О том, что в глубинах психики гнездится весь многоликий опыт, накопленный человеческим родом в процессе освоения реальности, свидетельствуют и выводы психоаналитиков. Парадоксы человеческой природыЕсли мы хотим понять человеческое поведение, нам следует сделать допущение: человеческая природа всё же есть нечто конкретное. Существует нечто, называемое нами х. Оно, судя по всему, реагирует на социальное окружение твёрдо установленным образом, проистекающим из своеобразия самого х. Это означает, что человеческая природа сохраняет свою внутреннюю устойчивость. Противоположное воззрение, о котором мы говорили («человеческая природа беспредельно мобильна и не фиксирована»), наталкивается на определённые парадоксы. Идея безграничного формообразия человека может привести к далёким и неожиданным следствиям. Не означает ли это, что человек полностью выявил собственный потенциал? Разумеется, нет. В таком случае человек оказался бы заложником или марионеткой определённых жизненных обстоятельств. Именно эти обстоятельства стали бы его лепить. Формообразование человека стало бы прерогативой общества, истории. Внутренняя способность человека к изменениям не получила бы реализации… Если исходить из допущения, будто философски осмысленной человеческой природы нет, а можно выявить лишь основополагающие физиологические потребности Homo sapiens, тогда остаётся только регистрировать бесчисленные способы поведения индивида, ведь какой-либо каркас отсутствует. Для такой цели лучше всего годился бы бихевиоризм, ибо он фиксирует множество человеческих реакций на внешние стимулы. Человеческая природа как некая данность безусловно существует. Мы не в состоянии представить её конкретную расшифровку, ибо она раскрывает себя в различных культурных и социальных феноменах. Она, следовательно, не сводится к перечню каких-то устоявшихся признаков. Наконец, сама эта природа не является беспредельно косной. Сохраняя себя в качестве определённой целостности, она тем не менее подвержена изменениям. Было бы ошибкой полагать, что человек с момента своего появления вовсе не изменился. По сути дела такую позицию можно назвать неэволюционистской и тем более неисторической. Между нашими предками и цивилизованным человеком последних четырёх-шести тысячелетий — огромное различие. Да и общая антропологическая характеристика человека как Homo sapiens на протяжении длительного процесса становления и развития сына природы, охватывающего почти 2,5 миллиона лет, не осталась неизменной. Стало быть, изменяясь, человек сохраняет некое ядро своих устойчивых признаков. Такая позиция противоречит идее историчности человеческого рода. Когда человек, продолжая свою биологическую эволюцию, переходит в стадию культурного развития, возникает противоречие между биологической и социальной формой человеческого бытия. Отношения человека с природой реализуются только через его социально-культурную жизнь. Человеческая природа сохраняет свою целостность, но в то же время подвержена изменениям. В той же мере и культура не есть проекция неизменных человеческих инстинктов. Человек, допустим, может приспособиться к рабству. Но это вовсе не означает, будто рабство идеально соотносится с человеческой природой. Он способен адаптироваться к такой культуре, где сексуальность почти вытеснена. Это приведёт к неврозам, ибо в такой среде человек чувствует себя неблагополучно, его собственная природа ущемлена. Человек может соотнестись с любыми культурными стандартами. Но если они находятся в противоречии с его собственной природой, возникают душевные и эмоциональные конфликты, коллизии. Человек в этом случае вынужден изменять культуру, ибо он не может произвольно переконструировать свою природу. Человек вовсе не чистый лист бумаги, на котором культура записывает свои письмена. Итак, наука о человеке прежде всего пытается осмыслить человеческую природу. Но означает ли это, что она легко определяет свой предмет? Совсем нет… Для философской антропологии определение человеческой природы не исходный пункт, а цель. Она не может ничего предусматривать, декларировать. Данное понятие для неё не что иное, как теоретическая конструкция. Чтобы наполнить её реальным содержанием, нужно изучить многообразные реакции человека на индивидуальные и общественные условия, выявить нечто общее для человека в различных культурах. Следует отметить, что разумность, духовность, этическая ответственность — важные атрибутивные качества человека. Но они являются производными от исторической сущности человека. Индивид как универсальное и свободное природное существо отражает в себе прошлое, настоящее и будущее, то есть он только воссоздаёт в собственной практике опыт прошлого, но и меняет, развивает себя. Такое осмысление проблемы, на наш взгляд, в известной мере отличается от религиозной традиции, которая рассматривает человека как существо сотворённое. Эта позиция позволяет отмежеваться и от натуралистической традиции прошлого, согласно которой человек, будучи частью природы, подчиняется только её законам. Человек — общественное существо, его жизнь возможна лишь при условии коммуникации отдельного индивида с другими. В этом смысле формы его поведения, способности, потребности предопределены. Люди сами творят историю, но делают это при обстоятельствах, которые обусловлены их прошлым развитием. Но нет ли в таком подходе откровенной идеализации человека? Разве человек заведомо добр, универсален, безграничен? Не подрывается ли в этом случае антропологическая мысль изнутри? Прославляя человека, мы как бы сознательно отвлекаемся от тех деструктивных потенций, которые заложены в человеке. История вовсе не стремится очеловечить человека. Напротив, она нередко пытается вытравить в нём истинно человеческое, извратить его природу. «Как ни привлекателен мир красоты, — писал, к примеру, В. В. Розанов, — есть нечто ещё более привлекательное, нежели он: это падения человеческой души, странная дисгармония жизни, далеко заглушающая её немногие стройные звуки. Теперь, когда человечество прошло через опыт массовых насильственных экспериментов с «человеческим материалом», можно сказать без преувеличения: история — это также процесс расчеловечивания человека. Человечество на протяжении своего развития не продемонстрировало пока такой ситуации, когда идея социальности соразмерялась бы с человеческой природой, человеческими потребностями. В истории европейской философии сущность человека усматривалась то в разуме, то в его исторической деятельности, то в присущем ему даре общения. Можно сколько угодно долго перечислять человеческие качества. Но все ли они равноценны? Нет, не все. Издавна считалось, что человек обладает особым даром — сознанием, разумом, интеллектом. Ни одно животное не мыслит. Поэтому своеобразие человека как существа именно в том, что он, будучи биологическим организмом, одновременно обладает необычайным свойством, которое выводит его за рамки животного царства. Впрочем, сомнение в том, что именно разум является выражением человеческой сущности, не ново. Оно постоянно присутствует в истории философии. Августин Блаженный был убеждён в том, что вся дохристианская философия чревата одной ересью: она превозносила власть разума как высшую силу человека. Но, по мнению Августина Блаженного, сам разум — одно из наиболее сомнительных и неопределённых свойств человека, покуда он не просвещен божественным откровением. «Разум не может указать нам путь к ясности, истине и мудрости, — комментирует эту версию антропологической философии Э. Кассирер, — ибо значение его темно, а происхождение таинственно, и тайна эта постижима лишь христианским откровением. Разум у Августина имеет не простую и единую, а скорее двоякую и составную природу. Человек был создан по образу Божию, и в своём первоначальном состоянии, в котором он вышел из божественных рук, он был равен своему прототипу. Но всё это было утрачено после грехопадения Адама. С этого момента первоначальная мощь разума померкла» Примечания»>29. Такова новая антропология, как она появляется и утверждается во всех великих системах средневековой мысли. Даже Фома Аквинский, обратившийся вновь к источникам древнегреческой философской мысли, не рискнул отклониться от этого фундаментального мнения. Признавая за человеческим разумом, и это тоже подмечает Кассирер, гораздо большую власть, чем Августин, он был, однако, убеждён в том, что правильно использовать свой разум человек может только благодаря божественному руководству и озарению. Кассирер, безусловно, прав, когда оценивает последствия этого воззрения для истории философии. То, что казалось высшей привилегией человека, приобрело вид опасного искушения. То, что питало его гордость, стало величайшим унижением. Стоическое предписание: человек должен повиноваться своему внутреннему принципу, чтить этого «демона» внутри себя — стало рассматриваться как опасное идолопоклонничество. Разум порождает безумие?Кассирер не только прослеживает развитие этой традиции. Интеллект, как отмечают многие исследователи, деформирует сознание. Можно ли считать разум коренным и уникальным свойством человека? В современной психологии всё чаще возникает догадка: не стоит ли рассматривать шизофрению как норму сознания? Да только ли психологи? Попробуем реконструировать критику разума, как она реализуется, например, у французских «новых философов». Разум захватил не только мир индивидуальной души. Он покорил мир всеобщей истории. Нации сами воздвигли себе «статую командора», которая в мирные, спокойные времена как бы стушевывается, позволяя народам веселиться у её подножия, но грозно оживает в кризисные моменты, внезапно прерывая веселье и показывая свою истинную сущность. Однако стоит ли воспроизводить эти эпатирующие нападки на человеческий разум? Возможно ли вслед за «новыми философами» оценивать способность человека мыслить как предательство человеческой жизни? Ведь именно в акте мысли человек возвышается над условиями своего человеческого бытия. Но ведь именно разум поддаётся моделированию. Конструирование человека по принципу машины действительно подрывает все истоки размышлений об уникальности человека. Что же специфически человеческого останется в новом виде, который явит моделирующий потенциал сознания? Интеллект. Но разве человек только машина? Если даже сделать такое допущение, то следует, судя по всему, добавить, что человек — не просто машина, а особая машина, которая благодаря своим свойствам умеет страдать, обнаруживать добросердечие, проявлять благородство, демонстрировать волю… Попробуем подойти к проблеме с другой стороны. Отличается ли интеллект животного, если он ему присущ, от человеческого? Можно ли полагать, что это различие только по степени развитости, или в разуме человек обретает уникальное свойство, которое безусловно возвышает его над звероликой природой? Допустим, что нет особых сомнений в том, что разум — специфически человеческое свойство. Однако можно ли полагать, что именно разум («всепониманье») является основным атрибутом человека? Разве, как уже отмечалось, другие свойства Адамова потомка, например фантазия, вера, воля, способность к страданию или проявление остроумия, не возвышают его над природным царством? В экзистенциально-феноменологической традиции разум вообще не рассматривается в качестве единственного признака человека, выражения его своеобразия и незаместимости. Нельзя ли, скажем, выстроить такую последовательность мысли: человеку от природы свойственна общительность. Он так и тянется к себе подобным, чтобы совместными усилиями что-то обмозговать или соорудить, создать… Из этой поразительной соучастности возникла и культура. Ведь ни одно животное не создало «второй природы», то есть феномена культуры. Но, вообще говоря, в природе немало примеров редкой общительности живых особей. Вот, допустим, муравьи или те же пчелы… Мы, впрочем, только догадываемся о тайнах общения у дельфинов. Припомним: лебеди, выражающие друг другу свою привязанность… Не мешает ли нам человеческое высокомерие понять, что и в животном царстве между существами происходит «что-то такое»… К тому же мысль о том, что животные тоже способны создавать «вторую природу», неоднократно рождалась в истории философии. Хотя паук творит по меркам своего вида, но сотканная им паутина вовсе не является фрагментом природного пейзажа. Одним словом, ясно, что человеческая природа не сумма врождённых, биологически закреплённых побуждений, но и не безжизненный слепок с матрицы социальных условий. Это продукт исторической эволюции и определённых врождённых механизмов. Только такой подход позволяет понять, почему, например, происходят изменения в человеческом характере при переходе от одной эпохи к другой. Но чтобы продолжить размышления о сущности человека, нужно, судя по всему, обратиться к древним версиям человека, когда они ещё не были изъяты из мифа… |
Недавний прогресс в изучении древнего человека
КОГДА встречаться в Восточной Англии, уместно, чтобы Отдел антропологии уделил особое внимание доисторической археологии. В этой части Англии еще в 1797 году Джон Фрер сделал первые научные наблюдения за палеолитическими орудиями, которые он выкопал из поверхностного месторождения в Хоксне. В последние годы г-н Дж. Рейд Мойр вызвал широкий интерес своими открытиями старейших известных каменных орудий, которые он собирал с удивительным рвением и обсуждал с острой наблюдательностью.Здесь также возникло «Доисторическое общество Восточной Англии», которое за более чем двадцатилетнюю карьеру получило такую поддержку, что постепенно расширило сферу своей деятельности и превратилось в «Доисторическое общество», посвященное достижениям в своей области. во всех частях света. Действительно, сейчас мы сталкиваемся с проблемами гораздо более серьезными, чем те, с которыми имели дело пионеры в Западной Европе, когда закладывали основы исследований в доисторические времена. Следы людей, которые жили до рассвета истории в удаленных друг от друга частях земной поверхности, были обнаружены в большом количестве в последние годы; и исследование, которое сначала было более или менее локальным, теперь стало одним из всемирных.Среди нескольких разделов науки, которые способствуют нашему пониманию предмета, важное значение имеют палеонтология и геология.
В последние годы г-н Дж. Рейд Мойр вызвал широкий интерес своими открытиями старейших известных каменных орудий, которые он собирал с удивительным рвением и обсуждал с острой наблюдательностью.Здесь также возникло «Доисторическое общество Восточной Англии», которое за более чем двадцатилетнюю карьеру получило такую поддержку, что постепенно расширило сферу своей деятельности и превратилось в «Доисторическое общество», посвященное достижениям в своей области. во всех частях света. Действительно, сейчас мы сталкиваемся с проблемами гораздо более серьезными, чем те, с которыми имели дело пионеры в Западной Европе, когда закладывали основы исследований в доисторические времена. Следы людей, которые жили до рассвета истории в удаленных друг от друга частях земной поверхности, были обнаружены в большом количестве в последние годы; и исследование, которое сначала было более или менее локальным, теперь стало одним из всемирных.Среди нескольких разделов науки, которые способствуют нашему пониманию предмета, важное значение имеют палеонтология и геология. Период существования человека на Земле был настолько коротким, что не произошло заметной эволюции среди млекопитающих, связанных с последующими человеческими расами; но наблюдаются многие миграции и исчезновения, так что этих млекопитающих часто можно использовать для определения относительного возраста изолированных отложений, в которых встречаются человеческие останки и орудия.В некоторых случаях млекопитающих, вероятно, достаточно, чтобы показать природу климата и местные условия, в которых они жили. Современные геологические изменения, хотя и небольшие, также помогают объяснить миграции и, возможно, некоторые вымирания; в то время как особые обстоятельства Великого ледникового периода, при котором древний человек процветал в северном полушарии, время от времени так сильно менялись, что их использовали для построения правдоподобной хронологии. Поэтому как палеонтолог и геолог я предлагаю обсудить некоторые из последних событий доисторической эпохи.
Период существования человека на Земле был настолько коротким, что не произошло заметной эволюции среди млекопитающих, связанных с последующими человеческими расами; но наблюдаются многие миграции и исчезновения, так что этих млекопитающих часто можно использовать для определения относительного возраста изолированных отложений, в которых встречаются человеческие останки и орудия.В некоторых случаях млекопитающих, вероятно, достаточно, чтобы показать природу климата и местные условия, в которых они жили. Современные геологические изменения, хотя и небольшие, также помогают объяснить миграции и, возможно, некоторые вымирания; в то время как особые обстоятельства Великого ледникового периода, при котором древний человек процветал в северном полушарии, время от времени так сильно менялись, что их использовали для построения правдоподобной хронологии. Поэтому как палеонтолог и геолог я предлагаю обсудить некоторые из последних событий доисторической эпохи.
Природа потеряла свой смысл
Интересно, не подошли бы ли — если на мгновение остановиться на религиозных образах — многобожие или анимистические образы лучше сегодня и в будущем. Это просто неправда, что Природа имеет значение или что мы имеем с ней отношения в целом. Но это не значит, что мы отключены от живого мира. Наоборот. У нас есть связи и отношения с определенными местами, видами, временами года в определенном месте. Все это фрагменты того, что, я думаю, мы должны продолжать называть миром природы.
Есть этнография атабаскских народов Аляски, написанная Ричардом Нельсоном, под названием Помолитесь ворону . Его суть в том, что эти «анимисты» не уважают абстрактную Природу и не видят в ней всего лишь набор ресурсов и логистических проблем. У них есть отношение к нему, как и отношения, которые могут быть у вас с семьей вашего партнера, соседями или вашими коллегами: немного непрозрачные, обидчивые, смесь привязанности, обязательств и осторожности. И отношения эти специфические — не с природой, а с лососем, рекой или деревом.Они имеют множество масштабов, опять же, очень похоже на наши отношения с людьми, учреждениями, странами, культурами в наших человеческих жизнях.
Мы, конечно, не можем решить быть атабасками, но это кажется мне многообещающим направлением для реалистичной, непредвзятой этической практики. Мы очень серьезно относимся к тому, что мы живем с остальным миром, и это может быть большой занозой в заднице, или даже ранить или убить нас, но это также единственное возможное место и источник всех радостей, которые мы можем получить.
Андерсен: В книге вы определяете четыре основных способа, которыми американцы представляли природу.Первый — это провиденциальный , где природа — это дикое место, выделенное Богом для возделывания человека. Второй — романтический , где природа — это место эстетического и духовного вдохновения, «светский собор». Третий — утилитарный , где природа — кладезь ресурсов, требующих грамотного управления. И четвертый — экологический , где природа — это совокупность многих взаимозависимых систем. Вы говорите, что мы можем найти эти четыре вида фантазий в наших сборниках законов, но также и в наших пейзажах.Есть ли какие-то особые американские пейзажи, где отпечатки этих идей видны наиболее явно?
Purdy: Сельскохозяйственные угодья Среднего Запада имеют тот узор шахматной доски, который все видели с самолетов. (Я не имею в виду неуважение к так называемой эстакаде: лучше всего ее видно с неба!) Это транскрипция в форме земельных документов картины распространения аграрной республики на запад; это сетка Джефферсона, каждый фермерский участок с достаточным количеством земли, теоретически, чтобы содержать семью, каждая из которых уложена в более крупный узор, с клетками, зарезервированными для школ, округов и т.Это провиденциальный пейзаж .
Между прочим, в этой провиденциальной теории нет ничего невинного. Это была та же теория, которая служила оправданием экспроприации земель коренных американцев, поскольку они «не смогли» использовать ее надлежащим образом. Природа хотела, чтобы он был у европейцев, при условии, что они заполнят его поселениями и развитием. Это была теория, а механизмом была вся сеть законов девятнадцатого века, которые предоставляли частную собственность в обмен на поселение и развитие.Землю можно было получить за наличные, но еще и заселив ее. Вы можете установить собственность, расчистив лес, посадив деревья на пастбищах, осушив заболоченные земли, орошая засушливые земли, добывая ценные минералы — другими словами, заставляя его цвести чем-то, что вы можете продать.
Выросли ли люди за пределы природы — и нужно ли нам это вообще?
Наше общество так сильно изменилось, можем ли мы все еще сказать, что являемся частью Природы? Если нет, стоит ли волноваться — и что с этим делать? Поппи, 21 год, Уорик.
Таковы масштабы нашего владычества на Земле, что ответ на вопросы о том, остаемся ли мы по-прежнему частью природы и нуждаемся ли мы в ней вообще, зависит от понимания того, что мы хотим, как Homo sapiens . И чтобы знать, чего мы хотим, нам нужно понять, кто мы есть.
Это огромный вопрос — но они лучшие. И как биолог, вот мое скромное предложение по решению этой проблемы и личное заключение. У вас может быть другой, но важно то, что мы задумаемся над ним.
Возможно, лучше всего начать с рассмотрения того, что в первую очередь делает нас людьми, что не так очевидно, как может показаться.
Эта статья является частью журнала «Большие вопросы жизни»
Новая серия The Conversation, опубликованная совместно с BBC Future, призвана ответить на насущные вопросы наших читателей о жизни, любви, смерти и Вселенной. Мы работаем с профессиональными исследователями, которые посвятили свою жизнь открытию новых взглядов на вопросы, которые формируют нашу жизнь.
Много лет назад в романе Веркора под названием Les Animaux dénaturés («Денатурированные животные») рассказывается история группы примитивных гоминидов, трописов, найденных в неисследованных джунглях Новой Гвинеи, которые, кажется, представляют собой недостающее звено. .
Однако перспектива того, что эта вымышленная группа может быть использована в качестве рабского труда предприимчивым бизнесменом по имени Ванкруизен, заставляет общество решить, являются ли тропи просто сложными животными или им следует предоставить права человека.В этом и заключается трудность.
Человеческий статус до сих пор казался настолько очевидным, что в книге описывается, как вскоре обнаруживается отсутствие определения того, что такое человек на самом деле. Конечно, ряд экспертов — антропологов, приматологов, психологов, юристов и священнослужителей — не смогли прийти к согласию. Возможно, пророчески, это мирянин предложил возможный путь вперед.
Она спросила, можно ли назвать некоторые привычки гоминидов первыми признаками духовного или религиозного разума.Короче говоря, были ли признаки того, что, как и мы, тропы больше не были «едины» с природой, а отделились от нее и теперь смотрели на нее со стороны — с некоторым страхом.
Это впечатляющая перспектива. Наш статус как измененных или «денатурированных» животных — существ, которые, возможно, отделились от мира природы — возможно, является одновременно источником нашей человечности и причиной многих наших проблем. По словам автора книги:
Все человеческие проблемы возникают из-за того, что мы не знаем, что мы есть, и не согласны с тем, кем хотим быть.
Мы, вероятно, никогда не узнаем время нашего постепенного отделения от природы — хотя наскальные рисунки, возможно, содержат некоторые подсказки. Но ключевое недавнее событие в наших отношениях с окружающим миром так же хорошо задокументировано, как и внезапное. Произошло это солнечным утром понедельника, ровно в 8.15.
Новый век
Атомная бомба, потрясшая Хиросиму 6 августа 1945 года, была настолько громким тревожным сигналом, что он все еще находит отклик в нашем сознании много десятилетий спустя.
День, когда «дважды взошло солнце», был не только убедительной демонстрацией новой эры, в которую мы вступили, он был напоминанием о том, насколько парадоксально примитивными мы остались: дифференциальное исчисление, передовая электроника и почти божественное понимание законов Вселенной помог построить, ну… очень большая палка. Современный Homo sapiens , казалось бы, развил силы богов, сохранив при этом психику стереотипного убийцы каменного века.
Мы больше боялись не природы, а того, что мы сделаем с ней и с самими собой.Короче говоря, мы еще не знали, откуда пришли, но начали паниковать, куда идем.
Теперь мы знаем намного больше о нашем происхождении, но мы по-прежнему не уверены в том, кем мы хотим быть в будущем — или, что все больше, по мере ускорения климатического кризиса, будет ли он у нас вообще.
Возможно, больший выбор, предоставляемый нашими технологическими достижениями, еще более затрудняет решение, какой из многих путей выбрать. Это цена свободы.
Я не выступаю против нашей власти над природой, и даже как биолог я не чувствую необходимости сохранять статус-кво.Большие изменения — часть нашей эволюции. В конце концов, кислород сначала был ядом, который угрожал самому существованию в раннем возрасте, но теперь он стал топливом, жизненно важным для нашего существования.
Точно так же нам, возможно, придется признать, что то, что мы делаем, даже наше беспрецедентное господство, является естественным следствием того, во что мы превратились, и в результате процесса, не менее естественного, чем сам естественный отбор. Если искусственный контроль рождаемости неестественен, значит, снижается младенческая смертность.
Меня также не убеждает аргумент против генной инженерии на том основании, что это «неестественно».Искусственно отбирая определенные сорта пшеницы или собак, мы более или менее вслепую возились с геномами на протяжении веков до генетической революции. Даже наш выбор романтического партнера — это форма генной инженерии. Секс — это способ природы быстро создавать новые генетические комбинации.
Кажется, даже природа может быть нетерпеливой по отношению к себе.
Наша естественная среда обитания? ShutterstockМеняем наш мир
Однако достижения в области геномики открыли дверь к другому поворотному моменту.Возможно, нам удастся избежать взрыва мира и вместо этого изменить его — и себя — медленно, возможно, до неузнаваемости.
Развитие генетически модифицированных культур в 1980-х годах быстро перешло от первоначального стремления улучшить вкус пищи к более эффективному способу уничтожения нежелательных сорняков или вредителей.
В том, что некоторые считали генетическим эквивалентом атомной бомбы, наши ранние набеги на новую технологию снова стали в основном касаться убийства в сочетании с опасениями по поводу заражения.Не то чтобы до этого все было безоблачно. Искусственный отбор, интенсивное земледелие и стремительный рост нашей популяции долгое время уничтожали виды быстрее, чем мы могли их зарегистрировать.
Усиливающиеся «тихие источники» 1950-х и 60-х годов, вызванные уничтожением сельскохозяйственных птиц и, следовательно, их пением, были лишь верхушкой более глубокого и зловещего айсберга. В принципе, нет ничего неестественного в исчезновении, которое было повторяющейся моделью (иногда огромных масштабов) в эволюции нашей планеты задолго до того, как мы вышли на сцену.Но действительно ли это то, что нам нужно ?
Аргументы в пользу сохранения биоразнообразия обычно основаны на выживании, экономике или этике. В дополнение к сохранению очевидных ключевых условий окружающей среды, необходимых для нашей экосистемы и глобального выживания, экономический аргумент подчеркивает возможность того, что до сих пор незначительные лишайник, бактерии или рептилии могут быть ключом к излечению от будущей болезни. Мы просто не можем позволить себе разрушать то, чего не знаем.
Важна ли для нас экономическая, медицинская или внутренняя ценность этого крокодила? ShutterstockНо придание жизни экономической ценности делает ее зависимой от рыночных колебаний.Разумно ожидать, что со временем большинство биологических решений смогут быть синтезированы, а поскольку рыночная стоимость многих форм жизни падает, нам необходимо тщательно изучить значение этического аргумента. Нужна ли нам природа из-за присущей ей ценности?
Возможно, ответ можно получить, если заглянуть за горизонт. По иронии судьбы, поскольку третье тысячелетие совпало с расшифровкой генома человека, возможно, начало четвертого может быть связано с тем, стал ли он избыточным.
Точно так же, как генетическая модификация может однажды привести к концу « Homo sapiens naturalis » (то есть людей, не затронутых генной инженерией), мы можем однажды попрощаться с последним образцом Homo sapiens Genetica . Это последний человек, полностью основанный на генетике, живущий в мире, который все меньше обременен нашей биологической формой — разумом в машине.
Если сущность человека, включая наши воспоминания, желания и ценности, каким-то образом отражается в узоре тонких нейронных связей нашего мозга (а почему бы и нет?), То однажды наш разум может измениться, как никогда раньше.
И это подводит нас к важному вопросу, который мы, безусловно, должны задать себе сейчас: если или, вернее, когда мы сможем что-либо изменить, что бы мы изменили , а не ?
В конце концов, мы можем превратиться в более рациональных, эффективных и сильных людей. Мы можем идти дальше, иметь большее господство над большими областями космоса и привносить достаточно проницательности, чтобы преодолеть разрыв между проблемами, вызванными нашей культурной эволюцией, и способностями мозга, развившегося для решения гораздо более простых проблем.Мы могли бы даже решить перейти к бестелесному разуму: в конце концов, даже телесные удовольствия сосредоточены в мозгу.
И что тогда? Когда секреты вселенной больше не скрыты, почему стоит быть ее частью? Где веселье?
«Сплетни и секс, конечно!» Некоторые возможно скажут. И, по сути, я согласен (хотя я мог бы выразить это по-другому), поскольку это передает мне фундаментальную потребность, которую мы должны протянуть и установить связь с другими. Я считаю, что атрибуты, определяющие нашу ценность в этой огромной и меняющейся вселенной, просты: сочувствие и любовь .Не власть или технологии, которые занимают так много наших мыслей, но которые просто (почти скучно) связаны с эпохой цивилизации.
Истинные боги
Как и многим путешественникам, Homo sapiens может нуждаться в цели. Но благодаря сильным сторонам, которые приходят с его достижением, человек понимает, что ценность человека (будь то отдельная личность или вид) в конечном итоге заключается в другом. Поэтому я считаю, что степень нашей способности к сочувствию и любви будет критерием оценки нашей цивилизации.Это вполне может быть важным ориентиром, по которому мы будем судить о других цивилизациях, с которыми мы можем столкнуться, или даже о нас будут судить они.
Когда мы сможем изменить в себе все, что мы сохраним? ShutterstockВ основе всего этого лежит что-то поистине удивительное. Тот факт, что химические вещества могут возникать в суровых условиях древнего молекулярного супа и по холодным законам эволюции объединяться в организмы, которые заботятся о других формах жизни (то есть о других мешках с химическими веществами), является настоящим чудом.
Некоторые древние верили, что Бог создал нас по «своему образу». Возможно, в каком-то смысле они были правы, поскольку сочувствие и любовь действительно богоподобны, по крайней мере, среди доброжелательных богов.
Берегите эти черты и используйте их сейчас, Поппи, поскольку они являются решением нашей этической дилеммы. Это те самые качества, которые должны побуждать нас улучшать благополучие наших собратьев, не снижая состояния того, что нас окружает.
Все, что меньше, извратит (нашу) природу.
Чтобы получить важные ответы на все вопросы жизни, присоединитесь к сотням тысяч людей, которые ценят научно обоснованные новости, подписавшись на нашу информационную рассылку . Вы можете отправить нам свои важные вопросы по электронной почте [email protected], и мы постараемся найти исследователя или эксперта по этому делу.
Больше важных вопросов в жизни:
Двадцатый век смотрит на человеческую природу
К древней загадке: «Что такое человек?» каждый возраст
возвращает свой ответ.Не могли бы мы определить, в
со всеми его богатыми последствиями, ответом, который этот век даст на вечную загадку, в наших руках будет нить, которая проведет нас через лабиринт современной культуры. Возможно, мы обнаружим, что немалая часть очевидной непоследовательности вещей является результатом наших усилий поверить и применить определенные великие светские догмы — например, теории демократии, капитализма или социализма — когда мы больше не принимаем взгляды людей. природа, которая идет с ними.
Каковы представления западного мира о природе человека? Копай достаточно глубоко, и внизу это христианское. В нем не будет, например, индуистского вида души, который порхает от жизни к жизни к исчезновению личности. Христианская индивидуальная человеческая жизнь — уникальная вещь, с которой связаны вечные ценности. На этом глубоком христианском основании два кружащихся потока мысли, эпохи Руссо и эпохи Дарвина, положили свои последовательные слои.Человеческая природа эпохи Руссо действовала по законам абсолютной морали и разума между полюсами добра и зла, истины и лжи. Человеческая природа эпохи Дарвина была лишь особым видом причины во вселенной изменений и движения, каждое мгновение которой было связано с последующим в железной цепи причин и следствий, так что человек действовал между полюсами успеха и неудачи. как экономический автомат в мире производства или как млекопитающее в мире природы. В этих культурных слоях, в трудах философов восемнадцатого века или экономистов девятнадцатого века, эти взгляды на человеческую природу можно найти, превратившись в замыслы удивительной красоты и сложности.В эпоху Руссо существовали догмы демократии и культ человечности, в эпоху Дарвина — догмы социализма и культ национализма. Это были действительно великие творения. Знать их — значит ими восхищаться. Но являются ли они живыми существами в современном мире или только ископаемыми формами?
Если после должного учета того факта, что культурные эпохи резко не отделены друг от друга и что они всегда намного масштабнее и сложнее, чем любое название, которое мы можем дать им, можно говорить об эпохе Руссо. в восемнадцатом веке и в эпоху Дарвина в девятнадцатом, то с несколько меньшей уверенностью мы можем воспринимать в двадцатом веке эпоху Фрейда.Нельзя утверждать, что личный вклад Фрейда в обучение настолько велик, что он превосходит все остальное, но несомненно, что он был типичным и влиятельным человеком, как Руссо. Он олицетворяет широко распространенные попытки более глубоко изучить внутренние процессы человеческого поведения. Эти усилия являются культурным фактом, столь же далеко идущим и убедительным для нынешнего поколения, как политическая философия, предшествовавшая Французской революции, или викторианское созвездие экономических и научных идей для своего времени.Мода Фрейда и теста интеллекта была иллюстративным эпизодом в великом приключении в понимании человеческой природы. Остальные эпизоды происходят на широком фронте, простирающемся от экономики рекламы до политики нацистов, от новой прозы до Нового курса.
Эффективная мысль дня теперь готова исходить из гипотезы о том, что разум — не хозяин человеческого поведения, а мелкий слуга, который приходит позже, чтобы привести в порядок, объяснить и оправдать.Наше поколение готово признать, что различие между «хорошим» и «плохим» в людях может быть поверхностным различием, если в глубине души эти качества амбивалентны: крестоносец и распутник черпают свою энергию из одного и того же глубокая весна. В то время как экономисты учили, что человек — это существо, которое покупает на самом дешевом рынке и продает самое дорогое, мы пришли к пониманию, что при наличии выбора, который наиболее глубоко определяет его судьбу — например, выбора между войной и миром — он будет продавать на самом дешевом рынке и покупать на самом дорогом.Мы настаиваем на том, чтобы все биографии были переписаны в новых терминах, а все старые человеческие ситуации были описаны заново, не из-за простого преходящего увлечения психологическими новинками, а потому, что старые описания уже неубедительны.
II
Как конкретная концепция человеческой природы, будь то морально-рациональная концепция восемнадцатого века, механико-причинная связь девятнадцатого века или психологическая двадцатая, пронизывает интеллектуальные и практические проблемы своего времени? Этот процесс можно проиллюстрировать на опыте восемнадцатого века.Тогда не было всеобщего согласия в том, что человечество — добро, и что причина была ключом к истине. Это были вопросы, по которым спорящие приняли сторону. Согласие было только подразумеваемым и невысказанным консенсусом в отношении того, что важным в человечестве является его добро или зло, его способность или неспособность познать истину через разум. Дискуссия по этим вопросам сформировала интеллектуальную линию, за которой закрепились крупные корпоративные интересы того времени в битве Французской революции.Церковь считала, что человек от природы плохой и нуждается в таинствах для своего спасения. Теологи утверждали, что разум не может знать истину без помощи откровения. Философы ответили, что человек по своей природе добродетелен, если не испорчен обществом, что его разум открыт для убеждений разума, и что разум будет освещать его путь к вечной истине.
Преобладающие концепции человеческой природы определили многие умозрительные занятия наиболее возвышенных умов.Богословы, верящие в Бога и грех и не доверяющие собственному разуму, столкнулись с определенными характерными метафизическими затруднениями: как мог добрый и всемогущий Бог допустить существование зла в мире? Это была проблема зла. Иногда ее разрешали утверждением, что мир был настолько хорош, насколько это возможно, «лучшим из всех возможных миров». Другой вопрос: как может простой человек силой Божьей рукой и собственными усилиями заставить Бога дать ему спасение? Это называлось проблемой свободы воли и благодати.У философов были и другие трудности, главная из которых была та, которую они назвали проблемой знания. Как мог человек познать истину с помощью разума, если объекты знания лежали в сфере вещей, а сам разум имел дело только с идеями? Эти проблемы питали умы мыслителей от Джона Локка до Иммануила Канта и от янсенистов из Порт-Рояля до Вольтера.
В практическом применении взгляд философов на человеческую природу стал догмой демократии. Способность человека управлять собой была следствием его природных добродетелей и одаренности разума.Таким образом, закон природы указывал на людей как на своего естественного суверена; любая другая власть над ними была либо ненужной, либо злой. Поскольку люди были добрыми и мудрыми, препятствовать им было бы беззаконием и безумием. «Гражданин» Руссо был романтической идеализацией человека, действия которого всегда согласовывались с разумом, чьи желания постоянно были направлены на общее благо. Для таких граждан устройство выборов было средством обнаружения общего блага, объединения всего интеллекта сообщества; это не должно было быть войной враждебных интересов, ведущейся с использованием бумажного оружия.Лидеры того дня осмелились вписать свободу слова и печати в программу демократии, потому что были уверены, что правда победит ошибку в свободном состязании перед судом разума. Даже те, кто выступал против демократической догмы, просто перевернули постулаты, утверждая, что добродетель и разум были монополией немногих, а не достоянием всех.
Престиж разума способствовал практике формулирования всех политических взглядов в терминах юриспруденции.Политические полемисты больше интересовались принципами правительства, чем его механикой, больше законодательством, чем администрацией. Когда Наполеон построил свои операции в терминах административной механики, начался переход к практической политике девятнадцатого века. Вскоре после этого континент с некоторым удивлением узнал о механическом секрете британской «свободы», а именно об изящном устройстве, с помощью которого министерство автоматически уходило с должности, когда оно переставало получать большинство голосов в парламенте.Целью революций 1830 года было не столько демократия или народный суверенитет, сколько введение на континенте системы английского кабинета министров. Джереми Бентам начал писать конституции для молодых латиноамериканских государств, будучи убежден, что, если политическая машина будет правильно настроена, она будет работать безупречно. Затем во Франции пришла Вторая империя, посмеявшая над демократическими догмами, установив народную диктатуру, тиранию с согласия народа. Те, кто все еще придерживался концепций восемнадцатого века, были вынуждены объяснить вторую империю, закрыв глаза на тот факт, что Наполеона III поддерживало подавляющее большинство его нации.Точно так же диктатуры двадцатого века иногда объясняют люди, которые пытаются поверить в то, что огромные массы немцев «на самом деле» не одобряют Гитлера и что подавляющее большинство итальянцев «неохотно» следуют за Муссолини.
III
В девятнадцатом веке, даже когда демократические институты добивались больших успехов, интеллектуальная атмосфера стала неприемлемой для тех предположений о человеческой природе, в которых зародилась догма демократии.Реакция на восемнадцатый век развернулась на широком фронте. Экспериментальная наука захватила престиж, который когда-то принадлежал философии, механические изобретения изменили материальную среду человека, а идея эволюции стала управлять мышлением, как когда-то доминировала концепция разума. Основными социальными догмами, установленными в эту эпоху, были догмы капитализма, социализма и национализма. Эти догмы до сих пор несут с собой запах девятнадцатого века, куда бы они ни пошли.
Наука, изобретение, эволюция появились на пороге века как отдельные элементы культуры, но к середине века они были синтезированы. Гегель, великий философ 1820-х годов, разработал универсальную метафизику эволюции, но он не был ученым. Первые изобретения, которые оказали такое глубокое влияние на экономическую жизнь, были продуктом не научной лаборатории, а мастерской ремесленника. И сама наука в 1800 году не была объединена в большую систему, а скорее состояла из ряда почти не связанных между собой исследований природных явлений.
Но в середине столетия физические науки объединили накопленные за пятьдесят лет экспериментальные данные в великом механическом синтезе, и Дарвин выступил с научным, а не метафизическим применением принципа эволюции, предложив механическое объяснение этого принципа. развитие и сам образ жизни. В то же время ученые начали приносить пользу; в области химии и электричества они внесли свой вклад в мир механических изобретений. Престиж фактов повысился за счет идей и принципов; закономерности механики затмили образцы чистой логики.Социальные мыслители разделяли преобладающие предубеждения в пользу осязаемых реалий. Джон Стюарт Милль написал индуктивную логику; Карл Маркс представил материалистическую интерпретацию истории. Прекрасная механика свободного рынка и золотого стандарта очаровывала каждого наблюдателя экономической жизни. Общество казалось машиной с автоматическим управлением. Высокие цели философии восемнадцатого века были отброшены Гербертом Спенсером, философом эволюции, в неопределенность непознаваемого.«Естественный закон» девятнадцатого века (в отличие от своего предшественника восемнадцатого века) стал чем-то чисто механическим, совершенно не связанным с человеческой юриспруденцией.
Что за человечество населяло этот механический космос? Вместо гражданина политики Руссо появился «индивид» экономической доктрины; вместо суверенного народа Французской революции пролетарские массы Маркса. Это была новая человеческая раса, населявшая новую вселенную.
Добродетель в человеке девятнадцатого века проявлялась как случайное или случайное качество.Успех и выживание были главными. Экономический индивид был в первую очередь продуктивным или непродуктивным, и лишь случайно хорошим или плохим. Личный интерес, а не добродетель, был движущей силой экономической машины. Эту точку зрения разделяли как капиталисты, так и теоретики социализма. Капиталистическая экономика смотрела на индивидуального предпринимателя, социалистическая экономика на воюющий класс, как на решающую силу в экономической деятельности. Обе доктрины совпадали в своем видении лежащего в основе принуждения, либо давления неизменных законов конкуренции на отдельного бизнесмена, либо противодействия непримиримых классов в неизбежном конфликте.Дарвиновская теория борьбы за существование подтвердила то, что уже изложили додарвиновские экономисты.
Когда образец дарвинизма был применен к ситуации в международных отношениях, произошло еще более полное отрицание морального принципа. Выживание наиболее приспособленных было доктриной анархии, делавшей невозможной стабильную международную жизнь. Ни Фрасимах, ни Макиавелли не обладали таким мощным доктринальным оружием для защиты политической аморальности. А сама мораль была изношена социологами и антропологами до тех пор, пока она не стала просто культурной случайностью, действительной для своего времени и места, но не более того.Не лицемерие, а колоссальная сила интеллектуального пищеварения позволила веку принять все это и по-прежнему верить в Бога.
Симптоматикой взглядов девятнадцатого века на человеческую природу была метафизическая проблема свободы воли и механического детерминизма, которая начала привлекать внимание, когда проблема свободы воли и благодати исчезла из поля зрения. Эта метафизическая дилемма оставила глубокий след в современной социалистической догме. В диалектике марксизма всегда было трудно удержать равновесие между двумя сторонами теории, которая одновременно провозглашает неизбежное наступление революции и обязанность руководства и агитации.Именно по этому вопросу Ленин занял свою позицию в решающем программном документе «Что делать?» что положило начало его лидерству. Именно с точки зрения этой дилеммы Троцкий только что проанализировал ноябрьскую революцию. Экономические проблемы в капиталистическом мире мысли облекаются в подобную маску, поскольку они принимают форму утверждений и отрицаний возможности эффективного вмешательства для управления экономической машиной.
Девятнадцатому веку не удалось примирить опыт индивидуальной свободы с догмами механистической науки.Как мог человек пользоваться свободой во вселенной, насквозь связанной полными причинно-следственными отношениями? Следует ли обвинять преступника в своем преступлении, если преступление является продуктом наследственности и окружающей среды? Как могло лидерство вмешаться, чтобы отклонить, замедлить или ускорить процесс, который неизбежно движется за счет собственного импульса?
Когда мучительная дилемма свободы воли и естественной причинности, во всех ее личных и социальных последствиях, пробивалась сквозь общественную мысль, пока не нашла себе место даже в арсенале деревенского атеиста, стало очевидно, что век, который пытался превращение всей своей политической и экономической системы в скиния свободы закончилось сомнением в возможности свободы вообще.
IV
Двадцатый век обратился к психологии под давлением необходимости. Орден Природы, столь обильно иллюстрированный и представленный в мысли девятнадцатого века, больше не предлагал адекватно исчерпывающих и значительных определений. Совокупная специализация ученых разбилась на фрагменты этого чудесного синтеза середины викторианской эпохи и положила конец настоящей популяризации подлинной науки. Не со времен Герберта Спенсера, клерка Максвелла, лорда Кельвина и девятого издания Британской энциклопедии. Казалось возможным для ученых полностью довериться образованному обывателю.Все меньше и меньше становится провозглашенных истин науки, которые могут быть очевидны для обычного разумного человека с помощью демонстраций, затрагивающих его восприятие фактов. А среди самих ученых сектор горизонта знаний, лежащий в поле зрения любого из них, с каждым десятилетием становится жалко меньше. Поскольку наука девятнадцатого века все больше и больше приобретала аспект фрагментарной и неубедительной веры, пришло время искать в другом месте единство и синтез.Возможно, это можно найти в глубинах и загадках человеческой личности!
Психологи участвовали в этой смене фронта, хотя и не добились ее. В целом они шли в ногу со временем. В восемнадцатом веке они были философскими; в девятнадцатом веке они пытались быть научными. Они начали век с френологии и ассоциации идей, а закончили его лабораторным измерением ощущений. Тяга к более глубокому изучению личности ощущалась в литературе еще до того, как она коснулась профессоров психологии.И когда Фрейд и Джеймс вместе с Анри Бергсоном переступили порог девятнадцати сотен, их сопровождали два странных гостя из других веков, святой Фома Аквинский и Иммануил Кант. Эти поборники мысли, каждый по-своему, взялись за восстановление ориентированной на человека, а не за расширение вселенной, сосредоточенной на вещах. Возникло восстание против материалистической науки. Именно в этих условиях началась мода на новую психологию.
Вскоре стало очевидно, что мир девятнадцатого века мертв.Его чудовищные вещи были растворены. Новая физика и современное искусство изменили пространство в соответствии с новой фантазией. Аддитивные простоты индуктивной логики были заменены логикой вероятности. Грубости исторического материализма уступили место более мистическим творениям, таким как творения Шпенглера. В экономическом мире корпорации заменили человека как владельца, функции заменили товары как основные объекты ценности, бумажные ценные бумаги заменили материальную собственность в качестве наиболее распространенной формы богатства, банковский кредит взял на себя обязанности, которые когда-то выполнялись твердой монетой и видимой бумажной валютой. Из искусств рынка преобладали те, которые, как анализ рынка и реклама, относятся к области прикладной психологии.В политике пропаганда эпохи мировой войны раскрыла диапазон и важность политических приемов, которые не были ни кровью и железом девятнадцатого века, ни юриспруденцией восемнадцатого века. Послевоенный национализм и коммунизм дали этим методам дальнейшее развитие, звуковое кино и радио — дополнительное оборудование. В новой политике мифы вытесняют факты; они становятся необходимостью. Символ и ритуал, черная рубашка и красный флаг, песня и цвет — все это, а не бюллетень, являются средствами политической деятельности.Историки спешат изучить общественное мнение в прошлой политике, социологи проводят исследования в группах давления и пропаганде, и становится все более очевидным, что современная культура требует от образованного человека некоторого знакомства с постулатами психологии.
Как можно понять такую вещь, как нацистское движение, без психиатрических знаний? Оценивать движение, судя о том, что Гитлер или его последователи — хорошие или плохие люди, или даже оценивая, насколько они преуспевают или терпят поражение в достижении национальных интересов Германии, — значит искажать всю проблему.Подвергнуть их расовую доктрину объективному анализу на предмет истины или лжи — все равно что вызвать декоратора интерьера, чтобы решить, какие цвета сочетаются в национальном флаге — красный, белый и синий. Свидетельства о поджоге Рейхстага могут быть неоднозначными, но что из этого? Нацистская версия пожара была возведена в разряд государственного мифа и больше не подчиняется канонам исторических свидетельств как простое историческое событие. Нацистское движение нужно понимать с точки зрения психологии или вообще не понимать.
Мы прибегаем к этим формам мысли не только для понимания великих социальных движений дня. Мы нуждаемся в них и используем их для понимания наших собратьев. Мы больше не можем широко использовать предположение, что эти существа созданы равными в смысле восемнадцатого века, наделены общим наследием разума и в равной степени вовлечены в поиски счастья. Это было достаточно хорошо как канон юриспруденции, но бесполезно как принцип профессиональной ориентации.Различия, а не равенство в одаренности и восприимчивости, в способностях и характере, теперь кажутся лучшей отправной точкой для социальной политики. Фикция равенства бесполезна, когда конкретная проблема заключается в приспособлении индивидов к обществу. Более того, мы не удовлетворены обобщением девятнадцатого века, согласно которому человек поглощает все свои качества в доминирующем стремлении к приобретению и выживанию. Было время, когда мы ничего другого не ждали от наших соседей и ничего больше не требовали от себя.В зависимости от нашего состояния в этой общей деятельности мы становились богатыми или бедными, буржуазными или пролетарскими. Но когда авторы «Мидлтауна» из первых рук провели анализ расслоения людей, они провели грань не между богатыми и бедными, а между бизнес-классом и рабочим классом, хотя некоторые представители рабочего класса были в лучшем положении. чем некоторые из бизнес-класса. Они обнаружили разницу во взглядах, другими словами, психологическую. И есть еще много таких важных классификаций, с которыми мы знакомы.Мы относим себя к интровертам или экстравертам. Мы принадлежим к «чувственным», «героическим» или «созерцательным» типам. В научных трудах Кречмера, Шпрангера, Адлера и Юнга, в практике отделов кадров и бюро профессиональной ориентации, в пересмотренном отношении к семейным ситуациям, преподаваемым в колледжах, очевидно, что ХХ век выдвигает гипотезы о человеческой природе. сложности, которые игнорировал девятнадцатый век.
В двадцатых годах прошлого века психология вызвала большой общественный интерес как новая популярная наука.Фрейд и Ватсон правили более чем миллионом чайных столов. Освобождение женщин от ограничений определенных условностей происходило в атмосфере, пропитанной языком психологии, поскольку атмосфера Французской революции пропиталась языком разума и естественных законов. Этот интерес в какой-то мере утих, но неуклонное вторжение психологических техник в практическую жизнь продолжается. В журналах мало статей о Фрейде, но посмотрите их рекламные колонки. Сравните рекламу мыла 1880-х годов — ребенок и ньюфаундлендская собака на каменистом берегу с куском мыла и спасательным кругом — с провокационной темой современного обращения.Сейчас публикации по психологии менее популярны, чем в 20-е годы, но есть более фундаментальные исследования. Женские клубы обращаются от Фрейда к политике, но институты человеческих отношений, воспитания детей и эвтеники продолжают работать.
В
По мере того, как психологическая концепция человеческой природы развивается на наших глазах, мы можем видеть поднимающиеся над горизонтом великие проблемы, которые будут определять себя в ее терминах. Эти надвигающиеся проблемы возникают в системе брака и семьи, в управлении культурой со стороны общества и во взаимоотношениях различных культур друг с другом.
Семья, как проповедуют социологи, теперь лишена столь многих своих старых функций — религиозной, экономической, защитной, образовательной, — что ее главным остающимся служением остается человеческая потребность в любви и личном отклике. Это психологическая потребность. Распространение противозачаточных средств привело к увеличению числа случаев психологического элемента в браке за счет биологического. Современное государство не может избежать проблем, связанных с социальным контролем культуры. Фашисты, коммунисты и нацисты обязуются монополизировать всю жизнь и душу народа.Капиталистическое общество стремится полностью связать свое производство и распределение, и тогда перед ним встает проблема досуга. Там, где хлеба достаточно, чтобы накормить всего человека, как мог объяснить Дарвин, приходит время накормить гораздо более сложного человека, которого изображает психология. Государство, отказывающееся от либеральных принципов правления, создает министерство пропаганды. Государство, которое пытается сохранить либеральные институты при наличии современных методов пропаганды, сталкивается с трудной проблемой предотвращения безответственного манипулирования общественным мнением без ущерба для свободы мысли.Это некоторые из внутренних аспектов проблемы контроля над культурой. Внешне это вопросы, связанные с контактом и взаимопроникновением великих старых цивилизаций, индийской и китайской, с западной, а также во взаимоотношениях коммунистических, националистических и либеральных обществ между собой.
Контакт западной и восточной культур до сих пор ограничивался поверхностными заимствованиями. Теперь все идет глубже. Европа девятнадцатого века с ее наивным чувством превосходства была не ближе Марко Поло к пониманию Китая и Индии.Миссионер и торговец вышли; Сказка путешественника и objet d’art вернулись. Для Запада это был уровень культурных контактов. Воздействие на Восток было сильнее. Индия получила правящий класс; Китай получил в ходе внешней торговли опиум, азиатскую холеру, промышленные товары и, наконец, железные дороги и фабрики. Беспорядки, вызванные этим контактом, теперь распространяются как великий культурный кризис по всему Востоку. Двадцатый век должен решить, произойдет ли синкретизм этих культур с западной цивилизацией, и если да, то на каких условиях.
Не исключено, что все может повернуться против Запада. Технологическое превосходство западных стран может быть утрачено в следующие полвека, как было утрачено превосходство Британских островов в последнее время, из-за простого разброса техники по всему миру. Тогда различия культур будут явно выделяться на уровне социальной психологии; они будут различаться в том, что есть мужчины, а не в том, что у них есть. Если случится так, что пассивное сопротивление окажется успешным в качестве тактики в Индии, а методы Бисмарка потерпят неудачу в Маньчжурии, постулаты западной политики будут дискредитированы азиатским опытом.Если тогда произойдет падение западной самоуверенности, потеря морального духа в присутствии культуры, демонстрирующей превосходство на психологическом уровне, то настанет время уравновесить книги цивилизации, подвергнув Запад, в свою очередь, подчинению. революционное внутреннее давление, возникающее из-за контактов с Востоком. Это будет кризис, который бросит вызов нашему пониманию человеческой личности I
Если веку удастся избежать напряженности, возникающей в результате соприкосновения Востока и Запада, он все равно столкнется с недавними националистическими и коммунистически-капиталистическими расколами на самом Западе.Разделение западной культуры национализмом, достигшее высшей точки в девятнадцатом веке, было тривиальным по сравнению с сегодняшним. Эти различия в основном касались языка, литературы и истории; это мировоззренческие. Коммунист может легко преодолеть языковой барьер, отделяющий его от товарища-коммуниста, но его разум не может встретить на каком-либо языке разум фашиста или либерала. Темой последней бесплатной редакционной статьи обреченного «Frankfurter Zeitung», органа немецкого либерализма, прежде чем он был разгромлен нацистами, были не зверства коричневых рубашек или изнасилование конституции, а большая трагедия: «Это произошло в Наконец, немцы больше не понимают друг друга.”
Двадцатый век сталкивается с возможностью того, что это может стать правдой для мира в целом. Улучшение средств коммуникации (и, следовательно, пропаганды) может привести не к закрытию культурных пропастей между группами людей, а к их углублению, пока возраст не встретит ироническую судьбу, заключающуюся в том, что его способность общаться привела к неспособности понимать. Это в плане социальной психологии. В индивидуальной психологии нас могут подстерегать такие же иронии.Знание человеческой природы, которое психология привносит в отношения брака и семейной жизни, может принести больше трудностей, чем избавить от них. Но теперь уже слишком поздно отступать; мы еще раз репетируем басню об Эдемском саду и откусили яблоко от рокового дерева.
Природа, человеческая природа и человеческие различия
Люди всегда были ксенофобами, но явный философский и научный взгляд на человеческие расовые различия начал формироваться только в современный период.Почему и как это произошло? Обзор ряда философских и естественнонаучных текстов, начиная с испанского Возрождения и заканчивая немецким Просвещением, Nature, Human Nature and Human Difference показывает эволюцию современной концепции расы и показывает, что натурфилософия, особенно попытки систематизировать а в порядке природы сыграла решающую роль.
Смит демонстрирует, как отрицание морального равенства между европейцами и неевропейцами стало результатом сближения философских и научных достижений, включая снижение веры в универсальность человеческой природы и рост биологической классификации.Расовая типизация людей выросла из потребности понять человечество в рамках всеобъемлющей системы природы, наряду с растениями, минералами, приматами и другими животными. В то время как расовые различия с точки зрения науки возникли не для оправдания порабощения людей, они стали рационализацией и опорой для практики трансатлантического рабства. От работ Франсуа Бернье до Г. В. Лейбница, Иммануэля Канта и других, Смит исследует роль философии в наследии современного расизма и его ущербе.
Обширный рассказ, охватывающий более двух веков, Nature, Human Nature and Human Difference представляет критический исторический взгляд на то, как возникли расовые категории, на которые мы себя разделяем.
Джастин Э. Х. Смит — профессор истории и философии науки Парижского университета Дидро-Париж VII. Он является автором книги Divine Machines: Leibniz and the Sciences of Life (Princeton), соредактором и переводчиком The Leibniz-Stahl Controversy , а также постоянным участником New York Times и других публикаций.
«В этой новаторской, наводящей на размышления книге Смит (история и философия науки, Парижский университет Дидро, Париж 7) рассматривает формирование и эволюцию в естествознании и антропологии современных взглядов на расовые аспекты 17-18 веков. различие — взгляды, которые привели к расовой типизации, расовому профилированию, предрассудкам и скрытым предубеждениям … Это ценная книга для тех, кто интересуется философией, социологией, культурологией и мультикультурализмом, историей рас и историей естествознания. и антропология.« — Выбор
«Это исследование, которое я бы порекомендовал всем, кто заинтересован в развитии лучшего понимания происхождения идей о человеческом разнообразии и расе в современной мысли». —Джон Соломос, Renaissance Quarterly
«Сложная история … [и] важный вклад в неотложную задачу понимания и исправления наших, казалось бы, неразрешимых цветовых предрассудков … Обсуждение [Смита] является глубоким и увлекательным.» — Бернард Боксилл, Журнал истории философии
«Обзор концепции расы в раннем Новом времени, сделанный Смитом, является оригинальным, провокационным и одновременно стимулирующим, уравновешивая острым осознанием огромного ущерба, нанесенного идеей расового разделения, и оценкой того, как эта концепция соотносится с достижениями. в нашем понимании места человечества в мире природы. Его исследование является убедительной демонстрацией роли, которую история может сыграть в повышении этического осознания таких опасных и стойких концепций, как раса.» — Девин Вартия, Isis
«Сочетая в себе философский и исторический анализ и кладезь исследований, эта книга документирует эволюцию расовой конструкции в семнадцатом и восемнадцатом веках. В то время, когда философия расы энергично переизобретает себя, Джастин Смит предлагает читателям проницательный набег в современный европейский образ мышления, конструирующий неевропейскую инаковость. «- Коффи Н. Магло, Университет Цинциннати
«Эта книга, описывающая рассуждения о человеческой расе в ранней современной философии, вносит важный вклад в историю и философию расы — предмет, который продолжает вызывать беспокойство в современных дискуссиях.Смит охватывает чрезвычайно сложную территорию разрозненных идей и аргументов, охватывающую столетия и широкий спектр национальных контекстов. Это ценное, заставляющее задуматься и новаторское дополнение к литературе », — Стаффан Мюллер-Вилле, Эксетерский университет
Оглядываясь назад: О происхождении человеческой натуры
Различные частные записи Чарльза Дарвина, которые никогда не предназначались для публикации, но теперь доступны на сайте www.darwin-online.org.uk, указывают на одержимость методологическими деталями, анализом и дедукцией: научным подходом это пронизывало как его научную деятельность, так и его личную жизнь.Его теории стали очень влиятельными в психологии, но что он мог сказать о человеческой природе в то время?
Дарвин очень беспокоился о влиянии, которое его идеи окажут на викторианское общество и особенно на его жену, которая была сторонником креационистского подхода к пониманию жизни на Земле; он отметил, что это «похоже на признание в убийстве». Это привело к тому, что он почти исключил человеческий вид из своего трактата «Происхождение видов ». Здесь единственное упоминание о людях — и действительно, о психологии — было в последней главе:
В далеком будущем я вижу открытые поля для гораздо более важных исследований.Психология будет основана на новом фундаменте, необходимом для приобретения каждой умственной силы и способностей по окончании учебы. Будет пролит свет на происхождение человека и его историю.
(О происхождении видов, первое издание, стр. 488)
За два года до публикации «Происхождение видов » он написал Альфреду Расселу Уоллесу, который пришел к аналогичным выводам об эволюции и чьей переписке побудил Дарвина поспешить с публикацией; Когда его спросили о «человеке», Дарвин ответил:
Я думаю, что буду избегать всего предмета, так как он окружен предрассудками, хотя я полностью признаю, что это высшая и самая интересная проблема для натуралиста. (Burkhardt, 1996)
Несмотря на его нежелание комментировать человеческую природу в Происхождении видов , Дарвин позже опубликовал работы, конкретно относящиеся к человеческому виду: Происхождение человека и Выбор в отношении Секс (1871), который изначально представлял собой три произведения, объединенных для удобства, и Выражение эмоций у человека и животных (1872). В этих работах Дарвин в основном сосредоточился на анатомических особенностях и доказательствах, которые они предоставляют в поддержку его эволюционной теории непрерывности видов; тем не менее он делает многочисленные ссылки на «состояния ума» как на основополагающую черту выражений и комментирует:
Тот, кто признает на общих основаниях, что строение и повадки всех животных постепенно эволюционировали, рассмотрит весь предмет выражение в новом и интересном свете ( The Expression of the Emotions , 2nd edn, p.9.)
В Происхождение человека Дарвин приводит аргументы в пользу эволюционной непрерывности физических свойств, а также многочисленных психологических и социальных атрибутов. Он указывает на преемственность таких черт, как любопытство, подражание, внимание, память, воображение и разум, обсуждает возможную эволюцию социальных структур, включающих симпатию, верность и смелость, а также концепции красоты, особенно в отношении полового отбора. Во многих своих предложениях он использовал свидетельства культур со всего мира, как из своего собственного опыта, так и из своей обширной переписки с любым, кто, по его мнению, мог предоставить информацию, полезную для его развивающихся идей. Происхождение человека также внесло новый вклад в психологию, так как впервые кто-либо смотрел на людей как на естествоиспытателей, наблюдающих за видами млекопитающих или даже животных (почти за 100 лет до Десмонда Морриса и Голая обезьяна ) и смог выйти за пределы нашего вида и взглянуть на нас, как на инопланетного натуралиста.
Помимо книг и писем, две записные книжки, в частности, дают представление о его взглядах. Как и все его записные книжки, M Notebook и N Notebook on Man, Mind and Materialism — это почти случайный набор фрагментов информации, часто в сокращенной форме и с пропущенными словами.Эти две записные книжки были опубликованы в Gruber (1974), и Грубер дает анализ их содержания. Заметки охватывают очень широкий круг психологических тем, но многие из элементов являются комментариями других людей Дарвину и не обязательно отражают собственные взгляды Дарвина. Основные части относятся к памяти и психопатологии, и есть некоторый акцент на относительной роли наследственных и усвоенных влияний. Дарвин не собирался публиковать эти записные книжки. Многие элементы не повлияли напрямую на его предполагаемые опубликованные труды, и невозможно определить, в какой степени он согласен со многими примечаниями других комментариев и идей.
В этих записных книжках Дарвин имел тенденцию концентрироваться на тех элементах, которые, по его мнению, имели отношение к изменчивости, адаптации и выживанию. Таким образом, он рассматривал память с точки зрения образования глубоко укоренившихся следов как относящуюся к этим трем концепциям, и, хотя и не использовал современную терминологию, продемонстрировал некоторую осведомленность о долговременной и кратковременной памяти, свидетельствах отзыва и распознавания и различиях между сознательной памятью. и бессознательное привычное поведение. Дарвин отметил множество форм поведения, указывающих на какое-то психопатологическое состояние.Особый интерес представляет примечание:
Мой отец говорит, что существует идеальная градация между здоровыми людьми и сумасшедшими — что все в какой-то момент безумны. (M Notebook, стр.13)
Дарвин считал это еще одним свидетельством непрерывных изменений внутри вида. Последующее примечание включает следующее, возможно, предвестников «патологического» поведения как защитных механизмов:
Мой великий отец считал, что чувство гнева, которое почти непроизвольно возникает, когда человек устал, сродни безумию.(Я знаю также чувство депрессии, и оба они придают силу и комфорт телу.) (M Notebook, стр.14)
Пять томов писем Чарльза Дарвина, отредактированные его сыном Фрэнсисом, показывают, что в его переписке Чарльз Дарвин мало писал о своих взглядах на психологические вопросы. Большинство писем — это беседы с другими путешественниками, учеными и энтузиастами о жажде Дарвина к знаниям и его ответах на комментарии о его публикациях. Многие из писем были посвящены анатомическим и экологическим аспектам его разрабатываемых теорий.Он действительно сделал несколько комментариев по поводу интеллекта, предположив, что интеллектуальные способности показывают градацию между видами и внутри вида, включая человеческий вид, и что такие различия имеют отношение к выживанию людей.
В интересном ответе на письмо Эмили Талбот, секретаря отдела образования Американской ассоциации социальных наук, после публикации Происхождение человека и примерно за шесть месяцев до своей смерти Дарвин выразил поддержку исследованиям в области образования. потребности:
В ответ на ваше желание я с большим удовольствием выражаю интерес, который я испытываю к предлагаемому вами исследованию психического и физического развития младенцев.В настоящее время очень мало точно известно по этому вопросу, и я считаю, что отдельные наблюдения мало что добавят к нашим знаниям, в то время как табулированные результаты очень большого количества наблюдений, проводимых систематически, вероятно, прольют много света на последовательность и период развитие нескольких факультетов. Эти знания, вероятно, дадут основу для некоторого улучшения нашего образования детей младшего возраста и покажут нам, следует ли следовать системе во всех случаях.
Осмелюсь указать несколько вопросов, которые, как мне кажется, представляют некоторый научный интерес. Например, влияет ли образование родителей на умственные способности их детей в любом возрасте, на очень ранней или несколько более продвинутой стадии? Этому, возможно, могли бы научиться учителя и любовницы, если бы большое количество детей сначала было классифицировано по возрасту и их умственным способностям, а затем в соответствии с образованием их родителей, насколько это возможно.Поскольку наблюдение — одна из первых способностей, развившихся у детей раннего возраста, и поскольку эта способность, вероятно, будет в равной степени использоваться детьми образованных и необразованных людей, не представляется невозможным, чтобы какой-либо передаваемый эффект от образования мог проявиться только на определенном уровне. несколько преклонный возраст. Было бы желательно проверить статистически аналогичным образом истинность часто повторяемого утверждения о том, что цветные дети сначала учатся так же быстро, как белые дети, но потом они отваливаются.Если бы можно было доказать, что образование действует не только на индивидуума, но и через передачу, на расу, это было бы большим воодушевлением для всех, кто работает над этим чрезвычайно важным предметом. Хорошо известно, что у детей в очень раннем возрасте иногда проявляются сильные особые вкусы, причину которых нельзя определить, хотя иногда они могут быть объяснены возвращением к вкусу или занятию какого-либо предка; и было бы интересно узнать, насколько такие ранние вкусы устойчивы и влияют на будущую карьеру человека.
В некоторых случаях такие вкусы исчезают, явно не оставляя никаких последствий, но было бы желательно знать, насколько это часто бывает, поскольку тогда мы должны знать, было ли важно направлять, насколько это возможно. ранние вкусы наших детей. Может быть более полезным, чтобы ребенок энергично следовал за каким-то занятием, каким бы незначительным он ни был, и таким образом приобрел настойчивость, чем если бы он отворачивался от него из-за отсутствия для него будущих выгод.
(Из Дарвина и Сьюарда, 1903. More Letters of Charles Darwin, vol.2)
Это единственное письмо, кажется, предвещает ряд подходов в образовании и демонстрирует замечательно современный подход к методологии.
В автобиографическом фрагменте, написанном Дарвином в 1838 году, он упоминает различие между реальной и сконструированной памятью: «… и я думаю, что моя память реальна, и не так часто случается в подобных случаях, [полученная] из слышания того, что часто повторяется, [когда] получается настолько яркий образ, что его невозможно отделить от памяти… »(Darwin & Seward, 1903).Он также учитывает избирательную память, сравнивая свою память с памятью своих сестер.
В краткой автобиографии, написанной в 1876 году, в основном для своих детей, Дарвин время от времени делал комментарии о различии между усвоенными и врожденными качествами. Он считал свою страсть к коллекционированию врожденной, а человечество — ученым. Эта автобиография также содержит некоторые из его взглядов на научный метод. Он был категорически против догматизма в академических кругах, что было показано многими оппонентами.Эта точка зрения отчасти объясняла его опоздание с публикацией многих своих работ. Он утверждал, что он «работал по истинным принципам Бэкона и без какой-либо теории собирал факты в оптовых масштабах… посредством печатных запросов, бесед… и обширного чтения», и что он «неуклонно пытался держать мой разум свободным, чтобы дать выдвигать любую гипотезу… как только доказывается, что ей противоречат факты »(в Darwin, F., 1888).
Грубер (1974) рассмотрел вклад Дарвина, как прямой, так и предшественник, в психологию.Он выделяет пять основных тем, почерпнутых из работ Дарвина, которые указывают на взгляды Дарвина на человеческую природу: материалистический подход к биологии, эмоциональная непрерывность человека и других животных, адаптивное значение всех биологических функций, интерес к изменению психических функций, и эволюционный подход к эмбриологии и развитию ребенка. Грубер отмечает, что Дарвин был предшественником многих принципов и методов, используемых в психологии — подробных наблюдений, экспериментов с большой выборкой, анкет для сбора информации, а не мнений, и объективных тематических исследований.В «Биографическом очерке младенца» Дарвина (перепечатано в Gruber, 1974) подробно описаны его наблюдения за поведенческим развитием его старшего сына в течение первых нескольких месяцев жизни.
Читая работы Дарвина, нужно помнить о времени, в которое он писал. В XIX веке многие слова и понятия, которые сегодня считались бы «политически некорректными», считались нормальными и правильными. Дарвин, например, относится к «варварам Огненной Земли» и к «дикарям».Однако, вопреки преобладающим в то время взглядам, Дарвин был противником рабства и решительным сторонником точки зрения, согласно которой все человеческие расы принадлежат к одному виду и имеют равные права. В «Происхождении человека» он даже написал о том, как люди относятся к другим людям положительно / отрицательно внутри группы (хотя он не использовал эту фразу). Эту концепцию, которая, конечно, стала очень важной в социальной психологии, часто приписывают более поздним авторам (например, Уильяму Грэму Самнеру в книге «Народные пути» в 1906 году).
Хотя многие аспекты, описанные Дарвином, были вытеснены более поздними исследованиями, его интерпретации соответствовали состоянию знаний середины XIX века. Его общие принципы выдержали испытание временем и послужили мощным стимулом для последующих исследований и дискуссий.
— Крис Лервилл — дипломированный психолог из Колчестера
Ссылки
Brkhardt, F. (Ed.) (1996). Письма Чарльза Дарвина: Подборка.Кембридж: Издательство Кембриджского университета, Дарвин, К. (1964). О происхождении видов. Факсимиле первого издания. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Дарвин, К. (1871). Происхождение человека и отбор в отношении пола. Лондон: Мюррей.
Дарвин, К. (1872). Выражение эмоций у человека и животных. Лондон: Мюррей.
Дарвин, Ф. (ред.) (1888). Жизнь и письма Чарльза Дарвина (т. 1–3). Лондон: Мюррей.
Дарвин Ф. и Сьюард А.С. (ред.) (1903). Еще письма Чарльза Дарвина (тт. 1-2).Нью-Йорк: Эпплтон.
Gruber, H.E. (1974). Дарвин о человеке. Лондон: Wildwood House.
Войдите в антропоцен — эпоху человека
Эта история появилась в мартовском номере журнала National Geographic за март 2011 года.Тропа ведет вверх по холму, — через быстро движущийся поток, обратно через ручей, а затем мимо туши овцы. На мой взгляд, идет дождь, но здесь, на южных возвышенностях Шотландии, как мне сказали, это считается лишь мелкой моросью или ухмылкой. Сразу за последним поворотом есть водопад, наполовину окутанный туманом, и выступ на зазубренной скале.У камня есть полосы, которые идут вертикально, как слоеный пирог, который опрокинули на бок. Мой гид, британский стратиграф Ян Заласевич, указывает на широкую серую полосу. «Здесь происходили плохие вещи, — говорит он.
Полоса была заложена около 445 миллионов лет назад, когда на дне древнего океана медленно накапливались отложения. В те дни жизнь по-прежнему ограничивалась водой и переживала кризис. Между одним краем трехфутовой серой полосы и другим вымерло около 80 процентов морских видов, многие из которых были такими существами, как граптолиты, которых больше не существует.Событие вымирания, известное как конец ордовика, было одним из пяти крупнейших за последние полмиллиарда лет. Это совпало с экстремальными изменениями климата, глобального уровня моря и химического состава океана — все, возможно, вызвано дрейфом суперконтинента над Южным полюсом.
Стратиграфов вроде Заласевича, как правило, сложно впечатлить. Их работа состоит в том, чтобы собрать воедино историю Земли из подсказок, которые можно уловить из слоев горных пород через миллионы лет после того, как это произошло. Они смотрят далеко — очень далеко — на события, и только самые жестокие из них могут оставить после себя четкие и устойчивые сигналы.Это те события, которые отмечают решающие эпизоды в истории планеты, длившейся 4,5 миллиарда лет, поворотные моменты, которые делят ее на понятные главы.
Так что очень неприятно узнать, что многие стратиграфы пришли к выводу, что мы, , являются таким событием — что люди так изменили планету всего за последние столетия или два, что мы открыли новую эпоху: антропоцен. . Стоя в ухмылке, я спрашиваю Заласевича, как, по его мнению, будет выглядеть эта эпоха для геологов далекого будущего, кем бы они ни были.Будет ли переход умеренным, как десятки других, фигурирующих в записи, или он проявится как резкая полоса, в которой произошли очень плохие вещи — например, массовое вымирание в конце ордовика?
Это, по словам Заласевича, именно то, что мы сейчас выясняем.
Слово «антропоцен» было придумано голландским химиком Полем Крутценом около десяти лет назад. Однажды Крутцен, получивший Нобелевскую премию за открытие эффектов озоноразрушающих соединений, сидел на научной конференции.Председатель конференции все время ссылался на голоцен, эпоху, которая началась в конце последнего ледникового периода, 11 500 лет назад, и которая — по крайней мере официально, — продолжается по сей день.
«Давайте остановим это», — выпалил Крутцен. «Мы уже не в голоцене. Мы находимся в антропоцене». Ну, какое-то время в комнате было тихо «. Когда группа сделала перерыв на кофе, главной темой разговора был антропоцен. Кто-то предположил, что Крутцену принадлежит авторское право на слово.
Еще в 1870-х годах итальянский геолог Антонио Стоппани предположил, что люди открыли новую эру, которую он назвал антропозойской.Предложение Стоппани было проигнорировано; другие ученые сочли это ненаучным. Антропоцен, напротив, вызвал отклик. Влияние человека на мир стало намного более очевидным со времен Стоппани, отчасти потому, что численность населения увеличилась примерно в четыре раза, почти до семи миллиардов. «Модель роста человеческой популяции в двадцатом веке была скорее бактериальной, чем приматской», — писал биолог Э. О. Уилсон. Уилсон подсчитал, что биомасса человека уже в сто раз больше, чем у любого другого крупного вида животных, когда-либо ходивших по Земле.
В 2002 году, когда Крутцен изложил идею антропоцена в журнале Nature , эта концепция была немедленно подхвачена исследователями, работающими в широком диапазоне дисциплин. Вскоре он стал регулярно появляться в научной прессе. «Глобальный анализ речных систем: от управления земной системой до антропоценовых синдромов» — гласило название одной из статей 2003 года. «Почвы и отложения в антропоцене» — это заголовок другого заголовка, опубликованного в 2004 году.
Поначалу большинство ученых, использовавших новый геологический термин, не были геологами.Заласевич, который является одним из них, нашел обсуждения интригующими. «Я заметил, что термин Крутцена появлялся в серьезной литературе без кавычек и без иронии», — говорит он. В 2007 году Заласевич был председателем Комиссии по стратиграфии Геологического общества Лондона. На встрече он решил спросить своих товарищей-стратиграфов, что они думают об антропоцене. Двадцать один из 22 считает, что у этой концепции есть достоинства.
Группа согласилась рассматривать это как формальную проблему в геологии.Удовлетворяет ли антропоцен критериям, используемым для обозначения новой эпохи? Говоря геологическим языком, эпохи — это относительно короткие промежутки времени, хотя они могут длиться десятки миллионов лет. (Такие периоды, как ордовик и меловой период, длятся гораздо дольше, а эпохи, такие как мезозой, — еще дольше.) Границы между эпохами определяются изменениями, сохранившимися в осадочных породах — появлением одного типа обычно окаменевших организмов, скажем, , или исчезновение другого.
Рок-пластинки современности, конечно, еще не существует.Таким образом, возник вопрос: когда это произойдет, будут ли антропогенные воздействия отображаться как «стратиграфически значимые»? Ответ, как решила группа Заласевича, положительный, хотя и не обязательно по причинам, которых вы ожидаете.

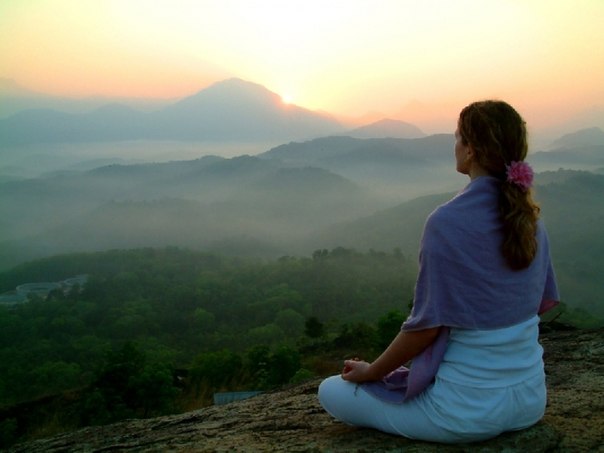 И когда точно такая же «прималофтина», но «без перламутровых пуговиц», то есть, без тесных манжет, – роскошная вещь. Или почему те же манжеты-полуперчи являются шикарнейшим дополнением к тёплому и функциональному термобелью.
И когда точно такая же «прималофтина», но «без перламутровых пуговиц», то есть, без тесных манжет, – роскошная вещь. Или почему те же манжеты-полуперчи являются шикарнейшим дополнением к тёплому и функциональному термобелью. Изобличительный пафос философа тем глубже, чем дальшее продвигаемся мы в существо собственно человеческих проблем. Человек как историческое создание постоянно развивается. Чем основательнее изучаем мы его многообразные черты, тем больше оснований для критики уже сложившегося общественного уклада.
Изобличительный пафос философа тем глубже, чем дальшее продвигаемся мы в существо собственно человеческих проблем. Человек как историческое создание постоянно развивается. Чем основательнее изучаем мы его многообразные черты, тем больше оснований для критики уже сложившегося общественного уклада. Когда философы говорят о природе или сущности человека, то речь идёт не столько об окончательном раскрытии этих понятий, их содержания, сколько о стремлении уточнить роль названных абстракций в философском размышлении о человеке.
Когда философы говорят о природе или сущности человека, то речь идёт не столько об окончательном раскрытии этих понятий, их содержания, сколько о стремлении уточнить роль названных абстракций в философском размышлении о человеке. Например, разумность свойственна только человеку. Он овладел также искусством общественного труда, освоил сложные формы социальной жизни, создал мир культуры. У Homo sapiens, стало быть, есть постоянные и специфические признаки, но в какой мере они приоткрывают тайну человека в целом?
Например, разумность свойственна только человеку. Он овладел также искусством общественного труда, освоил сложные формы социальной жизни, создал мир культуры. У Homo sapiens, стало быть, есть постоянные и специфические признаки, но в какой мере они приоткрывают тайну человека в целом? Итак, человек — прежде всего живое, природное существо. Он обладает пластичностью, несёт на себе следы биогенетической и культурной эволюции.
Итак, человек — прежде всего живое, природное существо. Он обладает пластичностью, несёт на себе следы биогенетической и культурной эволюции.
 Творцы тех или иных социальных доктрин доказывали разумность своих проектов, ссылаясь на человеческую природу. Но эти ссылки оправдывали самые неожиданные и различные программы. Например, Платон, Аристотель и большинство мыслителей вплоть до Французской революции, ссылаясь на человеческую природу, оправдывали рабство.
Творцы тех или иных социальных доктрин доказывали разумность своих проектов, ссылаясь на человеческую природу. Но эти ссылки оправдывали самые неожиданные и различные программы. Например, Платон, Аристотель и большинство мыслителей вплоть до Французской революции, ссылаясь на человеческую природу, оправдывали рабство. Это мнение укреплялось также и потому, что многие учёные полагали, что личность сама создаёт себя, меняет себя, преображает себя. Столь разные философы, как, например, С. Кьеркегор или У. Джеймс, А. Бергсон или Теяйр де Шарден, полагали, что человек — творец собственной истории. Иначе говоря, в исторической реальности человек всё время другой…
Это мнение укреплялось также и потому, что многие учёные полагали, что личность сама создаёт себя, меняет себя, преображает себя. Столь разные философы, как, например, С. Кьеркегор или У. Джеймс, А. Бергсон или Теяйр де Шарден, полагали, что человек — творец собственной истории. Иначе говоря, в исторической реальности человек всё время другой… zdkztn kb cj, jq xtkjdtxtcrfz ghbhjlf ytxnj c понятия связано с общенаучной парадигмой. Иначе говоря, господство тех или иных подходов в науке нередко обусловливает и ответ на вопрос, являет ли собой человеческая природа нечто стабильное. Когда в науке укореняются эволюционистские, историцистские концепции, тогда представление о неизменности человеческой природы рушится. Напротив, в иной ситуации возрождается убеждение в том, что человек разных эпох сохраняет сущностное единство. Однако все это не означает, будто господствует представление «человек не имеет фиксированной природы». Многие исследователи полагают, что природа человека как нечто конкретное несомненно существует. Из этой предпосылки исходит, в частности, вся динамическая психология.
zdkztn kb cj, jq xtkjdtxtcrfz ghbhjlf ytxnj c понятия связано с общенаучной парадигмой. Иначе говоря, господство тех или иных подходов в науке нередко обусловливает и ответ на вопрос, являет ли собой человеческая природа нечто стабильное. Когда в науке укореняются эволюционистские, историцистские концепции, тогда представление о неизменности человеческой природы рушится. Напротив, в иной ситуации возрождается убеждение в том, что человек разных эпох сохраняет сущностное единство. Однако все это не означает, будто господствует представление «человек не имеет фиксированной природы». Многие исследователи полагают, что природа человека как нечто конкретное несомненно существует. Из этой предпосылки исходит, в частности, вся динамическая психология. Психология, в частности, не располагает данными о том, что от поколения к поколению улучшается или ухудшается память, воображение, мышление, угасают старые или появляются новые формы эмоциональной жизни, обостряется или притупляется действие анализаторов.
Психология, в частности, не располагает данными о том, что от поколения к поколению улучшается или ухудшается память, воображение, мышление, угасают старые или появляются новые формы эмоциональной жизни, обостряется или притупляется действие анализаторов. Она вовсе не преображается по мановению социальных утопистов.
Она вовсе не преображается по мановению социальных утопистов.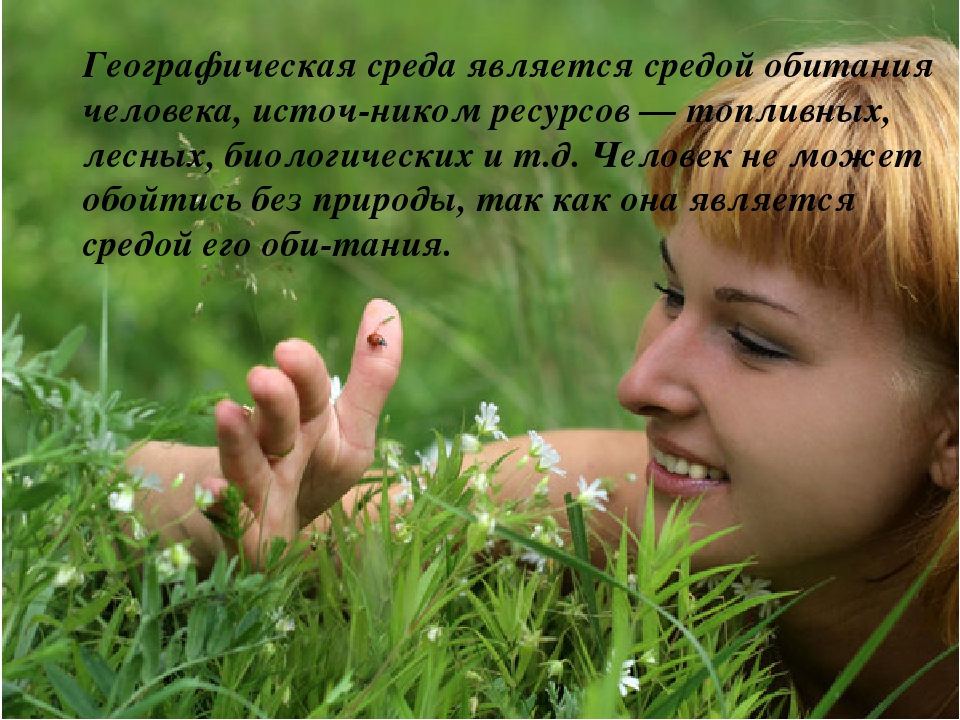 Доминирующие стандарты поведения определяют форму массовых переживаний. Аскетизм замещает оргиастические страсти, сексуальное буйство сменяется целомудрием. Каждый из нас может выявить в себе отзвук тех или иных страстей, будь то любовь Суламифи и царя Соломона, Дафниса и Хлои, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, маркиза де Сада и его подруг, почтенных бюргеров или современных панков. Захваченный любовным экстазом или, напротив, хранящий целомудрие, любой может увидеть в истории человечества проекцию собственных чувств. И каждый, видимо, знает, как многообразны обличия любви: она многолика, как сама жизнь. Однако, оказывается, и отрицание жизни — смерть — также многолико.
Доминирующие стандарты поведения определяют форму массовых переживаний. Аскетизм замещает оргиастические страсти, сексуальное буйство сменяется целомудрием. Каждый из нас может выявить в себе отзвук тех или иных страстей, будь то любовь Суламифи и царя Соломона, Дафниса и Хлои, Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, маркиза де Сада и его подруг, почтенных бюргеров или современных панков. Захваченный любовным экстазом или, напротив, хранящий целомудрие, любой может увидеть в истории человечества проекцию собственных чувств. И каждый, видимо, знает, как многообразны обличия любви: она многолика, как сама жизнь. Однако, оказывается, и отрицание жизни — смерть — также многолико. Людей Средневековья, напротив, предстоящая смерть доводила до исступления. Ни одна эпоха, как свидетельствует нидерландский историк и философ Йохан Хейзинга, не навязывает человеку мысль о смерти с такой настойчивостью, как XV столетие 27.
Людей Средневековья, напротив, предстоящая смерть доводила до исступления. Ни одна эпоха, как свидетельствует нидерландский историк и философ Йохан Хейзинга, не навязывает человеку мысль о смерти с такой настойчивостью, как XV столетие 27. Точно так же проблемы смерти, хотя и преследуют человечество исстари, всё же получают разное истолкование в различных религиозных традициях.
Точно так же проблемы смерти, хотя и преследуют человечество исстари, всё же получают разное истолкование в различных религиозных традициях. Он ищет способы уйти от тленья, увековечить себя, постоянно ощущая присутствие смерти.
Он ищет способы уйти от тленья, увековечить себя, постоянно ощущая присутствие смерти. У всех людей есть какой-то язык. Человек повсеместно обнаруживает дар к рефлексивному мышлению. Следовательно, ему присуща возможность предвидеть последствия своего поведения.
У всех людей есть какой-то язык. Человек повсеместно обнаруживает дар к рефлексивному мышлению. Следовательно, ему присуща возможность предвидеть последствия своего поведения.
 Люди имеют унаследованные от предков «исконные образы», как назвал их Якоб Буркхардт. Это наследственно присущая нашему мозгу способность порождать образы, в которых выражается всё, что было всегда. Такова концепция Юнга, который видит единство человеческой природы, в частности, в существовании архетипических образов.
Люди имеют унаследованные от предков «исконные образы», как назвал их Якоб Буркхардт. Это наследственно присущая нашему мозгу способность порождать образы, в которых выражается всё, что было всегда. Такова концепция Юнга, который видит единство человеческой природы, в частности, в существовании архетипических образов. Представим себе, что человек как существо безграничен и бесконечно подвижен. Он создал некие институты, которые вполне отвечают его потребностям. Дальнейший импульс к пересотворению утрачен. Человек вполне доволен общей жизненной ситуацией.
Представим себе, что человек как существо безграничен и бесконечно подвижен. Он создал некие институты, которые вполне отвечают его потребностям. Дальнейший импульс к пересотворению утрачен. Человек вполне доволен общей жизненной ситуацией.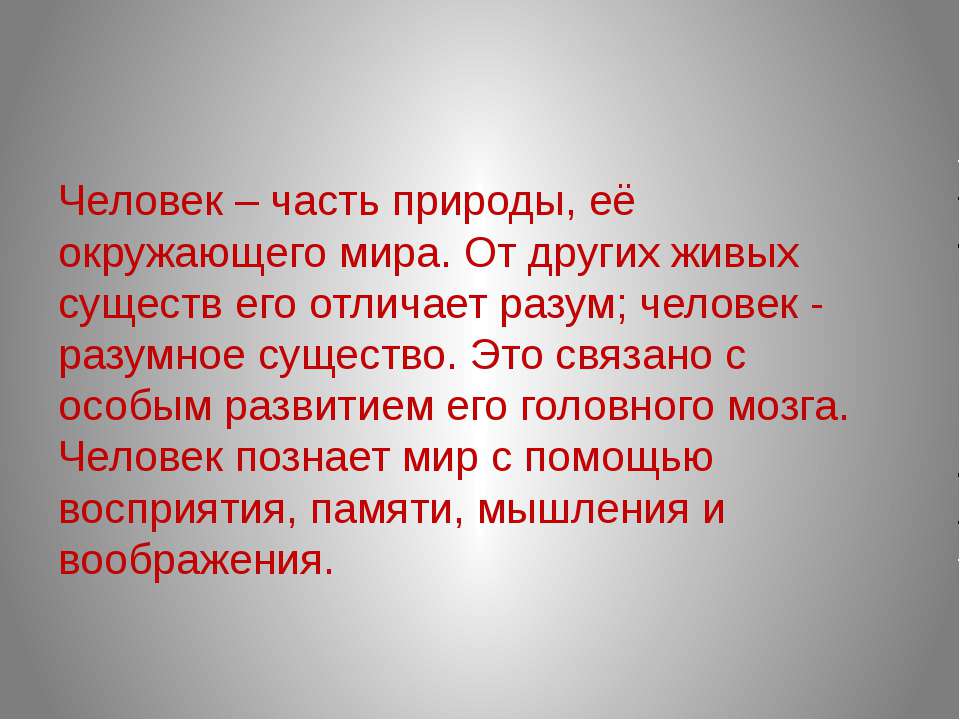
 Но можно ли отнести эти признаки только к биологии или психологии человека? Иначе говоря, правомерно ли понимать под человеческой природой некую субстанцию, сводящуюся только к его естественным свойствам и задаткам? Многие европейские мыслители видели в человеке в основном сына природы. Из её тайн, её богатства они выводили и другие свойства индивида. Человек при этом понимался как высший продукт природы, его особенности и качества объяснялись только их природным происхождением.
Но можно ли отнести эти признаки только к биологии или психологии человека? Иначе говоря, правомерно ли понимать под человеческой природой некую субстанцию, сводящуюся только к его естественным свойствам и задаткам? Многие европейские мыслители видели в человеке в основном сына природы. Из её тайн, её богатства они выводили и другие свойства индивида. Человек при этом понимался как высший продукт природы, его особенности и качества объяснялись только их природным происхождением. Она подвижна, и человеческая природа пытается приспособиться к ней. Человек может адаптироваться к недолговременным отношениям, но при этом не исчерпать себя. В конкретной ситуации он способен развивать определённые душевные и эмоциональные реакции, которые рождаются из особенных свойств его натуры.
Она подвижна, и человеческая природа пытается приспособиться к ней. Человек может адаптироваться к недолговременным отношениям, но при этом не исчерпать себя. В конкретной ситуации он способен развивать определённые душевные и эмоциональные реакции, которые рождаются из особенных свойств его натуры. Он изначально не способен окончательно приноровиться к любым культурным условиям. Будь он наделен таким даром, его ждала бы судьба обычного животного. Ведь именно другие особи имеют узкую специализацию, они могут существовать только в конкретной биологической нише. Если ниша изменится, животное гибнет, присущая ему способность к адаптированию небезгранична. Человек же, напротив, в силу того, что наделён некоторыми неистребимыми свойствами, оказывает сопротивление истории и обеспечивает таким образом социальную динамику.
Он изначально не способен окончательно приноровиться к любым культурным условиям. Будь он наделен таким даром, его ждала бы судьба обычного животного. Ведь именно другие особи имеют узкую специализацию, они могут существовать только в конкретной биологической нише. Если ниша изменится, животное гибнет, присущая ему способность к адаптированию небезгранична. Человек же, напротив, в силу того, что наделён некоторыми неистребимыми свойствами, оказывает сопротивление истории и обеспечивает таким образом социальную динамику.
 Наиболее глубокое и развёрнутое представление о природе человека даёт реальная история, в ходе которой человек развёртывает своё сущностное богатство. Люди живут в реальном, исторически конкретном, изменяющемся мире. Общественные процессы, стало быть, позволяют с предельной выразительностью выявить «истинно человеческое». Наше «вечное, слитное Я», если воспользоваться образом М. Волошина, ещё ждёт разгадки…
Наиболее глубокое и развёрнутое представление о природе человека даёт реальная история, в ходе которой человек развёртывает своё сущностное богатство. Люди живут в реальном, исторически конкретном, изменяющемся мире. Общественные процессы, стало быть, позволяют с предельной выразительностью выявить «истинно человеческое». Наше «вечное, слитное Я», если воспользоваться образом М. Волошина, ещё ждёт разгадки… В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества» 28.
В формах этой дисгармонии проходят тысячелетние судьбы человечества» 28.
 Он пытается проанализировать проблему по существу. Есть такие вещи, рассуждает неокантианец, которые не поддаются какому бы то ни было логическому анализу из-за своей хрупкости и бесконечного разнообразия. И прежде всего это относится к человеческому сознанию. Именно природе человека, запомним эту мысль, присущи богатство и утончённость, разнообразие и непостоянство. Как бы предостерегая от современных аналогий человека с машиной, Кассирер отмечает: математика никогда не может стать инструментом истинного учения о человеке, философской антропологии. Смешно говорить о человеке как о геометрическом постулате. И далее: философу непозволительно конструировать искусственного человека — он должен описывать его таким, какой он есть…
Он пытается проанализировать проблему по существу. Есть такие вещи, рассуждает неокантианец, которые не поддаются какому бы то ни было логическому анализу из-за своей хрупкости и бесконечного разнообразия. И прежде всего это относится к человеческому сознанию. Именно природе человека, запомним эту мысль, присущи богатство и утончённость, разнообразие и непостоянство. Как бы предостерегая от современных аналогий человека с машиной, Кассирер отмечает: математика никогда не может стать инструментом истинного учения о человеке, философской антропологии. Смешно говорить о человеке как о геометрическом постулате. И далее: философу непозволительно конструировать искусственного человека — он должен описывать его таким, какой он есть… Именно разум, по их мнению, как способность человека к отвлечению от реальности, имел в европейской истории по крайней мере отягчающие следствия. Во всеохватывающих системах мысли разум стал роковой силой. Рациональная деятельность человека обнаружила себя как насильственная и злонамеренная, направленная на подчинение мира. Разум вообще материализуется в недвусмысленно агрессивную силу. он не только завоёвывает личность изнутри, но и — помимо её желания и участия — подчиняет извне. Он насильственно диктует ей свои неукоснительные истины.
Именно разум, по их мнению, как способность человека к отвлечению от реальности, имел в европейской истории по крайней мере отягчающие следствия. Во всеохватывающих системах мысли разум стал роковой силой. Рациональная деятельность человека обнаружила себя как насильственная и злонамеренная, направленная на подчинение мира. Разум вообще материализуется в недвусмысленно агрессивную силу. он не только завоёвывает личность изнутри, но и — помимо её желания и участия — подчиняет извне. Он насильственно диктует ей свои неукоснительные истины. Кроме того, мы уже условились: сущность человека не обязательно должна обнаруживаться в продуктивных, созидательных формах. С этой точки зрения, даже если разум и обладает врождённой неполноценностью, он может тем не менее давать предельное представление о специфически человеческом.
Кроме того, мы уже условились: сущность человека не обязательно должна обнаруживаться в продуктивных, созидательных формах. С этой точки зрения, даже если разум и обладает врождённой неполноценностью, он может тем не менее давать предельное представление о специфически человеческом. «Научное объяснение «мышления» животного, — отмечает академик Т. И. Ойзерман, — по-видимому, возможно, без допущения того, что оно совершает логические операции, то есть выводы из обобщений, понятий. Основанием для «вывода» у животного является ощущение, восприятие определённого факта, который соответствует внутреннему (в основе своей видовому) стереотипу, означает искомую добычу, опасность или просто нечто неизвестное, вызывающее настороженность и тому подобное» 30.
«Научное объяснение «мышления» животного, — отмечает академик Т. И. Ойзерман, — по-видимому, возможно, без допущения того, что оно совершает логические операции, то есть выводы из обобщений, понятий. Основанием для «вывода» у животного является ощущение, восприятие определённого факта, который соответствует внутреннему (в основе своей видовому) стереотипу, означает искомую добычу, опасность или просто нечто неизвестное, вызывающее настороженность и тому подобное» 30. Сферой специфически человеческого здесь выступает необозримое пространство человеческой субъективности…
Сферой специфически человеческого здесь выступает необозримое пространство человеческой субъективности… Она становится своеобразным дополнением к нему. Пчела строит восковые ячейки в качестве своеобразного архитектора.
Она становится своеобразным дополнением к нему. Пчела строит восковые ячейки в качестве своеобразного архитектора.