| 1. |
«Золотое правило нравственности»
Сложность: лёгкое |
1 |
| 2. |
Повторяем теоретический материал
Сложность: лёгкое |
1 |
3.
|
Моральный и общественный долг
Сложность: лёгкое |
1 |
| 4. |
Дополни предложение
Сложность: лёгкое |
1 |
5.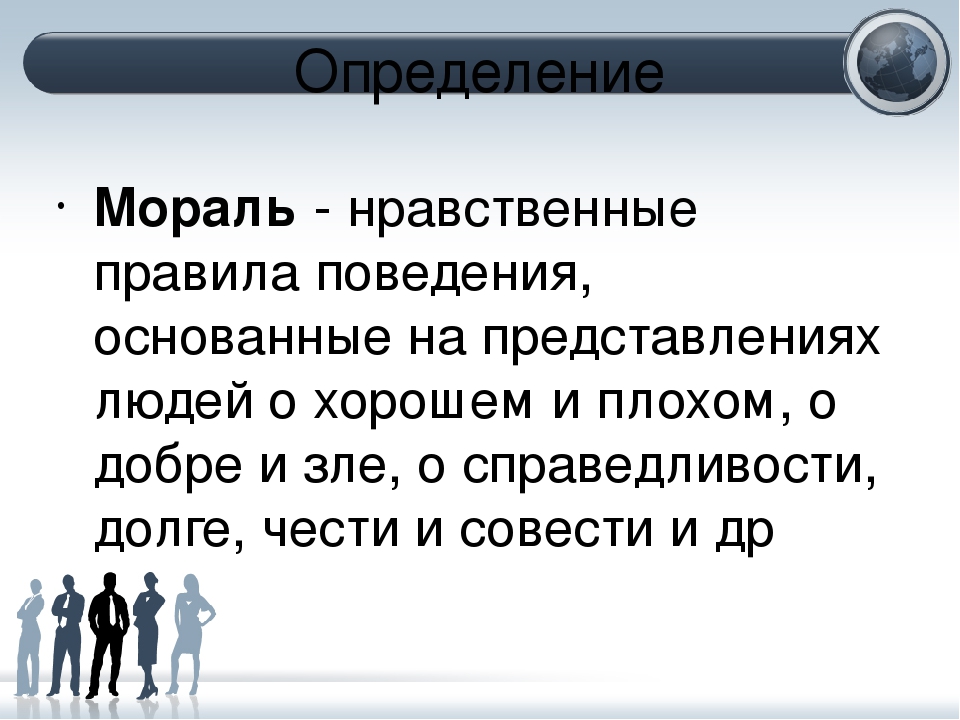 |
Народная мудрость
Сложность: среднее |
1 |
| 6. |
Повторяем принципы морали
Сложность: среднее |
1 |
7.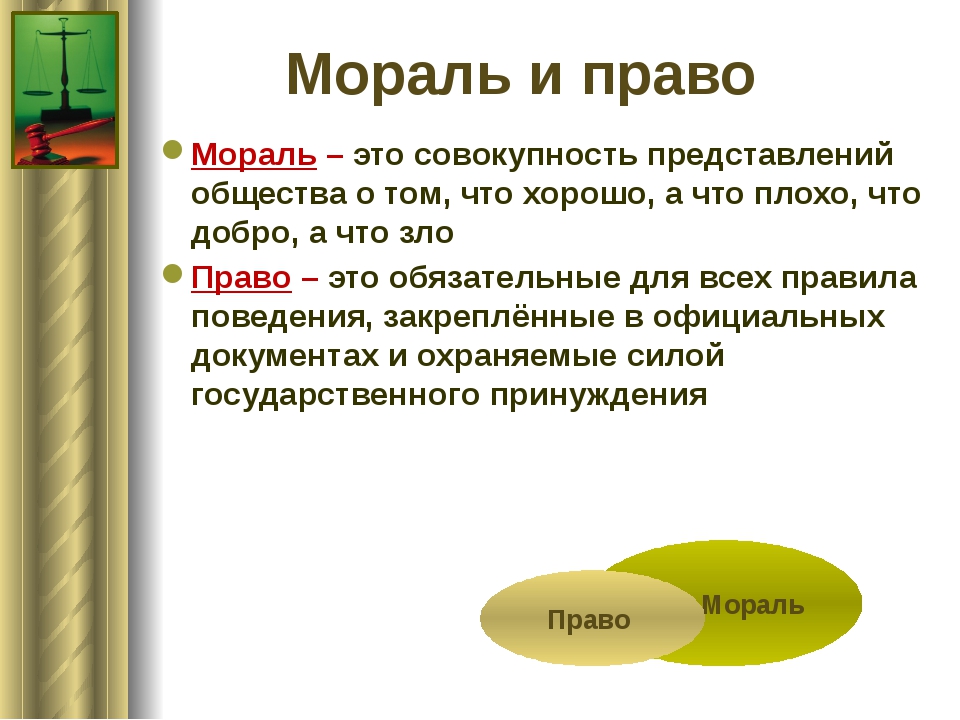
|
Анализируем ситуацию
Сложность: среднее |
2 |
| 8. |
Применение моральных и правовых норм
Сложность: среднее |
2 |
9.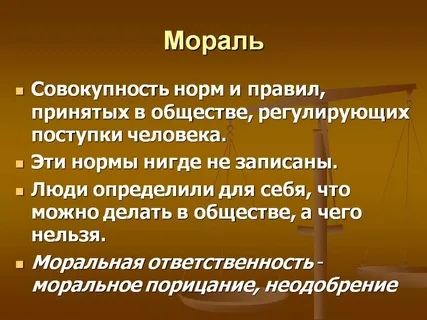
|
Факты и мнения Сложность: сложное | 3 |
| 10. |
Повторяем понятия
Сложность: сложное |
3 |
11.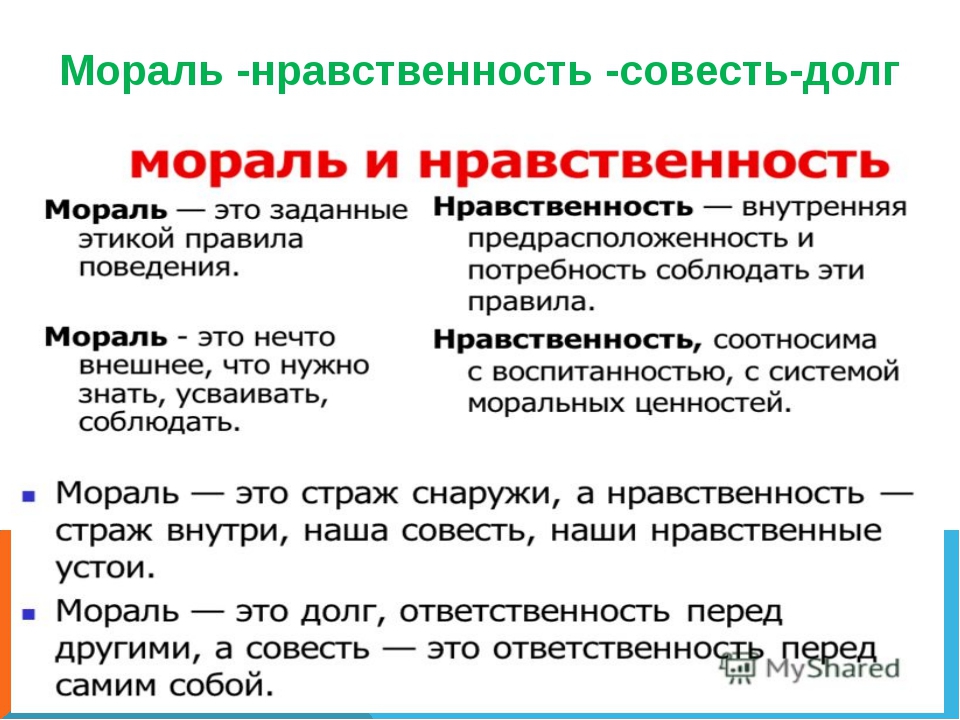
|
Формирование моральных принципов
Сложность: сложное |
4 |
| Мораль — специфический способ регуляции общественной жизни с позиций гуманизма, добра и справедливости, осуществляемый при помощи требований к поведению людей и опирающийся на общественное мнение и внутренние убеждения человека (определение приведено из пособия «Обществознание» под ред. Более простое определение и пояснение, что такое мораль, дает в своей книге-бестселлере «Истоки морали» знаменитый биолог Франс де Вааль: «Мораль — это система правил, предписывающих, по существу, две вещи: помогать или по крайней мере не вредить другим людям. Она предписывает заботиться о благе других и ставить интересы общества выше личных. Мораль не отрицает существования личных интересов, но ограничивает следование им общественными интересами. Это функциональное определение отделяет мораль от обычаев и привычек, таких, как правило пользоваться за столом ножом или вилкой, а не палочками и уж тем более не руками. Если я начну есть руками, окружающие, по крайней мере в моей нынешней культуре, могут меня не понять и даже осудить — но это будет осуждение не морального свойства. Даже маленькие дети отличают этикет (мальчики ходят в свой туалет, девочки в свой) от моральных правил (нельзя дергать девочек за косички).
Мораль как социальная нормаОбъясняя, что такое мораль, Франс де Вааль сравнивает её с другими правилами, регулирующими поведения людей. — этикет Особенности моралиУ моральных норм есть общая черта с религиозными нормами — и там и там человек имеет критерием своего поведения совесть. Только в религии ещё имеют значения те или иные церковные предписания. К примеру, сложно найти опору на совесть в решении никогда не есть свинину (принято, например, в исламе и иудаизме), но человек будет это выполнять, потому что такова традиция и требование его религии. От правовых норм мораль отличает то, что закон прописан и охраняется силой государства. Моральные правила не описаны, они как бы известны всем по умолчанию и за их нарушение наказания не будет, если только общественное мнение осудит человека за аморальное поведение. При этом закон всегда основам на моральных нормах. Кроме того, моральные нормы отличаются тем, что опираются на базовые ценности людей: мир, любовь, доброта, свобода и т. п. Подытожим. Особенности морали: — опора на совесть Основные категории морали — это добро и зло, честь и совесть, достоинство человека и долг. Золотое правило морали (или нравственности), записанное в Библии, но принятое в качестве правила и атеистами, и людьми других конфессий: «Обращайся с другим так, как хочешь , чтобы обращались с тобой». Здесь, правда, стоит заметить, что для невротичных людей это, как кажется, предельно ясное для понимания правило может обернуться проблемой. К примеру, человек может пребывать в заблуждении, что физически наказывать детей — допустимо и полезно. Доказывать эту точку зрения он будет словами «меня били и спасибо, стал человеком». Выполнить задание на закрепление темы
|
Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)
%PDF-1.6 % 615 0 obj > endobj 612 0 obj > endobj 614 0 obj >stream application/pdf
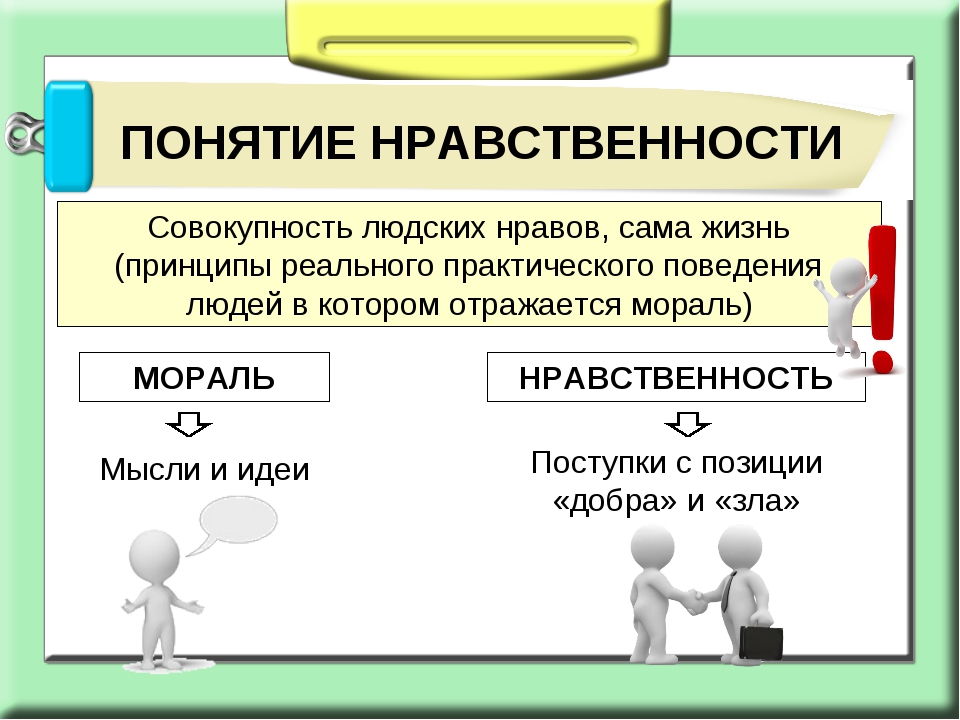 Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)
Поурочные разработки. 9 класс. (Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. И., Кинкулькин А. Т. и др.)| Общие сведенья Мораль (от лат. 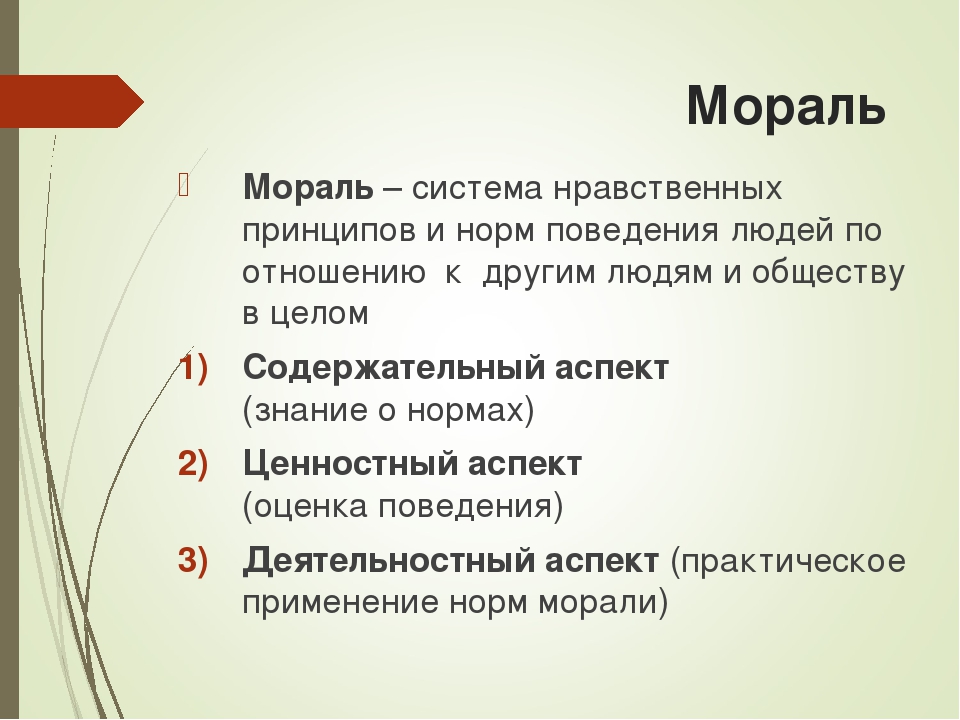 moralis — нравственный) — нравственность, особая
форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные
отношения). Один из основных способов регуляции действий человека
в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции
нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра
и зла, должного, справедливости… В отличие от права исполнение
требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия
(общественной оценки, одобрения или осуждения). Наряду
с общечеловеческими элементами мораль включает исторически преходящие
нормы, принципы, идеалы. Мораль изучается специальной философской
дисциплиной — этика. moralis — нравственный) — нравственность, особая
форма общественного сознания и вид общественных отношений (моральные
отношения). Один из основных способов регуляции действий человека
в обществе с помощью норм. В отличие от простого обычая или традиции
нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра
и зла, должного, справедливости… В отличие от права исполнение
требований морали санкционируется лишь формами духовного воздействия
(общественной оценки, одобрения или осуждения). Наряду
с общечеловеческими элементами мораль включает исторически преходящие
нормы, принципы, идеалы. Мораль изучается специальной философской
дисциплиной — этика.
а) регулятора общественных отношений б) регулятора отношений между людьми в) оценивание поведения людей, их поступков, или образа мысли
Морализаторство — понятие, обозначающее такие моральные высказывания или рассуждения, в которых оценка (осуждение) и инвектива оказываются привязанными (по заблуждению или лицемерию) к абстрактным критериям и доминируют над пониманием реального положения дел. 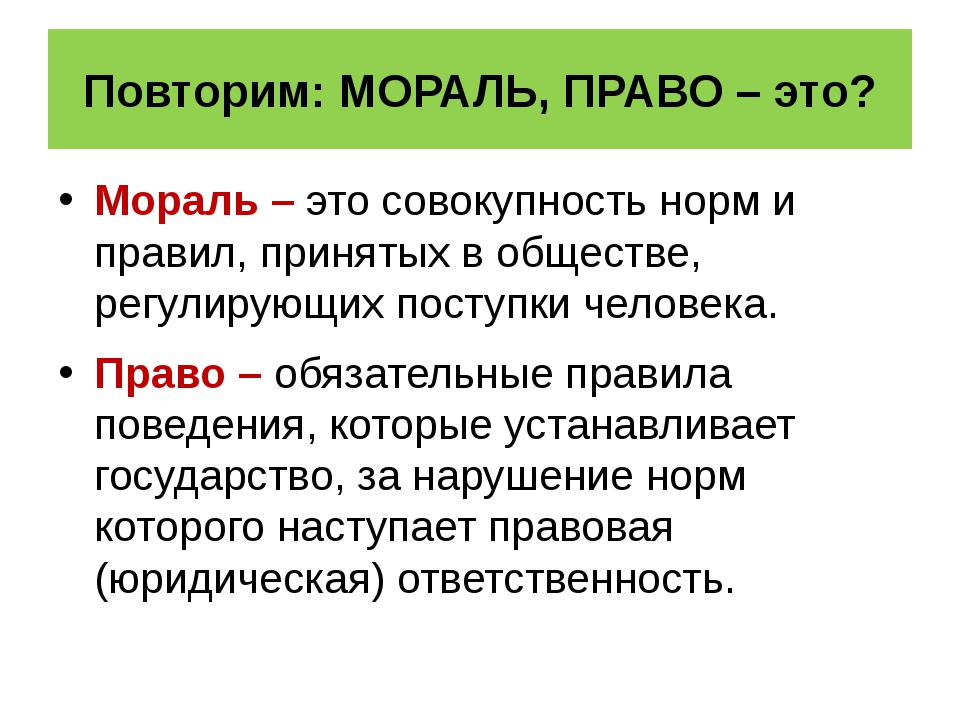 Есть еще род морализаторства,
при котором оно трактуется не в связи с нарушением внешних ограничений
прав моральной оценки, а как прямое следствие пренебрежения теми
границами, которые сама мораль ставит моральному поучению. В этом
варианте морализаторство есть результат отождествления объективации
морали или реально существующих объектов с самой моралью, с абсолютным и
трансцендентным идеалом. В
результате этой операции моральный идеал облекается в форму
конкретизированного образа, соответствие или несоответствие которому
становится принципом для создания особой нормативной сферы. При этом
этическая нормативность насыщается дополнительным, паразитарным по
отношению к морали содержанием, что позволяет придавать характер
морального выбора ситуациям, где имеет место незначимое с точки зрения
морали избегание или предпочтение. Морализатор имитирует трансляцию
принудительной и самоочевидной моральной истины, в результате чего его
контрагент перестает расцениваться как автономный индивид и лишается
права на свободный выбор. Есть еще род морализаторства,
при котором оно трактуется не в связи с нарушением внешних ограничений
прав моральной оценки, а как прямое следствие пренебрежения теми
границами, которые сама мораль ставит моральному поучению. В этом
варианте морализаторство есть результат отождествления объективации
морали или реально существующих объектов с самой моралью, с абсолютным и
трансцендентным идеалом. В
результате этой операции моральный идеал облекается в форму
конкретизированного образа, соответствие или несоответствие которому
становится принципом для создания особой нормативной сферы. При этом
этическая нормативность насыщается дополнительным, паразитарным по
отношению к морали содержанием, что позволяет придавать характер
морального выбора ситуациям, где имеет место незначимое с точки зрения
морали избегание или предпочтение. Морализатор имитирует трансляцию
принудительной и самоочевидной моральной истины, в результате чего его
контрагент перестает расцениваться как автономный индивид и лишается
права на свободный выбор.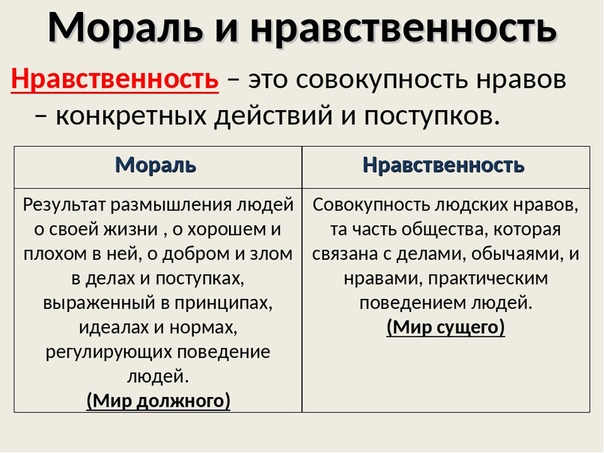 Неприятие такого отношения воспринимается
морализатором как бунт против морали, как выражение безнравственности.
Фактически морализатор претендует на исключительные прерогативы
морального судьи, а под его моральной беспристрастностью маскируется
потребность в доминировании. (Прокофьев. Новая философская энциклопедия / под редакцией В. С. Стёпина. — В 4 тт. — М.: Мысль, 2001.) Неприятие такого отношения воспринимается
морализатором как бунт против морали, как выражение безнравственности.
Фактически морализатор претендует на исключительные прерогативы
морального судьи, а под его моральной беспристрастностью маскируется
потребность в доминировании. (Прокофьев. Новая философская энциклопедия / под редакцией В. С. Стёпина. — В 4 тт. — М.: Мысль, 2001.)Мораль и правоМораль и право тесно переплетены. С одной стороны, формализованная мораль может становиться правом. Десять заповедей — это одновременно моральный и правовой закон многих культур. Нравственная оправданность норм права для создания правового государства настолько же важна как и их единство. В праве отражено понятие «Морального вреда», однако мораль остается сферой высших идей, делом совести, которая служит критерием для исторических правовых реформ. Кроме того, практика тоталитарных режимов показала, что иногда мораль может вступать в противоречие с правом. И моральные, и правовые нормы являются социальными.
Мораль и религииРелигии в сложившихся исторически конфессиональных формах оказали
значительное и всеобъемлющее влияние на моральные принципы народов, их
исповедавших. Религиозная мораль, будучи кодифицирована в священных
текстах, распространяется вместе с религиями. Следует заметить, что
монотеистические религии чётче и жёстче определяют границы добра и зла
по сравнению с религиями, где практикуется многобожие. Однако существуют
целые культуры и цивилизации, в которых формирование морали и
нравственности происходило в условиях язычества (древние греки
сформулировали золотое правило нравственности и разработали само понятие
этики), или которые могут выглядеть безрелигиозными (конфуцианство
китайской цивилизации). Десять заповедей Христовых:
К смертным грехам относятся:
В Мусульманской вере есть свой аналог православных заповедей. Ниже приводится перечень некоторых норм нравственности, которые мусульманину надлежит блюсти:
Каждое из перечисленных выше достоинств описано в Коране и Сунне либо
прямо, либо посредством примеров, притч и изречений пророков. С развитием моральных ценностей в мире и распространении идеи о существовании общечеловеческой морали, сама религия и её священные тексты стали подвергаться иногда неутешительным оценкам со стороны этих, несколько отличных, моральных систем. Например жестокость и несправедливость по отношению к иноверцам и атеистам, практикующаяся в некоторых религиях, часто считается аморальной. Со стороны многих атеистов религия часто представляется как учение, которое несет в себе аморальность. При этом часто в критике используется тот факт, что некоторые люди используют религию как инструмент для достижения собственных целей. Подобное мнение иногда выражают словами Зигмунда Фрейда, говоря, что безнравственность во все времена находила в религии не меньшую опору, чем нравственность. В аморальности обвинялся и Бог Ветхого Завета:
И боги политеистических религий:
Согласно одному из исследований на основе репрезентативного опроса по вопросам морали, отход от религиозности не приводит к росту аморальности. «Полученная статистика свидетельствует: атеисты не более аморальны, чем верующие. Религия накладывает отпечаток на часть ответов, однако это относится скорее к особенностям догм различных верований. В собственно моральных и этических вопросах каждый человек руководствуется своими собственными соображениями, полученными при воспитании от родителей или врожденными, причем нельзя сказать, что атеисты воспитаны хуже, чем религиозные люди». youtube.com/embed/t5F8WFuWpcg?rel=0&wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true»> Мораль и конфликт цивилизацийМоральные суждения можно обосновать в рамках некоторой нормативной
системы, в случае же, когда сталкиваются противоречащие моральные
суждения из разных нормативных систем, нет оснований для выбора между
ними.
Таким образом, некорректно называть какую-то систему моральных
ценностей хорошей или плохой без упоминания того, что оценивается она с
позиций другой моральной системы. При таком понимании морали общечеловеческие ценности теоретически невозможны из-за разнообразия моральных норм. Практически же в мире идет постоянная борьба различных цивилизаций, одной из причин которой, по мнению наблюдателей,
является именно несовпадение моральных ценностей. Согласно другой точке
зрения, общечеловеческие ценности, в которых терпимость находится на
центральном месте, должны стать частью любой моральной системы именно с
целью избежать подобных конфликтов и сопутствующего насилия. В этой связи интересны слова Карла Маркса:
Известна т. н. «готтентотская мораль». При встрече христианского миссионера с одним из представителей этого племени якобы произошёл диалог типа: -Что такое плохо? Источники: http://truesite.ru/ http://ru.wikipedia.org/ http://samlib.ru http://www.youtube.com/ |
Лекция 15. Мораль
Мораль — форма общественного сознания, включающая ценности, правила, требования, регулирующие поведение людей. Другими словами, это принятые в обществе представления людей о должном и неправильном поведении, о добре и зле. Религия как один из компонентов включает принципы морали. Моральные установки также характерны и для этических учений. Мораль сегодня регулирует отношения людей в любом обществе.
Другими словами, это принятые в обществе представления людей о должном и неправильном поведении, о добре и зле. Религия как один из компонентов включает принципы морали. Моральные установки также характерны и для этических учений. Мораль сегодня регулирует отношения людей в любом обществе.
Ученые предполагают, что первичной формой морали стали табу. Табу — это жёсткие запреты на определённые действия. Например, уже в древних обществах были введены табу на половые отношения с родственниками и на совершение надругательских действий над умершими. Табу облекались мистикой, страхом наказания за нарушение.
С развитием общества возникали обычаи — исторически сложившиеся, многократно повторяемые формы действий, которые в глазах членов общества приобрели обязательное значение. Обычай — привычка, принятое, усвоенное дело, обиходное. Обычаи могут меняться. Они охватывают широкие сферы социальных отношений — личные, семейные, профессиональные, образовательные и т.п. Например, обычай вставать, приветствуя преподавателя, входящего в аудиторию — многократно повторяемое действие в большинстве школ и вузов.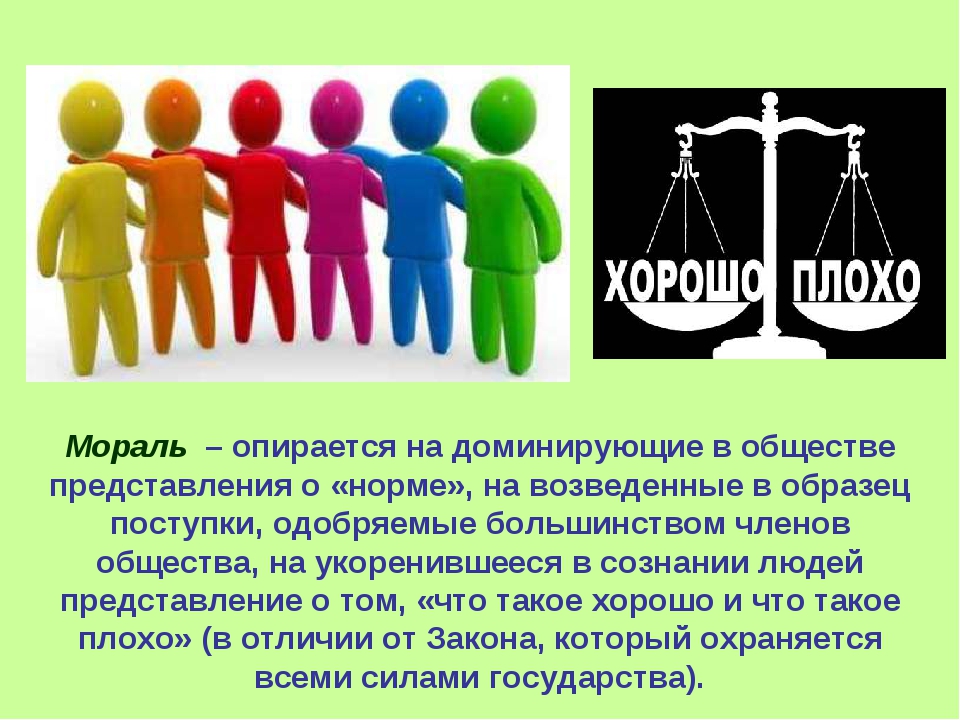
Глубоко укоренившиеся в общественном сознании, передаваемые неизменными из поколения в поколение обычаи, правила поведения, становятся традициями. Обычаи чаще всего выполняются только потому, что «так принято». Традиции же облекаются эмоциональной окраской — стремлениями и усилиями людей сохранить и воспроизвести традиции. Например, некоторые семьи из поколения в поколение передают традиции и свято хранят их.
Функций морали много, и вряд ли когда получится составить их полный перечень. Выделим основные:— регулятивная – мораль регулирует поведение человека во всех сферах общественной жизни;
— мотивационная – мораль мотивирует человека, стимулирует его делание что-то сделать или не сделать. Например, молодой человек уступил в общественном транспорте место бабушке. Мотивом этого поступка стали его моральные принципы;
— ценностно-ориентационная – мораль является жизненным ориентиром для человека, показывает ему, что является хорошим, а что плохим;
— конститутивная – мораль устанавливает высшие, главенствующие над всеми другими регуляторами формы поведения людей.
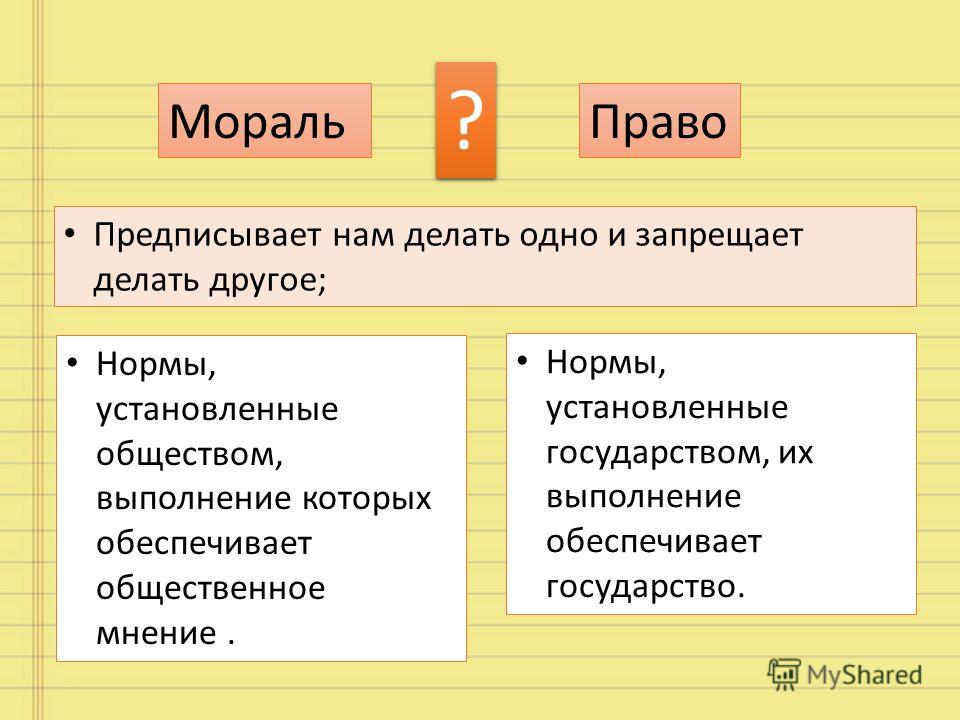 Например, моралью установлено правило «не укради». Оно стало высшим регулятором в большинстве обществ;
Например, моралью установлено правило «не укради». Оно стало высшим регулятором в большинстве обществ;— координационная — мораль координирует действия людей, обеспечивает согласованность их поведения;
— воспитательная — мораль влияет на воспитание человека.
Многие учёные смешивают понятие морали и нравственности. Тем не менее, можно проследить тонкости различий в их понимании. Мораль — это сфера общественного сознания, даже сфера культуры, обобщающая правила поведения людей. А нравственность — конкретные принципы реального поведения человека.
Мораль тесно взаимосвязана с правом. Общими признаками норм морали и права является то, что они универсальны, распространяют своё действие на всех людей, имеют общий объект регулирования — общественные отношения, опираются на понятия справедливости, выступают мерой свободы в социуме. Мораль и право имеют сходную структуру — включают правила поведения и санкции за их неисполнение. Только санкции эти разные.
Однако, можно выделить и различия норм морали и права:
— мораль сформировалась за счёт длительности развития общества и стала формой общественного сознания, право же санкционировано (принято) государством;
— нормы морали исполняются в силу привычки, в результате убеждения, воспитания, нормы права же обязательны для исполнения и поддерживаются силой государства;
— за неисполнение норм морали следуют угрызения совести, общественное порицание, другие неформальные санкции, нарушение норм права влечёт юридическую ответственность, накладываемую государством;
— нормы морали регулируют более широкую область общественных отношений, в отличие от правовых норм, регулирующих только отношения, подконтрольные государству.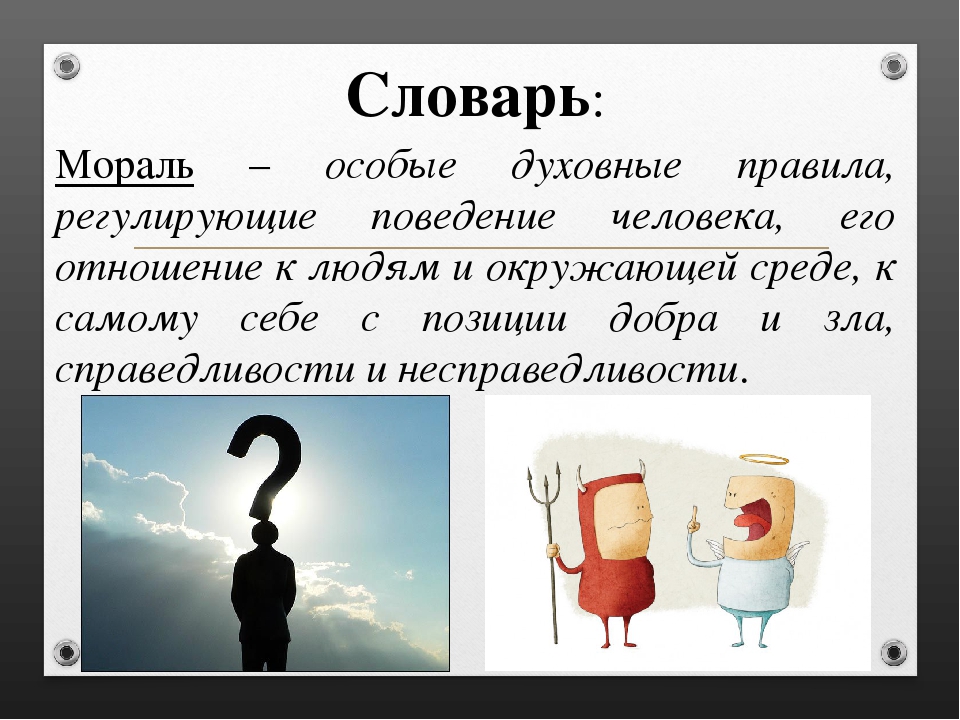 Например, отношения дружбы и любви прямо не подконтрольны праву, мораль же их регулирует;
Например, отношения дружбы и любви прямо не подконтрольны праву, мораль же их регулирует;
— моральные нормы нигде официально не оформлены, правовые нормы же чаще всего представлены в нормативных актах, изданных официально.
Моральные принципы, — правила поведения, — являются составной часть нравственной культуры личности. Нравственная культура личности — степень усвоения и поддержки личностью морального и нравственного сознания, культуры общества. Это важнейший элемент воспитания.
Современная нравственная культура основывается на множестве моральных принципов. Среди них можно выделить «золотое правило нравственности», высказанное ещё Иммануилом Кантом: «Поступай по отношению к другим людям так, как ты хочешь, чтобы они поступали по отношению к тебе». Важнейшим моральным принципом является также гуманизм — человеколюбие, признание личности каждого, учёт её потребностей и интересов, запрет насилия и агрессии. Другой нравственный принцип — моральная автономия личности. Он означает возможность человека выбирать способы своих действий и нести за них ответственность. Ответственность личности возможна тогда, когда она вправе сама определять линию своего поведения. Немаловажным нравственным принципом также является гуманизм — человеколюбие, признание права каждого человека на счастье. Гуманизм требует отказа от любых форм насилия над человеком.
Он означает возможность человека выбирать способы своих действий и нести за них ответственность. Ответственность личности возможна тогда, когда она вправе сама определять линию своего поведения. Немаловажным нравственным принципом также является гуманизм — человеколюбие, признание права каждого человека на счастье. Гуманизм требует отказа от любых форм насилия над человеком.
Видеолекция по теме:
Вы можете поделиться материалом лекции в социальных сетях:
Конспект урока обществознания в 6-м классе «Мораль в жизни человека»
Цель урока: определение роли моральных норм в жизни как решающих регуляторов общественной жизни.
Задачи:
- образовательные: объяснить понятия «мораль», «добро», «зло», «золотое правило нравственности»;
- обучающие: совершенствование УУД:
- коммуникативных: умения полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, владения монологической и диалогической формами речи.

- познавательных: умения находить и выделить необходимую информацию, умения выдвигать и обосновывать гипотезу; умения структурировать информацию – ИКТ технологии.
- личностных: умения дать нравственно-этическую оценку, формирование личностного самоопределения.
- регулятивных: умения ставить учебную задачу, умения оценить качество и уровень усвоения материала.
- коммуникативных: умения полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, владения монологической и диалогической формами речи.
- воспитательные: выявлять причины и последствия совершения аморальных поступков; определять и объяснять свое отношение к поступкам людей; задуматься над своими нравственными ценностями.
- развивающие: анализировать, сравнивать, участвовать в эвристической беседе, дискуссии; работать с текстом учебника; выделять главное, актуализировать ранее изученное; составлять таблицы; выработать навыки работы в группе.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Формы работы учащихся: Работа с учебником, работа с раздаточным материалом, беседа, работа в парах, индивидуальная работа, заполнение схем.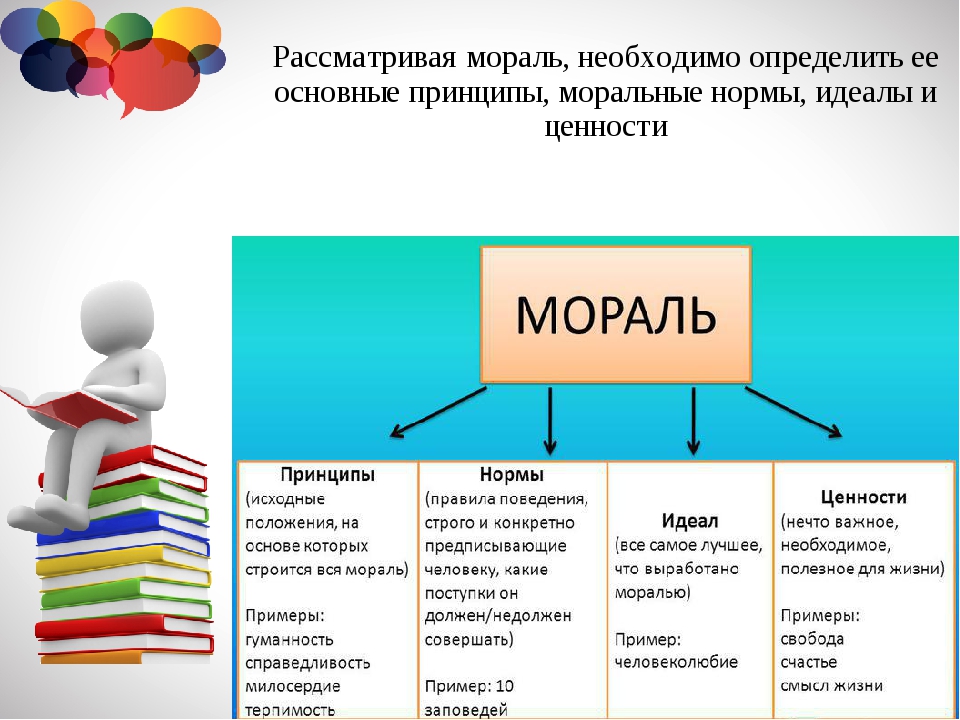
Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.
Ход урока
I. Организационный момент.
Мы начинаем наш урок. Давайте улыбнемся друг другу и пожелаем друг другу успехов, творчества и сообразительности на уроке.
Презентация.
2. Подготовка к изучению нового материала.
— Хочется начать наш урок с притчи “Яма”. Послушайте её внимательно. Притча “Яма”.
«Однажды пастух обидел одного человека, а тот затаил на него злобу и решил отомстить ему. Он знал, что обидчик пасёт животных в отдалённом месте, где почти никто не ходит, и решил воспользоваться этим: выкопать глубокую яму, чтобы пастух упал в неё. Поздней ночью человек начал копать. Когда он копал, то представлял себе, как его обидчик попадёт в яму и, может быть, что – нибудь себе сломает или умрёт в ней, не имея возможности вылезти оттуда. Или, по крайней мере, в яму упадёт его корова, овца или, на худой конец, коза. Долго и упорно он копал, мечтая о мести, не замечая, как яма становилась всё глубже. Но вот забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что ….. ».
Долго и упорно он копал, мечтая о мести, не замечая, как яма становилась всё глубже. Но вот забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что ….. ».
— Чем закончилась притча?
… за это время выкопал такую глубокую яму, что сам не сможет вылезти из неё.
— В чём смысл этой притчи?
Дети. Не желай зла другому.
— Какое отношение она имеет к сегодняшнему уроку?
3. Изучение нового материала.
— Мы живем в обществе, в котором существуют определенные ценности. Практически ежедневно мы стоим перед выбором — протянуть руку помощи своему другу или сделать вид, что это тебя не касается, пройти мимо бездомной собаки или накормить ее, навредить человеку, или простить его. Чтобы понять, какой выбор нужно сделать, мы опираемся на два регулятора: мораль и право. Они указывают как нам себя вести.
— Сегодня на уроке мы познакомимся с таким регулятором, как мораль, а о праве мы будем говорить в 8 классе.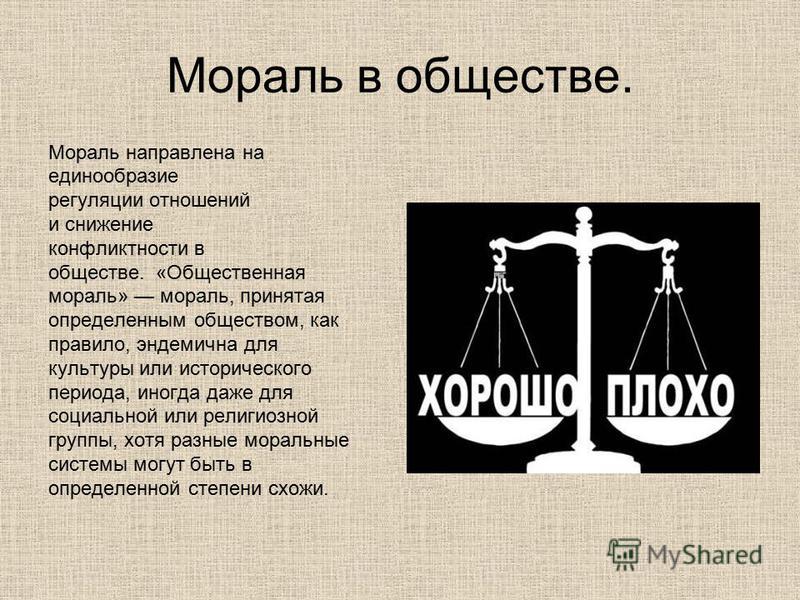
— Откройте тетради, запишите тему урока «Мораль в жизни человека».
— План нашего урока вы видите на доске.
1. Что такое мораль?
2. «Золотое правило морали».
3. Нравственные (моральные) ценности.
— Давайте исходя из плана, сформулируем цель нашего урока. (Узнаем что такое мораль, для чего она существует, каковы ее признаки, что представляет собой «золотое правило морали»)
Как вы думаете, на какой вопрос мы должны ответить во время урока?
Какую роль выполняет мораль в жизни человека и общества.
— Итак, с чего начнем? (С определения мораль)
— Ребята, какие ассоциации у вас возникают при слове “мораль”? Пусть каждый подумает о собственном понимании морали и попробует найти ключевые термины, характеризующие это чувство (хорошее, доброе, правильное).
(Высказывают свои ассоциации: хорошее, доброе)
— Давайте посмотрим, какое определение дается в учебнике на странице 122.
Мораль – это особые духовные правила, регулирующие поведение человека, его отношение к другим людям, к окружающей среде и к самому себе с позиции добра и зла, справедливости и несправедливости.
Работа с текстом учебника
А сейчас я предлагаю вам изучить пункт «Что такое мораль» на с. 122-123 и ответить на вопросы.
— Что включает в себя мораль? (Идеалы, традиции, нормы, принципы, критерии добра, чести, совести, справедливости)
— Какова основная функция морали? ( регулирует поведение человека, чтобы оно соответствовало требованиям общества)
— Какие существуют механизмы самоконтроля личности? (совесть, чувство долга)
— Приведите примеры поступков, на которые человека подвигает чувство долга и совесть. (защита Родины во время войны, помощь пострадавшим людям в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий и т.д.)
— Попробуйте привести примеры моральных норм (уступить место в общественном транспорте пожилому или женщине, здороваться с незнакомым человеком, вставать при взрослых, обращаться к старшим по имени отчеству и т.д.).
— А кто устанавливает нормы морали? (общество)
— А где записаны эти правила? (они неписанные)
— Мудрецы придумали правило, благодаря которому люди стараются поступать правильно (морально).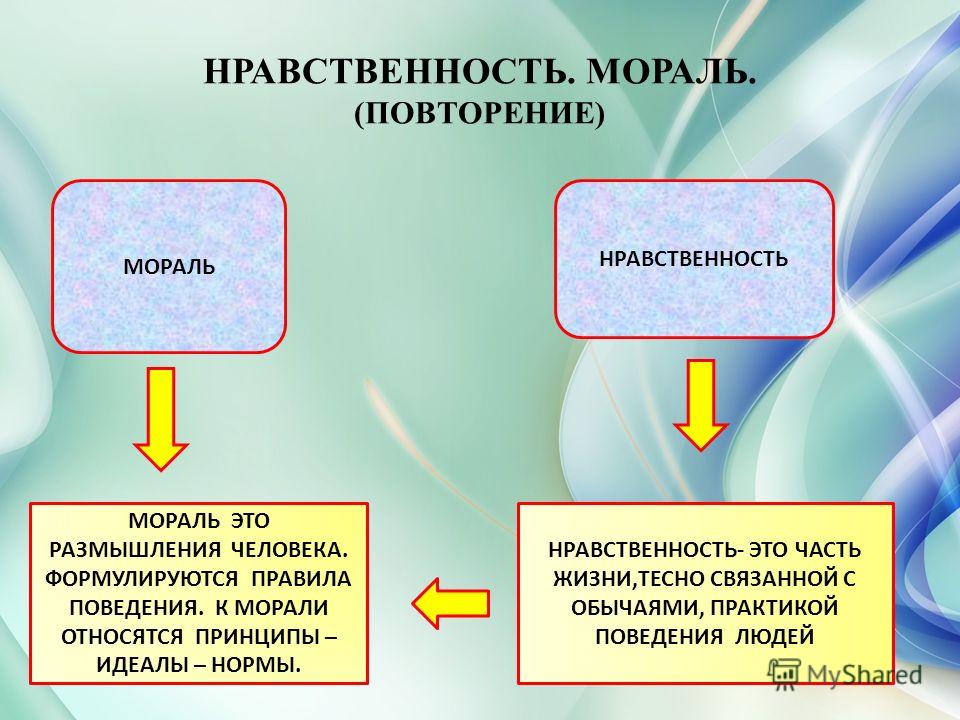 Это правило называется «золотым правилом морали».
Это правило называется «золотым правилом морали».
Кто из вас знаком с этим правилом?
Чтобы с ним познакомиться прочитайте текст на с. 124 учебника и выполните задание в парах.
Задание: Запишите, как звучит «золотое правило морали» в разных источниках.
- Древнеассирийское поучение (VII в. до н.э)
- Конфуций:
- Будда:
- Ветхий Завет:
- Христос:
- Мухаммад:
Поступай по отношению к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
— Почему его называют золотым?
В древности существовало поверье, что на одном плече человека сидит ангел, а на другом – дьявол, и каждый нашептывает свое. Кого послушает человек, так себя и поведет.
Но у человека всегда есть выбор: он ведь может услышать, что шепчет ангел и послушаться его. Но для этого ему необходимо вырабатывать мнение поступать в соответствии с нормами морали, а это нелегко.
Добру противостоит зло.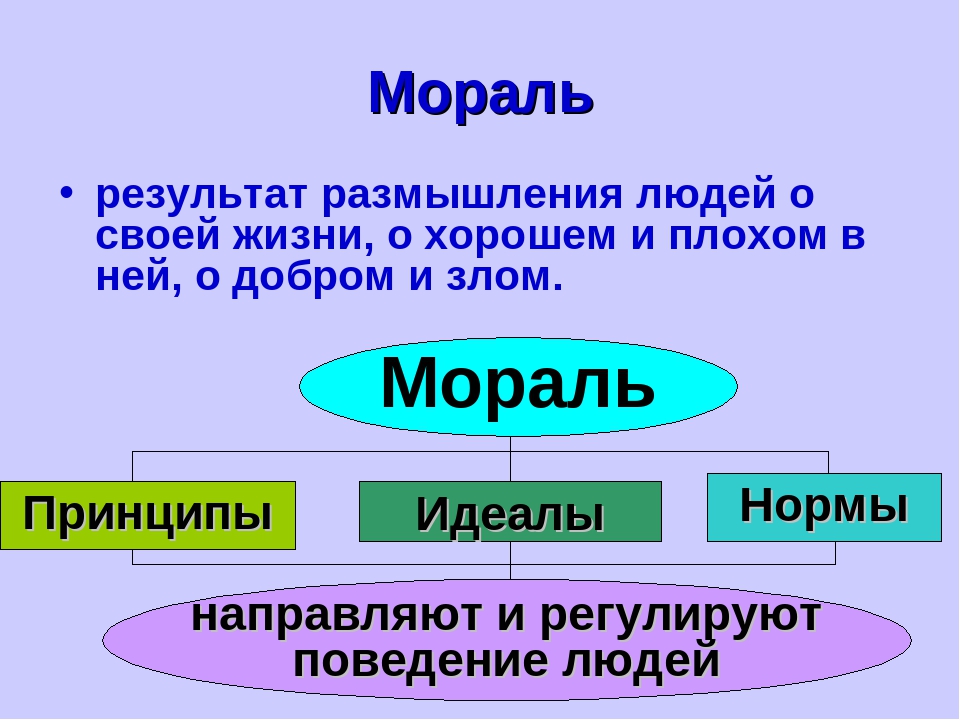
Между этими категориями с самого основания мира идёт борьба. К сожалению, в этой борьбе подчас сильнее оказывается зло, потому, что оно активнее и меньше требует усилий. Зло всегда связано с жестокостью, насилием. Насилие в современном обществе, к сожалению, не редкость, но его можно и нужно избегать. Насилию всегда противостоит ненасилие. История знает немало людей, для которых принцип ненасилия становился нормой. Таким человеком являлся индийский общественный деятель Махатма Ганди. Отстаивая независимость своей страны, он оставался сторонником этого принципа. И благодаря его усилиям Индия в 1947 г. мирным путем получила независимость.
С ненасилием связано еще одно понятие – это милосердие. Как вы его понимаете?
Милосердие — сердечность, сострадание к нуждающимся.
Послушайте сообщение о Дарье Севастопольской и ответьте на вопрос – Можно ли назвать Дарья Севастопольскую милосердным человеком? Почему?
Сообщение уч-ся
Милосердие движет и людьми, которые занимаются благотворительностью.
Благотворительность – добровольная деятельность людей, которые оказывают бескорыстную и безвозмездную помощь нуждающимся.
Сообщение учащегося о благотворительном фонде.
Значение морали в жизни общества.
Ребята, но если у нас есть законы, которые строго поддерживают порядок в стране и наказывают за несоблюдение правовых норм, то зачем нам нужна мораль? Может быть, мы сможем обойтись и без неё? (Ответы детей)
Мораль играет большую роль в жизни общества. Она воспитывает в человеке качества, которые помогают ему совершать хорошие поступки, а не плохие.
А теперь давайте с вами составим синквейн со словом «мораль».
Синквейн
Мораль
Регулирует, воспитывает
Чистая, справедливая, правдивая
Регулирует поведение человека в обществе
Добро
4. Домашнее задание
§ 18, термины
Б.У. – вопросы 1-3
П.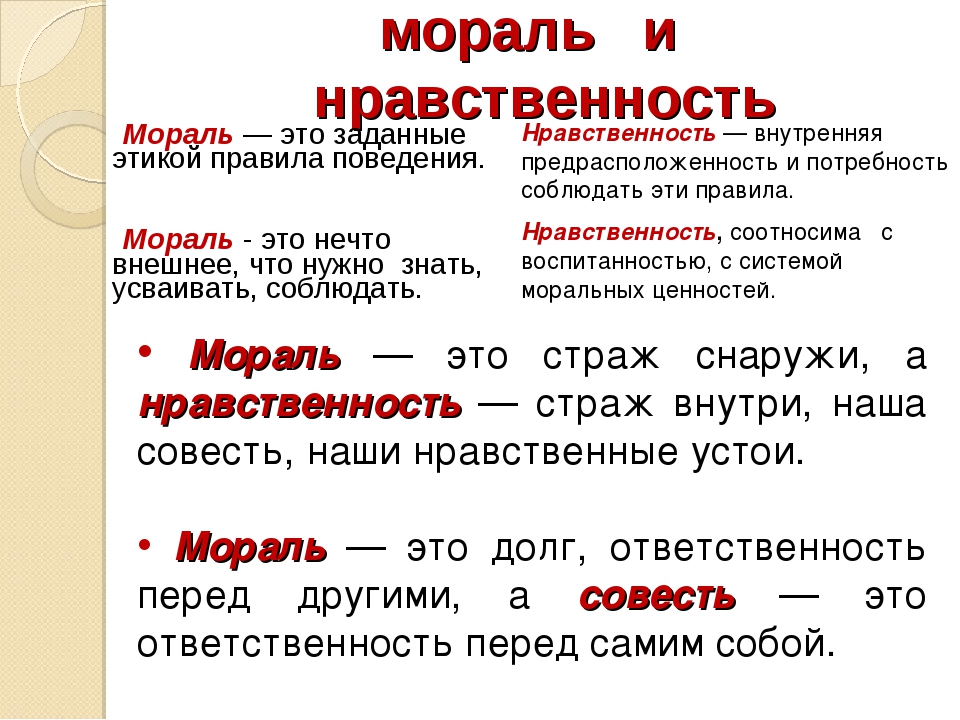 У. – вопросы 7 или 9
У. – вопросы 7 или 9
В.У. – Придумать макет медали «За милосердие»
Оценивание
5. Рефлексия
Учитель подводит итоги:
— Что вы почувствовали на уроке?
— Задумывались ли вы о проблеме добра и зла раньше всерьёз?
— Полезен ли был урок?
— Надо ли говорить о добре и зле?
— Достаточно ли знать просто моральные нормы?
Просто знать недостаточно, самое главное – выполнять эти нормы, совершать добрые поступки. Проблема добра и зла – это вечная проблема, и, чтобы мир стал добрее, мы должны соблюдать моральные нормы.
Понятие этикиЭтика — это область социально-философских исследований, в рамках которой изучается мораль (см. Мораль), выражающая особую сферу надбиологической регуляции отношений между людьми и связанные с ней высшие ценности и идеалы долженствования.
Наряду с этим, этика иногда рассматривается как теория добродетелей, видящая свою цель в обосновании модели достойной жизни человека, выражающей идеалы человечности. В настоящее время сложившаяся в общественных науках традиция понимает под этикой по преимуществу область знания, а под моралью (или нравственностью) её предмет. В общественном опыте и обыденном языке такое разграничение, однако, пока не закрепилось. Предмет и проблематика этикиРазмышления о предмете этики в истории европейской философии традиционно концентрировались вокруг ряда сквозных проблем, таких, как соотношения счастья и добродетели, индивидуальной и социальной этики, намерений и действий, разума и чувств в моральной мотивации, свободы и необходимости человеческого поведения и тому подобных. По родовой принадлежности этика относится к философии (см. Философия), составляя её нормативно-практическую часть. При этом она существенным образом связана с метафизикой, и в этом, прежде всего, выражается её философский характер. Мораль претендует на абсолютность, на то, чтобы быть последней ценностной опорой человеческого существования, поэтому учение о морали всегда взаимоувязано с учением о бытии; по характеру трактовки оснований морали все философские моральные системы можно подразделять на гетерономные и автономные. Существенное своеобразие этики состоит в том, что она, будучи наукой о морали, является в то же время в известном смысле частью последней.
Вопрос о предмете этики не имеет однозначного, бесспорного решения: как философская наука этика в определённой мере сама создаёт свой предмет — отсюда многообразие и индивидуализированность этических систем. Развитие этикиПредставления об этике формируются в процессе осмысления правильного поведения человека в обществе (см. Общество), прежде всего в восточной духовной культуре первой половины I тысячелетия до новой эры и в западной [античной] философии, начиная с IV века до новой эры. Комплекс этических воззрений Древнего Востока, сохраняющий свои основные аксиомы и в современной концептуальной модели нравственности, отличается космологизмом, интенцией на гармонию человека и мира, метафоричностью и мифопоэтичностью, поисками путей нравственного совершенствования. В западной философии способы этической концептуализации нравственного опыта были предложены Сократом и систематизированы Аристотелем. Термин «этика» впервые встречается в названии всех трёх его сочинений, посвящённых проблемам нравственности («Никомахова этика», «Евдемова этика», «Большая этика»), и несёт в них основную содержательную нагрузку. В последующем также остаётся одним из типичных названий философских произведений и становится общепринятым обозначением учебной дисциплины. Аристотель говорил об этике в трёх смыслах: как об этической теории, этических книгах, этической практике (см. Аристотель. «Вторая Аналитика», книга 1, 33, 89в. Непосредственное выделение этики как особого аспекта философии в европейском культурном регионе связано с открытием софистов, согласно которому установления культуры существенно отличаются от законов природы. Софисты обнаружили, что законы, обычаи, нравы людей изменчивы и разнообразны. В отличие от необходимости природы, которая везде одна и та же, они являются случайными и произвольными. Встала проблема сопоставления различных законов, нравов, выбора между ними, такого их обоснования, которое стало бы вместе с тем и их оправданием. Необходимо было показать, что общественные нравы не только по традиции считаются, но и по существу могут быть прекрасными и справедливыми. Сократ поставил знак равенства между совершенством человека, его добродетелью, и знанием. Платон пошёл дальше: для того, чтобы придать новую легитимность нравам и институтам полиса, необходимо познать идею блага и руководствоваться этим знанием, доверив управление обществом философам-мудрецам. По мнению Аристотеля, отождествление добродетели с науками было ошибкой. Зенон из Кития и Эпикур разделяли философию на логику, физику и этику, следуя в этом традиции, восходящей к Академии Платона. Некоторые из древних сводили философию к двум или к одной части (так, стоик Аристон отождествлял её с одной этикой). Однако своеобразию философского знания соответствует трёхчастное деление, которое в известном смысле вслед за И. Кантом можно считать исчерпывающим. Превалирующей в послеаристотелевской философии стала точка зрения, согласно которой в этой взаимосвязанной триаде решающей была физика. Упорядоченный, разумно организованный космос рассматривался в качестве плодоносящей почвы этики. Основные усилия средневековых христианских философов (после начального периода конфронтации с греческой философией, которая была объявлена виновницей гибельного падения нравов) оказались направлены на то, чтобы обосновать возможность интеграции этики языческой древности в структуру христианских ценностей. Преимущественной точкой опоры в решении данной задачи первоначально становится традиция Платона. Августин высоко оценивает произведённое Платоном разделение философии на физику, логику и этику, полагая, что тот лишь открыл (а не создал) объективно заданный порядок вещей. В этом контексте патристика не рассматривала этику в послеаристотелевском индивидуалистическом варианте, отдавая предпочтение её аристотелевской социально-полисной версии. Как самостоятельная учебная дисциплина в рамках средневекового свода знаний этика вычленяется в аристотелевской версии; после перевода в XIII веке на латинский язык «Никомаховой этики» последняя становится основным университетским учебником. Этика становится обозначением как всей практической философии, так и её первой составной части (наряду с экономикой и политикой). Разрабатывается систематика добродетелей, где десять аристотелевских добродетелей берутся в сочетании с четырьмя основными добродетелями Сократа — Платона в иерархии, завершающейся христианскими добродетелями веры, надежды, любви. Этическую систематику позднего Средневековья разработал Фома Аквинский («Комментарии к Никомаховой этике»). Этика Нового времени отказывается от идеи трансцендентных моральных сущностей и апеллирует к человеческой эмпирии, стремясь понять, каким образом мораль, будучи свойством отдельного индивида, является в то же время общеобязательной, социально организующей силой. Ф. Бэкон подразделяет этику на два учения — об идеале (или образе блага) и об управлении и воспитании души. Вторая часть, которую он называет «Георгиками души», является самой великой, хотя философы уделяли ей меньше всего внимания. Этика — часть философии человека, изучающая человеческую волю; она имеет дело только с осуществимыми целями, а признак такой осуществимости, по Бэкону, — способность создания практически действенной технологии воспитания. Декарт уподоблял философию дереву, корни которого — метафизика, ствол — физика, а ветви — практические науки (медицина, механика и этика, которая является «высочайшей и совершеннейшей наукой»). Согласно Т. Гоббсу, этика должна следовать за геометрией и физикой и основываться на них (Гоббс Т. «О теле», гл. II, VI). Эти методологические установки у Гоббса сочетаются с содержательными выводами, которые из них не вытекают, хотя сами по себе они очень важны и открывают принципиально новую исследовательскую перспективу этики. Гоббс оспаривает представление о человеке как общественном (политическом) животном, из которого явно или неявно исходила предшествующая этика. Человек изначально эгоистичен, нацелен на собственную выгоду. Естественным состоянием людей является война всех против всех, причём «понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь место» (Гоббс Т. Б. Спиноза стремится идти в этике «геометрическим путём» и исследовать человеческие действия «точно так же, как если бы вопрос шёл о линиях, поверхностях и телах» (Спиноза Б. «Этика», ч. III, предисловие. — Избранные произведения в 2-х тт., т. 1. — М., 1957, с. 455). Он создаёт этику личности, совпадающей в своём могуществе с самим миром. Предмет и задача этики — свобода человека, понимаемая как освобождение из-под власти аффектов, пассивно-страдательных состояний, и способность быть причиной самого себя. Достигается она через познание, составляющее сущность и могущество человеческой души. Спиноза порывает с традицией, которая непосредственно связывала этику с общественным бытием человека, установлениями культуры: человека в природе нельзя изображать как государство в государстве. Посредствующим звеном между индивидом и добродетелью является не политика, а познание (без познания нет разумной жизни). Односторонности надындивидуальной этики общественного договора и этики личности отражают свойственное буржуазной эпохе, трагически переживаемое ей противоречие между социально-всеобщими и индивидуально-личностными измерениями бытия человека. Поиски синтеза между ними — характерная черта этики XVIII века. Одним из опытов такого синтеза стал английский этический сентиментализм. По мнению Ф. Хатчесона, добродетель заложена в человека природой и Богом. Её основа — моральное чувство как внутреннее сознание и склонность ко всеобщему благу; оно действует непосредственно, без оглядки на личный эгоистический интерес; сопровождая наши поступки, оно направляет их к достойному и прекрасному. Наиболее значительным опытом синтеза различных этических учений Нового времени стала этика И. Канта, который впервые установил, что в рамках морали человек «подчинён только своему собственному и, тем не менее, всеобщему законодательству» (Кант И. «Основоположение к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. — М., 1965, с. 274). Основным законом нравственности, по Канту, является категорический императив, всеобщий обязательный принцип жизни человека: «… поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». В этом смысле моральность зиждется на долженствовании, свободе и добровольности поступка, альтруизме; легальность же определена гипотетическим императивом и действиями по чувственной склонности и эгоизму. Кант исследует антиномию должного и сущего, несовпадение идеала и действительности, постулирует свободу воли, бытие Бога и бессмертие души как последнее чаяние на осуществление нравственного закона в потустороннем мире. Г. В. Ф. Гегель пытается снять дуализм (свободы и необходимости, добродетели и счастья, долга и склонностей, категорического и гипотетического императивов и так далее), пронизывающий этику Канта. Стремясь обосновать мораль не только как субъективный принцип долженствования, но и как объективное состояние, он исходит из того, что индивид обособляется в качестве личности, утверждает свою субъективность только в обществе, государстве. Всеобщая воля — в себе и для себя разумное в воле, она воплощается в государстве, которое есть объективный дух, «шествие Бога в мире; его основанием служит власть разума, осуществляющего себя как волю» (Гегель Г. В. Ф. «Философия права», § 258. — М., 1990, с. 284). Современное основанное на праве государство характеризуется тем, что в нём принцип субъективности достигает завершения. Оно «есть действительность конкретной свободы», «всеобщее связано в нём с полной свободой особенности и с благоденствием индивидов» (Философия права, § 260, с. После Гегеля наметился поворот в этике, который можно назвать антинормативистским; он был направлен на критику морализирующего отношения к действительности и заявил себя в двух основных вариантах — в марксизме и в философии Ф. Ницше. Пафос философии К. Маркса и Ф. Энгельса состоял в том, чтобы придать человеческой активности предметный, миропреобразующий характер. Кант, писали они, остановился на одной доброй воле, перенеся её осуществление в потусторонний мир. Задача же состояла в том, чтобы осуществить её в этом мире, трансформировать вневременный идеал в программу исторического действия. Исходя из понимания бытия как практики, Маркс и Энгельс обосновывали перспективу морально преобразованного бытия, перспективу коммунизма, описываемого ими как практический гуманизм. Такое понимание предполагало критику морального сознания с его претензиями на самоцельность. Мораль в её исторически сложившемся виде интерпретировалась как особая, к тому же превращённая форма общественного сознания. Другая линия конкретной, не метафизической, антиспекулятивной этики намечена в философии А. Шопенгауэра и С. О. Кьеркегора, которые апеллировали к индивиду, отдельной личности, связывая истоки морали и её практические формы с единичностью человеческого существования. Антиспекулятивное и антирационалистическое отношение к классической традиции с особой определённостью обнаружилось в философии Ф. Ницше, которая в своей основе и общей нацеленности есть критика морали. Об этике Ницше можно говорить по преимуществу в отрицательном смысле. Ницше выступает против объективированного рассмотрения человека, и в этом контексте против подчинения морали познанию, а этики — гносеологии и онтологии. Он исходит из волевого начала в человеке как самого специфичного и существенного его признака. Воля как неотчуждаемое свойство человека заключает свой разум в себе; «воля к истине есть воля к власти» (Ницше Ф. «По ту сторону добра и зла». — Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1990, § 211, с. 336). После радикального отрицания морали и этики в их традиционном понимании, что было превалирующим настроением в послегегелевской философии, к концу XIX века восстанавливается позитивное отношение к морали, а вместе с ним и особый дисциплинарный статус этики. Показательными для этих изменений являются такие идейно между собой не связанные феномены, как возрождение интереса к Канту и возникновение эволюционной этики. Неокантианцы по сути дела отказались от кантовской метафизики нравственности, идеи ноуменального мира и примата практического разума перед теоретическим. В варианте Марбургской школы неокантианство интерпретировало этику как логику общественных наук; оно стремилось снять разрыв между долгом и склонностями, добродетелью и счастьем, сближало этику с правом, педагогикой (Г. Коген, М. Венчер). В варианте Баденской школы (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) формальный образ морали дополнялся взглядом, согласно которому реальные мотивы поведения не поддаются этическому обобщению, а ценностные определения имеют исторически индивидуализированный характер. В XX веке этика развивалась под существенным (быть может, определяющим) воздействием идеала научной рациональности, что не помешало ей сохранить социально-критическую направленность и на свой манер противостоять тоталитарному духу времени. Феноменологическая этика заострена как против жёсткого догматизма классической этики (в частности, рационалистического априоризма Канта), так и против утилитаристского релятивизма. Она исходит из того, что ценности представляют собой некую объективную структуру (мир ценностей), которая дана человеку в непосредственных актах чувствования. В отличие от рационализма, видевшего в чувствах выражение субъективности, феноменология рассматривает акт чувствования как способ познания ценностей. Волевой акт, направленный на добро, по Э. Гуссерлю, является добрым не в силу природных оснований или иных внешних по отношению к самому добру причин, он заключает добро в себе как идеальный образ, остающийся всегда равным самому себе независимо от того, кто конкретно воспринимает его в этом содержании. Априорные, идеально-объективные ценности становятся пределом устойчивого желания и предстают перед человеком в качестве практического императива. Возникающая при этом проблема состоит в том, чтобы в акте оценки высветить сами ценности в их общезначимом содержании и чтобы трансформировать их объективный порядок в жизненную задачу. Примечательными с точки зрения понимания предмета этики в XX веке являются принципиально противоположные образы морали, сложившиеся в американском прагматизме (У. Конец XX века в европейской этике характеризуется двумя новыми тенденциями — переходом к прикладной этике и переосмыслением предмета этики в контексте постмодернистской философии. Прикладная этика занимается моральными коллизиями в конкретных сферах общественной практики и существует как совокупность дисциплин (биоэтика, этика бизнеса, этика науки, политическая этика и другие), которые стали составными элементами самих этих практик. Является дискуссионным вопрос о статусе прикладных этик, в частности о том, остаются ли они составной частью философской этики или превратились в частные дисциплины. Характер аргументации этико-прикладных исследований, прямо связанной с философскими образами человека и предполагающей предварительное решение вопросов, касающихся понимания морали, её места в системе человеческих приоритетов, достоинства и прав человека, онтологических признаков личности и другого, позволяет предположить, что прикладная этика является важной стадией процесса исторического развития самой морали. Постмодернистская философия с её отказом от логоцентризма, деконструированием классических философских оппозиций, прежде всего оппозиции познающего субъекта и объективной реальности, со свойственным ей пафосом единичности, ситуативности, открытости имеет важное, до конца ещё не выявленное значение для этики. Она разрушает превалировавший в философии просветительски-репрессивный образ этики, сводящейся к абстрактным принципам и всеобщим определениям. Осмысленная в перспективе постмодернизма этика сливается с живым моральным опытом, становится множественной, многоголосой, открытой. Прокламируемое преодоление границы между писателем, читателем и текстом, в результате чего смысл сливается с выражением, а они вместе с пониманием, приобретает высокую степень действенности именно применительно к морали, которая не прилагается к индивиду, а учреждается им самим. Постмодернизм можно интерпретировать как доведённую до конца антинормативистскую установку, которая стала ведущей в послегегелевской этике.
В целом, этика в современных условиях может быть конституирована лишь при условии отказа от традиционно базовых своих характеристик. Так, если Й. Флетчер в качестве атрибутивного параметра этического мышления фиксирует его актуализацию в повелительном наклонении (в отличие, например, от науки, чей стиль мышления актуализирует себя в наклонении изъявительном), то, согласно позиции Д. Мак-Кенса, в сложившейся ситуации, напротив, «ей не следует быть внеконтекстуальной, предписывающей. этикой, распространяющей вполне готовую всеобщую Истину». Если этика интерпретирует регуляцию человеческого поведения как должную быть организованной по сугубо дедуктивному принципу, то современная философия ориентируется на радикально альтернативные стратегии: постмодернизм предлагает модель самоорганизации человеческой субъективности как автохтонного процесса — вне навязываемых ей извне регламентаций и ограничений со стороны тех или иных моральных кодексов, — «речь идёт об образовании себя через разного рода техники жизни, а не о подавлении при помощи запрета и закона» (М. С точки зрения М. Фуко, дедуктивно выстроенный канон, чья реализация осуществляется посредством механизма запрета, вообще не является и не может являться формообразующим по отношению к морали. Оценивая тезис о том, что «мораль целиком заключается в запретах», в качестве ошибочного, Фуко ставит «проблему этики как формы, которую следует придать своему поведению и своей жизни». Соответственно, постмодернизм артикулирует моральное поведение не в качестве соответствующего заданной извне норме, но в качестве продукта особой, имманентной личности и строго индивидуальной «стилизации поведения»; более того — сам «принцип стилизации поведения» не является универсально необходимым, жёстко ригористичным и требуемым от всех, но имеет смысл и актуальность лишь для тех, «кто хочет придать своему существованию возможно более прекрасную и завершённую форму» (М. В плоскости идиографизма решается вопрос о взаимной адаптации [со]участников коммуникации в трансцендентально-герменевтической концепции языка К.-О. Апеля. В том же ключе артикулируют проблему отношения к Другому поздние версии постмодернизма. Конкретные практики поведения мыслятся в постмодернизме как продукт особого («герменевтического») индивидуального опыта, направленного на осознание и организацию себя в качестве субъекта — своего рода «практики существования», «эстетики существования» или «техники себя», не подчинённые ни ригористическому канону, ни какому бы то ни было общему правилу, но каждый раз выстраиваемые субъектом заново — своего рода «практикование себя, целью которого является конституирование себя в качестве творца своей собственной жизни» (М. Фуко). Подобные «самотехники» принципиально идиографичны, ибо не имеют, по оценке Фуко, ничего общего с дедуктивным подчинением наличному ценностно-нормативному канону как эксплицитной системе предписаний и, в первую очередь, запретов: «владение собой принимает различные формы, и нет одной какой-то области, которая объединила бы их». |
Мораль и мораль: критический взгляд на социальные науки — идеи
Философов всегда интересовали вопросы морали, но социологи в целом неохотно обсуждали мораль и мораль. Это действительно парадокс, поскольку сомнение в моральном измерении человеческой жизни и социальной деятельности было неотъемлемой частью их дисциплин.
Ключ к разгадке этого парадокса заключается в противоречии между описательным и предписывающим призванием социальных наук: является ли ожидаемый результат изучения морали лучшим пониманием социальной жизни или конечной целью науки о морали является улучшение общества. ? В начале двадцатого века немецкий социолог Макс Вебер, следуя первой линии, выступал за свободное от ценностей исследование ценностных суждений, исследуя, например, роль протестантской этики в зарождающемся духе капитализма. Его современник, французский Эмиль Дюркгейм, более восприимчивый ко второму варианту, твердо верил, что исследования морали не будут стоить того труда, в котором они потребуются, если бы ученые оставались смиренными наблюдателями моральной реальности, — позиция, которая не помешала ему предложить строгое объяснение теории морали. почему мы соблюдаем коллективные правила. Эта диалектика между исследованием норм и их продвижением, между анализом того, что считается хорошим, и утверждением того, что хорошо, таким образом, лежит в основе социальных наук с момента их зарождения.
Его современник, французский Эмиль Дюркгейм, более восприимчивый ко второму варианту, твердо верил, что исследования морали не будут стоить того труда, в котором они потребуются, если бы ученые оставались смиренными наблюдателями моральной реальности, — позиция, которая не помешала ему предложить строгое объяснение теории морали. почему мы соблюдаем коллективные правила. Эта диалектика между исследованием норм и их продвижением, между анализом того, что считается хорошим, и утверждением того, что хорошо, таким образом, лежит в основе социальных наук с момента их зарождения.
Для антропологии проблема была еще более важной, поскольку конфронтация с другими культурами и, следовательно, с другими моральными принципами привела к бесконечным спорам между универсализмом и релятивизмом. Учитывая разнообразие норм и ценностей во всем мире и их трансформацию с течением времени, следует ли утверждать, что некоторые из них лучше, или признать, что все они просто несоизмеримы? Большинство антропологов, от американского отца культуризма Франца Боаса до французского основателя структурализма Клода Леви-Стросса, приняли второй подход, несомненно подкрепленный открытием исторических катастроф, порожденных идеологиями, основанными на человеческой иерархии, независимо от того, служат ли они для оправдания истребления в случае нацизма, эксплуатации в целях колониализма или сегрегации апартеидом. Эта дискуссия была недавно возобновлена с таких вопросов, как женское обрезание (переименованное в калечащие операции на половых органах) и традиционные супружеские стратегии (переквалифицированные в принудительные браки), при этом многие феминистки выступали за морально ориентированные исследования, когда дело доходило до практики, которую они считали неприемлемой.
Эта дискуссия была недавно возобновлена с таких вопросов, как женское обрезание (переименованное в калечащие операции на половых органах) и традиционные супружеские стратегии (переквалифицированные в принудительные браки), при этом многие феминистки выступали за морально ориентированные исследования, когда дело доходило до практики, которую они считали неприемлемой.
Принимая во внимание эти трудности, научные, но также политические и этические, тем более примечательно, что социальные науки реинвестировали в сферу морали и морали за последнее десятилетие.Эта эволюция отражает более широкую тенденцию в современных обществах, где моральные вопросы стали центральными в общественной сфере, до такой степени, что большинство сфер деятельности занялись моральными оценками и оправданиями. Права человека вошли в пространство международных отношений, военные операции были представлены как гуманитарные войны, биоэтика изменила границы медицинских исследований, жадность в финансах была осуждена как неэтичная, сострадание стало политической добродетелью, бедность оценивалась в соответствии с цена. В этих меняющихся обстоятельствах обществоведы не могли больше игнорировать растущее публичное присутствие моральных вопросов, чей опыт даже иногда запрашивался.
В этих меняющихся обстоятельствах обществоведы не могли больше игнорировать растущее публичное присутствие моральных вопросов, чей опыт даже иногда запрашивался.
Здесь важно понимать глубокую теоретическую и методологическую разницу между социальными науками и философией, но также все в большей степени эволюционными и когнитивными науками в их подходах к моральным проблемам. Философы, биологи и психологи прибегают к редукции — обычно к чисто моральным дилеммам, обычно приводящим к простым альтернативам, которые не отражают реальность, а формализуют ее, чтобы произвести концептуализацию.В этом ключе ученые-эволюционисты и когнитивисты недавно предложили универсальную моральную грамматику, которую можно рассматривать как элементарные формы моральных суждений и моральных чувств. Напротив, социологи, антропологи и историки имеют дело со сложными и нечистыми ситуациями — потому что это реальность человеческой жизни и социальной деятельности. Границы между моральными проблемами и политическими, экономическими, религиозными, правовыми, эстетическими и социальными вопросами часто стираются. Социологи из своих наблюдений знают, что универсальной морали не существует.Даже убийство можно осудить или похвалить в зависимости от культурной среды, исторических моментов и конкретных контекстов.
Социологи из своих наблюдений знают, что универсальной морали не существует.Даже убийство можно осудить или похвалить в зависимости от культурной среды, исторических моментов и конкретных контекстов.
Именно для осознания этой сложности и нечистоты морали и морали в современных обществах была задумана программа «К критической моральной антропологии», финансируемая Европейским исследовательским советом. Этот совместный проект объединяет группу из двенадцати социологов, антропологов и политологов. Он развивается по обе стороны Атлантики: в Париже, в Высшей школе социальных наук, и в Принстоне, в Институте перспективных исследований, используя преимущества присутствия членов, одновременно изучающих аналогичные вопросы с помощью разных объектов.Он имеет как теоретическое, так и эмпирическое измерение. С одной стороны, он предлагает критическое исследование новой области антропологии морали и морали, связывая моральные вопросы с их историческим образованием и политическим фоном. С другой стороны, он включает исследование того, как обращаются с иммигрантами и меньшинствами такие учреждения, как полиция, правосудие, тюрьмы, социальная служба и система психического здоровья во Франции, формулируя моральную экономию этих вопросов на национальном уровне. и моральная работа социальных агентов в их соответствующих институтах.
и моральная работа социальных агентов в их соответствующих институтах.
Действительно, иммигранты и меньшинства во многих обществах представляют собой наиболее маргинализированные, стигматизируемые и дискриминируемые слои населения. Учреждения, с которыми они имеют дело, являются частично репрессивными (полиция, правосудие, тюрьмы) и частично реабилитационными (социальная работа, психическое здоровье). В обоих случаях технические аспекты каждой профессии (закон, наблюдение, помощь, психиатрия) не полностью учитывают принятые решения или отношение к общественности: всегда присутствует моральная оценка — косвенно или прямо.Офицеры полиции, судьи и охранники, а также социальные работники и медицинские работники используют моральные категории для дисквалификации или освобождения от ответственности, построения моральных сообществ для исключения или включения, разработки моральных оправданий жестокому обращению или уважению. Конечно, эти моральные разработки не порождены социальной пустотой. Фактически, научная задача состоит в том, чтобы понять, как общественные дискурсы и государственная политика влияют на институциональную и профессиональную практику — и, в свою очередь, консолидируются или иногда переформулируются с помощью последних.Другими словами, мы стремимся понять, как артикулируются макросоциальное (политика и политика) и микросоциальное (убеждения и практики), что является одним из основных теоретических вопросов, если не загадкой, для социологов.
Фактически, научная задача состоит в том, чтобы понять, как общественные дискурсы и государственная политика влияют на институциональную и профессиональную практику — и, в свою очередь, консолидируются или иногда переформулируются с помощью последних.Другими словами, мы стремимся понять, как артикулируются макросоциальное (политика и политика) и микросоциальное (убеждения и практики), что является одним из основных теоретических вопросов, если не загадкой, для социологов.
Рассмотрим, например, административный и судебный процесс, посредством которого рассматриваются заявления лиц, ищущих убежища, для определения того, будет ли им предоставлен статус беженца. В Европе общественный дискурс о так называемых «фиктивных беженцах» постепенно проникает в повседневную работу офицеров и магистратов, отвечающих за оценку заявителей.В то время как доверие было обычным явлением три десятилетия назад, когда девяти просителям убежища из десяти был предоставлен драгоценный статус, подозрение стало правилом, что привело к все более низкому уровню признания, в настоящее время до двух из десяти.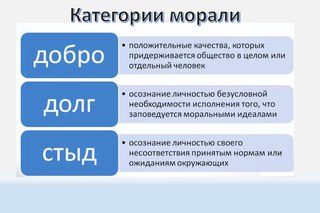 В этом новом контексте, когда очень трудно установить правдивость их рассказов, искренность заявителей в большей степени оценивается через сочувствие, вызванное их проявлением эмоций. Как это ни парадоксально, но чем суровее приговор, тем больше убеждены судьи в его справедливости.По их мнению, потеря доверия к словам соискателей убежища имеет своим следствием растущую ценность убежища как абстрактного принципа — вплоть до того, что делает его недоступным. В конечном счете, политики видят свои сомнения относительно правдивости отчетов и искренности кандидатов, подтвержденные низкими показателями признания. Поэтому нормы и ценности циркулируют между макросоциальным и микросоциальным, между национальными форумами, где обсуждаются иммиграционные вопросы, и местными бюрократическими аппаратами, где принимаются жизненно важные решения.Таким образом, моральная экономика убежища глубоко укоренилась в политических вопросах и зависит от социальных вопросов.
В этом новом контексте, когда очень трудно установить правдивость их рассказов, искренность заявителей в большей степени оценивается через сочувствие, вызванное их проявлением эмоций. Как это ни парадоксально, но чем суровее приговор, тем больше убеждены судьи в его справедливости.По их мнению, потеря доверия к словам соискателей убежища имеет своим следствием растущую ценность убежища как абстрактного принципа — вплоть до того, что делает его недоступным. В конечном счете, политики видят свои сомнения относительно правдивости отчетов и искренности кандидатов, подтвержденные низкими показателями признания. Поэтому нормы и ценности циркулируют между макросоциальным и микросоциальным, между национальными форумами, где обсуждаются иммиграционные вопросы, и местными бюрократическими аппаратами, где принимаются жизненно важные решения.Таким образом, моральная экономика убежища глубоко укоренилась в политических вопросах и зависит от социальных вопросов.
Для понимания таких взаимосвязанных масштабов и взаимосвязанных сфер предпочтительным методом является этнография, то есть частичное наблюдение в течение длительных периодов времени за деятельностью профессионалов в их соответствующих учреждениях: полиция на улицах, магистраты в суды, охранники в тюрьмах, социальные работники в их администрации, психиатры в их больницах. Это означает переориентацию традиционных полевых исследований. Антропологи давно изучают далекие и изолированные этнические группы. Они обнаружили, что их место — также дома, где определенные социальные миры, возможно, не менее экзотичны или не менее искажены, чем то, что они привыкли называть «примитивными обществами». В частности, исследование морали и морали дает возможность одновременно охватить общие нормы и ценности в разных социальных мирах, а также особые правила и чувства, присущие каждому из них, — удачное дополнение к тому, что Клиффорд Гирц, профессор-основатель Школы Института. Социальные науки, рассматриваемые как «этическое измерение антропологической полевой работы».”
Это означает переориентацию традиционных полевых исследований. Антропологи давно изучают далекие и изолированные этнические группы. Они обнаружили, что их место — также дома, где определенные социальные миры, возможно, не менее экзотичны или не менее искажены, чем то, что они привыкли называть «примитивными обществами». В частности, исследование морали и морали дает возможность одновременно охватить общие нормы и ценности в разных социальных мирах, а также особые правила и чувства, присущие каждому из них, — удачное дополнение к тому, что Клиффорд Гирц, профессор-основатель Школы Института. Социальные науки, рассматриваемые как «этическое измерение антропологической полевой работы».”
Гуманитарная причина: моральная история настоящего
Клиффорд Гирц с грустью прокомментировал последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии. . . эта «гибель в таких масштабах, разрушение не только отдельных жизней, но и целых их популяций, угрожает убеждению, которое, возможно, больше всего примиряет многих из нас в той мере, в какой это происходит в этом мире, с нашей собственной смертностью: что, хотя мы мы можем погибнуть, сообщество, в котором мы родились, и тот образ жизни, который он поддерживает, каким-то образом продолжат жить. Можно расширить это глубокое понимание, предположив, что значение такой гибели не только в том, что мы оплакиваем возможно потерянный мир, все следы которого могут даже исчезнуть; это также наше чувство принадлежности к более широкому моральному сообществу, существование которого проявляется в сострадании к жертвам. Для внимательного наблюдателя за цунами впечатляющие масштабы потерь с десятками тысяч жертв были столь же значимы, как беспрецедентное проявление солидарности с ее помощью на миллиарды долларов.Мы оплакивали их погибших, но праздновали нашу щедрость. Сила этого события заключается в редком сочетании трагедии разорения и пафоса помощи. . . . Обрисованный таким образом нравственный ландшафт можно назвать гуманизмом. Хотя обычно это считается само собой разумеющимся как простое расширение предполагаемой естественной человечности, которая от природы связана с тем, что мы являемся людьми, гуманизм — относительно недавнее изобретение, которое поднимает сложные этические и политические вопросы.
Можно расширить это глубокое понимание, предположив, что значение такой гибели не только в том, что мы оплакиваем возможно потерянный мир, все следы которого могут даже исчезнуть; это также наше чувство принадлежности к более широкому моральному сообществу, существование которого проявляется в сострадании к жертвам. Для внимательного наблюдателя за цунами впечатляющие масштабы потерь с десятками тысяч жертв были столь же значимы, как беспрецедентное проявление солидарности с ее помощью на миллиарды долларов.Мы оплакивали их погибших, но праздновали нашу щедрость. Сила этого события заключается в редком сочетании трагедии разорения и пафоса помощи. . . . Обрисованный таким образом нравственный ландшафт можно назвать гуманизмом. Хотя обычно это считается само собой разумеющимся как простое расширение предполагаемой естественной человечности, которая от природы связана с тем, что мы являемся людьми, гуманизм — относительно недавнее изобретение, которое поднимает сложные этические и политические вопросы. . . .
. . .
2010 год начался с ужасного землетрясения на Гаити, которое вызвало значительную мобилизацию во всем мире, особенно из Франции и Соединенных Штатов.Фактически мы стали свидетелями соревнования между двумя странами, правительства и население которых соперничали друг с другом в заботе о жертвах, щедро посылая войска, врачей, товары и деньги, вызывая подозрения в преследовании целей, отличных от чистой доброжелательности по отношению к жертвам. нация, которая последовательно угнеталась первыми и эксплуатировалась вторыми. Это соревнование, безусловно, было вызвано доброй волей, и не следует преуменьшать альтруистическое участие и благотворительные усилия отдельных лиц, организаций, церквей и даже правительств, участвующих в лечении раненых, а затем и в усилиях по восстановлению.И все же нельзя не думать о том, насколько полезной была эта щедрость. На мгновение у нас возникла иллюзия, что мы разделяем общее человеческое состояние. Мы можем забыть, что только 6% гаитян, ищущих убежища, получают статус беженца во Франции, что представляет собой один из самых низких показателей по стране, намного отставая от тех, кто приехал из явно мирных стран, или что тридцать тысяч гаитян числились в списках депортации США. Иммиграционное и таможенное управление. Катаклизм, казалось, стер воспоминания о французской и последующей эксплуатации острова американцами.Наш ответ на это означал обещание возмещения ущерба и надежду на примирение.
Иммиграционное и таможенное управление. Катаклизм, казалось, стер воспоминания о французской и последующей эксплуатации острова американцами.Наш ответ на это означал обещание возмещения ущерба и надежду на примирение.
В современных обществах, где неравенство достигло беспрецедентного уровня, гуманизм пробуждает фантазию о глобальном моральном сообществе, которое все еще может быть жизнеспособным, и ожидание того, что солидарность может иметь искупительную силу. Это светское воображаемое общение и искупление подразумевает внезапное осознание фундаментально неравного человеческого состояния и этической необходимости не оставаться пассивным в отношении этого во имя солидарности — каким бы эфемерным это осознание ни было и какое бы ограниченное влияние эта необходимость ни имела.Гуманитаризм обладает этой замечательной способностью: он бессмысленно и иллюзорно устраняет противоречия в нашем мире и делает невыносимую несправедливость в некоторой степени терпимой. Отсюда и его единодушная сила. — Дидье Фассен в книге «Гуманитарная причина: моральная история настоящего», (University of California Press, 2011),
— Дидье Фассен в книге «Гуманитарная причина: моральная история настоящего», (University of California Press, 2011),
Подробную информацию об этом исследовании можно найти на веб-сайте http://morals.ias.edu/, включая соответствующие публикации, программы семинаров и соответствующие библиографии.
Руководство по этике исследований в социальных, гуманитарных, юридических и богословских науках
Предисловие
Три национальных комитета по этике исследований (NEM, NENT и NESH) были созданы в 1990 году на основании Предложения к стортингу № 28 (1988–1989). В 2007 году Закон об этике исследований предоставил юридический мандат для трех комитетов, а также на создание Национальной комиссии по расследованию неправомерных действий в области научных исследований.
С 1 января 2013 года Норвежский национальный комитет по этике исследований (FEK) был создан в качестве независимого административного агентства при Министерстве образования и исследований. Три комитета и комиссия являются частью административного агентства, и все они играют центральную роль в продвижении исследовательской этики в национальной исследовательской системе.
Три комитета и комиссия являются частью административного агентства, и все они играют центральную роль в продвижении исследовательской этики в национальной исследовательской системе.
Национальный комитет по этике исследований в социальных и гуманитарных науках (NESH) — это беспристрастный консультативный орган, созданный для выработки руководящих принципов этики исследований и содействия добросовестным и ответственным исследованиям.
Первая версия рекомендаций NESH была принята в 1993 году, а затем в 1999 и 2006 годах были внесены поправки.Нынешний раунд пересмотра обсуждается в NESH с 2013 года, а новая версия была отправлена на общенациональные консультации в мае 2015 года. Это четвертое издание Руководства NESH по этике исследований в социальных, гуманитарных, юридических и богословских науках [1]. ]
Основное изменение в этом издании состоит в том, что различие между правом и этикой определено более точно, особенно во введении. Кроме того, во введении разъясняется институциональное разделение труда. Таким образом, в настоящее время руководящие принципы в основном состоят из этических рекомендаций и рекомендаций по надлежащей научной практике.Были включены два новых правила относительно соавторства и беспристрастности. Кроме того, порядок руководящих принципов 25–28 был изменен на обратный, так что руководящие принципы, касающиеся 25) соавторства и 26) надлежащей практики цитирования, теперь появляются перед руководящими принципами, касающимися 27) плагиата и 28) научной целостности.
Таким образом, в настоящее время руководящие принципы в основном состоят из этических рекомендаций и рекомендаций по надлежащей научной практике.Были включены два новых правила относительно соавторства и беспристрастности. Кроме того, порядок руководящих принципов 25–28 был изменен на обратный, так что руководящие принципы, касающиеся 25) соавторства и 26) надлежащей практики цитирования, теперь появляются перед руководящими принципами, касающимися 27) плагиата и 28) научной целостности.
Осло, июнь 2016 г.
Бьёрн Хвинден (председатель комитета), Кирстен Йоханн Банг, Кьерсти Фьёртофт, Ингегерд Холанд, Роар Йонсен, Ивар Колстад, Тор Монсен, Энн Невёй, Эрлинг Сандмо, Мэй-Лен Скилбрей, Элизабет Стаксруд, Кнутет Мартин Танд, Лисбол Оллейберг , и Видар Энебакк (руководитель секретариата).
Введение
Целью руководства по этике исследований является предоставление исследователям и исследовательскому сообществу информации о признанных нормах этики исследований. В руководстве содержатся указания и советы. Они призваны помочь развить этическую осмотрительность и размышления, прояснить этические дилеммы и продвигать передовую научную практику. Они также предназначены для предотвращения нарушений научной этики. Их можно использовать в качестве инструментов при оценке отдельных случаев, при планировании исследовательских проектов или при составлении отчетов и публикации выводов и результатов.
В руководстве содержатся указания и советы. Они призваны помочь развить этическую осмотрительность и размышления, прояснить этические дилеммы и продвигать передовую научную практику. Они также предназначены для предотвращения нарушений научной этики. Их можно использовать в качестве инструментов при оценке отдельных случаев, при планировании исследовательских проектов или при составлении отчетов и публикации выводов и результатов.
Руководящие принципы NESH были составлены для того, чтобы охватить социальные, гуманитарные, юридические и богословские науки, но они также могут иметь более широкую область применения, включая такие области, как педагогика и психология. В тексте термины «гуманитарные и социальные науки» используются в качестве обобщающего термина, охватывающего рамки рекомендаций.
Руководящие принципы исследовательской этики являются обязательными как для отдельных лиц, так и для организаций. И исследователи, и исследовательские учреждения несут независимую ответственность за то, чтобы их исследования были хорошими и ответственными. Важно, чтобы учреждения прояснили свои роли и обязанности в отношении исследовательской этики на всех уровнях. Все учреждения должны иметь процедуры финансирования, администрирования и управления, обеспечивающие соответствие их исследований признанным этическим нормам и руководящим принципам.
Важно, чтобы учреждения прояснили свои роли и обязанности в отношении исследовательской этики на всех уровнях. Все учреждения должны иметь процедуры финансирования, администрирования и управления, обеспечивающие соответствие их исследований признанным этическим нормам и руководящим принципам.
Этика исследований
Термин исследовательская этика относится к широкому спектру ценностей, норм и институциональных механизмов, которые помогают формировать и регулировать научную деятельность. Этика исследований — это кодификация научной морали на практике.Руководящие принципы исследовательской этики определяют основные нормы и ценности исследовательского сообщества. Они основаны на общей этике науки, так же как общая этика основана на морали общества в целом.
Руководящие принципы исследовательской этики в основном охватывают исследования, но они также касаются других видов деятельности, связанных с исследованиями, таких как обучение, распространение результатов исследований, консультации экспертов и управление учреждениями. Термин «исследование» также охватывает работу студентов всех уровней и докторантов-исследователей, а учреждения несут ответственность за обеспечение соответствующей подготовки в области этики исследований.Рекомендации применимы ко всем государственным и частным исследованиям, будь то фундаментальные, прикладные или заказные исследования. Они также регулируют деятельность консалтинговых фирм в той степени, в которой они выполняют задачи, связанные с исследованиями, например, систематический сбор и обработку информации о лицах, группах или организациях с целью получения новых знаний по конкретному вопросу.
Термин «исследование» также охватывает работу студентов всех уровней и докторантов-исследователей, а учреждения несут ответственность за обеспечение соответствующей подготовки в области этики исследований.Рекомендации применимы ко всем государственным и частным исследованиям, будь то фундаментальные, прикладные или заказные исследования. Они также регулируют деятельность консалтинговых фирм в той степени, в которой они выполняют задачи, связанные с исследованиями, например, систематический сбор и обработку информации о лицах, группах или организациях с целью получения новых знаний по конкретному вопросу.
Руководящие принципы основаны на признанных нормах исследовательской этики, регулирующих исследования в различных областях и в различных отношениях:
- нормы, составляющие надлежащую научную практику, связанную с поиском точных, адекватных и актуальных знаний (академическая свобода, оригинальность, открытость, надежность и т. Д.))
- нормы, регулирующие исследовательское сообщество (честность, подотчетность, беспристрастность, критика и т.
 Д.)
Д.) - отношение к людям, принимающим участие в исследовании (уважение, человеческое достоинство, конфиденциальность, свободное и осознанное согласие и т. Д.)
- отношение к остальному обществу (независимость, конфликты интересов, социальная ответственность, распространение результатов исследований и т. Д.)
Первые две группы этических норм являются внутренними, связанными с саморегулированием исследовательского сообщества, в то время как последние две группы являются внешними, связанными с отношениями между исследователями и обществом.[2] Иногда границы между этими нормами стираются; например, подотчетность — это требование надежности. В других случаях нормы противоречат друг другу, что требует уравновешивания различных соображений; например, сопоставление потребности общества в новых знаниях с возможной нагрузкой на вовлеченных людей и других затронутых сторон. В некоторых проектах исследование также поднимает совершенно новые вопросы, например, связанные с исследованиями с использованием Интернета, где признанные нормы и руководства не всегда адекватны. [3] В таких случаях исследователи и исследовательское сообщество несут особую ответственность за прояснение этических дилемм и проявление здравого смысла.
[3] В таких случаях исследователи и исследовательское сообщество несут особую ответственность за прояснение этических дилемм и проявление здравого смысла.
Этические принципы и законодательство
Университеты и университетские колледжи несут установленную законом ответственность за обеспечение высокого качества исследований, образования, академического и художественного развития «и проведение в соответствии с признанными научными, художественными, педагогическими и этическими принципами» [4]. Существует также Закон, касающийся этики и честности в исследованиях (Закон об этике исследований), который «стремится обеспечить, чтобы все исследования, проводимые государственными и частными учреждениями, проводились в соответствии с признанными этическими стандартами».[5]
Руководящие принципы исследовательской этики не выполняют ту же роль или функцию, что и законодательство. Рекомендации в первую очередь служат инструментами для исследователей и исследовательского сообщества.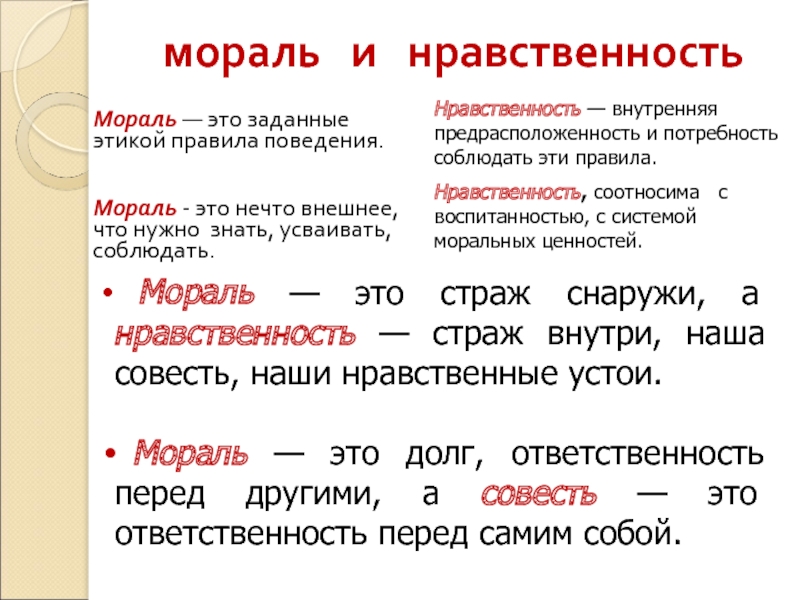 Они определяют соответствующие факторы, которые исследователи должны принимать во внимание, признавая при этом, что исследователям часто приходится сравнивать эти факторы друг с другом, а также с другими требованиями и обязательствами.
Они определяют соответствующие факторы, которые исследователи должны принимать во внимание, признавая при этом, что исследователям часто приходится сравнивать эти факторы друг с другом, а также с другими требованиями и обязательствами.
Хотя различие между законом и этикой часто неясно, они принципиально разные.Оба они являются нормативными, но этические нормы сформулированы как руководящие принципы, а не предписания и запреты. Руководящие принципы исследовательской этики призваны выполнять консультативную, руководящую и профилактическую функцию. В них указывается, что исследователи должны учитывать и что делать, чтобы их исследования были ответственными. Соответственно, этика исследований соответствует принципу саморегулирования академической свободы. Вот почему основная ответственность за этику исследований лежит на исследователях и исследовательских учреждениях.Без этой свободы и ответственности исследовательская этика теряет большую часть своей моральной ценности.
Некоторые из этических норм, изложенных в руководящих принципах исследовательской этики, также можно найти в законодательстве.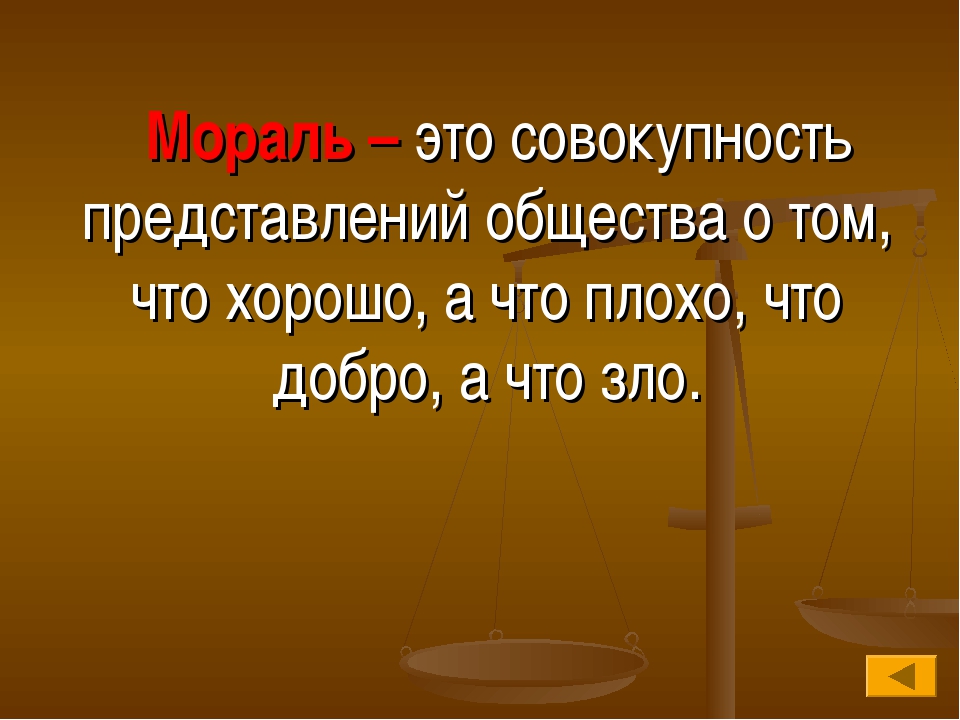 Например, требование конфиденциальности и уважение человеческого достоинства имеет юридическую основу в Законе о личных данных, а также регулируется руководящими принципами исследовательской этики (Часть B) [6]. Если исследователи не соблюдают законодательные требования, они могут быть подвергнуты штрафам и другим санкциям.Такая реакция последует потому, что исследователи нарушили закон, а не потому, что они действовали в противоречии с руководящими принципами исследовательской этики.
Например, требование конфиденциальности и уважение человеческого достоинства имеет юридическую основу в Законе о личных данных, а также регулируется руководящими принципами исследовательской этики (Часть B) [6]. Если исследователи не соблюдают законодательные требования, они могут быть подвергнуты штрафам и другим санкциям.Такая реакция последует потому, что исследователи нарушили закон, а не потому, что они действовали в противоречии с руководящими принципами исследовательской этики.
NESH издает руководящие принципы в отношении этики исследований, но не является надзорным или контролирующим органом и не имеет судебных функций или полномочий налагать санкции. NESH также не дает предварительного одобрения исследовательских проектов. Роль NESH в следовании руководящим принципам заключается в первую очередь в том, чтобы отвечать на запросы о конкретных планах исследований, а также предоставлять оценки и рекомендации, когда исследователи должны взвесить и уравновесить различные соображения этической исследовательской деятельности. Во-вторых, NESH делает заявления по отдельным делам, которые поднимают принципиальные вопросы относительно исследовательской этики. В-третьих, NESH может заниматься текущими и важными вопросами исследовательской этики по собственной инициативе. Наконец, NESH также внесет свой вклад в усилия по предотвращению нарушений научной этики.
Во-вторых, NESH делает заявления по отдельным делам, которые поднимают принципиальные вопросы относительно исследовательской этики. В-третьих, NESH может заниматься текущими и важными вопросами исследовательской этики по собственной инициативе. Наконец, NESH также внесет свой вклад в усилия по предотвращению нарушений научной этики.
Прочие учреждения и органы власти
В случаях, когда речь идет не только о исследовательской этике, но также о законодательстве и правах, NESH и несколько других органов, которые имеют дело с особыми соображениями и требованиями, частично совпадают.Несмотря на то, что другие занимаются юридическими аспектами таких дел, этика исследования всегда является дополнительным соображением.
a) Национальная комиссия по расследованию неправомерных действий в исследованиях контролирует честность в исследованиях. Комиссия [Granskningsutvalget] оценивает и рассматривает конкретные дела, в которых подозреваются серьезные нарушения надлежащей научной практики, как это определено в Законе об этике исследований. [7]
[7]
b) Медицинские и связанные со здоровьем исследовательские проекты, направленные на получение новых знаний о болезнях и здоровье, должны быть пересмотрены в соответствии с Законом об исследованиях в области здравоохранения.Такие проекты требуют предварительного одобрения Регионального комитета по этике медицинских и медицинских исследований (REK). [8]
c) Персональные данные, собираемые государственной администрацией, обычно подлежат конфиденциальности. Закон о государственном управлении допускает освобождение от обязанности сохранять конфиденциальность информации для использования в исследованиях при определенных обстоятельствах и в сфере применения Закона. Отдельное министерство может предоставить освобождение от обязанности соблюдать конфиденциальность, но право предоставлять освобождение часто делегируется соответствующим ведомствам.Заявление, подтверждающее исключение, должно быть получено от Совета по конфиденциальности и исследованиям [Rådet for taushetsplikt] в соответствии с Положениями о государственном управлении [9].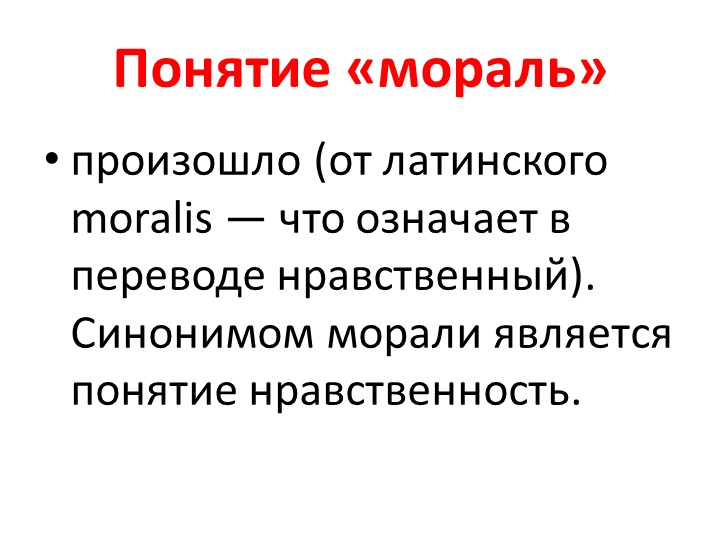 Тем не менее в таком заявлении нет необходимости, если административный орган, который рассматривает вопрос об освобождении, считает очевидным, что заявка должна быть удовлетворена или отклонена, или если исследователь планирует напрямую связаться с лицами, имеющими право на конфиденциальность.
Тем не менее в таком заявлении нет необходимости, если административный орган, который рассматривает вопрос об освобождении, считает очевидным, что заявка должна быть удовлетворена или отклонена, или если исследователь планирует напрямую связаться с лицами, имеющими право на конфиденциальность.
d) Закон о личных данных требует, чтобы лица, обрабатывающие личные данные, защищали личную неприкосновенность и конфиденциальность.[10] Персональные данные состоят из информации и оценок, которые прямо или косвенно связаны с человеком, например, имена, национальные идентификационные номера или адреса электронной почты, или путем сбора исходных данных. Электронная обработка такой информации требует уведомления, и, как правило, такая обработка должна основываться на свободном и осознанном согласии. Когда в учреждении есть сотрудник по защите данных, обязанность уведомить орган по защите данных заменяется обязательством уведомить сотрудника по защите данных.[11] В некоторых исследовательских учреждениях есть местные специалисты по защите данных, но Data Protection Officer for Research [Personvernombudet for forskning] в Норвежском центре исследовательских данных (ранее NSD) выполняет эту задачу для многих исследовательских институтов в Норвегии.
Основная задача сотрудника по защите данных — гарантировать, что учреждения могут выполнять свои уставные обязательства, связанные с внутренним контролем и обеспечением качества собственных исследований. Сотрудник по защите данных может также предложить рекомендации и советы по вопросам, касающимся конфиденциальности.Проекты, связанные с обработкой персональных данных, не могут начаться до тех пор, пока сотрудник по защите данных не рассмотрит проект.
e) В соответствии с Законом о персональных данных, как правило, орган по защите данных [Datatilsynet] должен предоставлять лицензию на обработку конфиденциальных персональных данных, но исследовательские проекты освобождаются от этого обязательства по получению лицензии, если данные Офицер охраны рекомендовал проект. [12] Конфиденциальные персональные данные включают информацию о здоровье человека, расе или этническом происхождении, сексуальной ориентации и его политических, философских или религиозных убеждениях.Некоторые проекты, которые обрабатывают конфиденциальные персональные данные, не подпадают под исключение в Положении о персональных данных, и для них не требуется лицензия от Управления по защите данных. [13]
[13]
Если проект требует получения лицензии, сотрудник отдела защиты данных для исследований может помочь с написанием заявки на лицензию и отправить ее в орган по защите данных. В обязанности Управления входит оценка того, явно ли перевешивает интерес общества к новым знаниям бремя, которое исследование может возложить на отдельных людей.Управление по защите данных может выдать лицензию при соблюдении определенных условий. Такие условия будут юридически обязательными для исследователей. Проекты, требующие получения лицензии, не могут быть инициированы до тех пор, пока Орган по защите данных не предоставит такую лицензию.
A) Исследования, общество и этика
1 Нормы и значения исследований
Исследователи обязаны соблюдать признанные нормы исследовательской этики.
Research — это поиски нового, улучшенного или более глубокого понимания.Это систематическая и социально организованная деятельность, руководствующаяся различными особенностями и ценностями.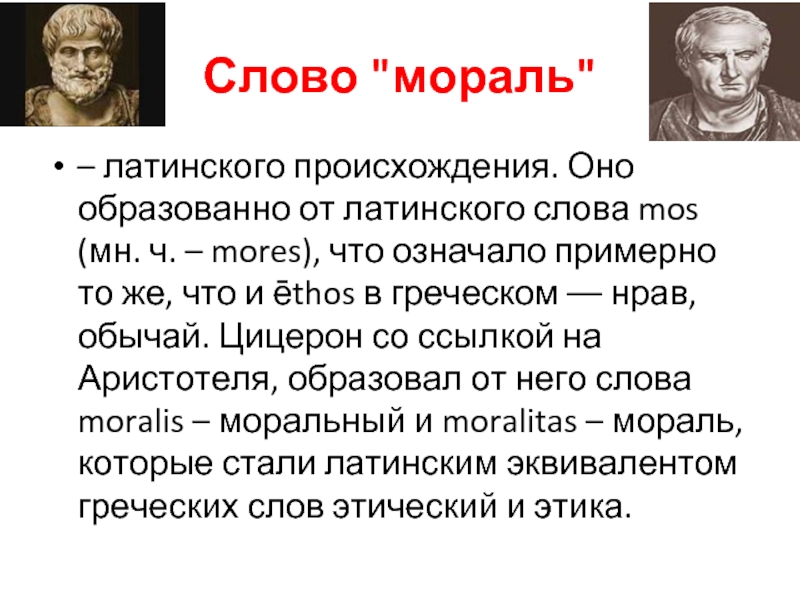 Самая фундаментальная обязанность науки — это поиск истины. В то же время исследования никогда не смогут полностью достичь этой цели. Большинство выводов условны и ограничены. Тем не менее, научные нормы имеют ценность сами по себе как руководящие принципы и регулирующие принципы для коллективного поиска истины исследовательским сообществом.
Самая фундаментальная обязанность науки — это поиск истины. В то же время исследования никогда не смогут полностью достичь этой цели. Большинство выводов условны и ограничены. Тем не менее, научные нормы имеют ценность сами по себе как руководящие принципы и регулирующие принципы для коллективного поиска истины исследовательским сообществом.
В гуманитарных и социальных науках участие и интерпретация часто являются неотъемлемой частью исследовательского процесса.Различные академические подходы и теоретические позиции также могут допускать разные, но, тем не менее, разумные интерпретации одного и того же материала. Следовательно, важно размышлять и учитывать, как собственные ценности и отношения влияют на выбор темы, источников данных и интерпретаций. Честность в документации, последовательность в аргументации, беспристрастность в оценке и открытость в отношении неопределенности являются общими обязательствами в исследовательской этике, независимо от ценностей, позиций или взглядов исследователей.
2 Свобода исследований
И исследователи, и исследовательские учреждения несут ответственность за сохранение свободы и независимости исследований, особенно когда тема вызывает споры или когда стратегические или коммерческие соображения оказывают давление и сдерживают исследования.
Научные нормы, касающиеся оригинальности, открытости и достоверности, могут вступать в противоречие с желанием других сторон препятствовать исследованиям или управлять ими. Исследования должны быть защищены от внутреннего или внешнего давления, ограничивающего исследование четко определенных проблем, которые могут пересекаться с финансовыми, политическими, социальными, культурными или религиозными интересами и традициями.Это одна из причин, почему академическая свобода была объявлена законом в 2007 году, и учебным заведениям было предписано продвигать и защищать академическую свободу. [14] Однако независимость исследований существует как норма независимо от этой кодификации, и в то же время в законе теперь говорится, что преподавание и исследования должны соответствовать признанным научным и этическим принципам.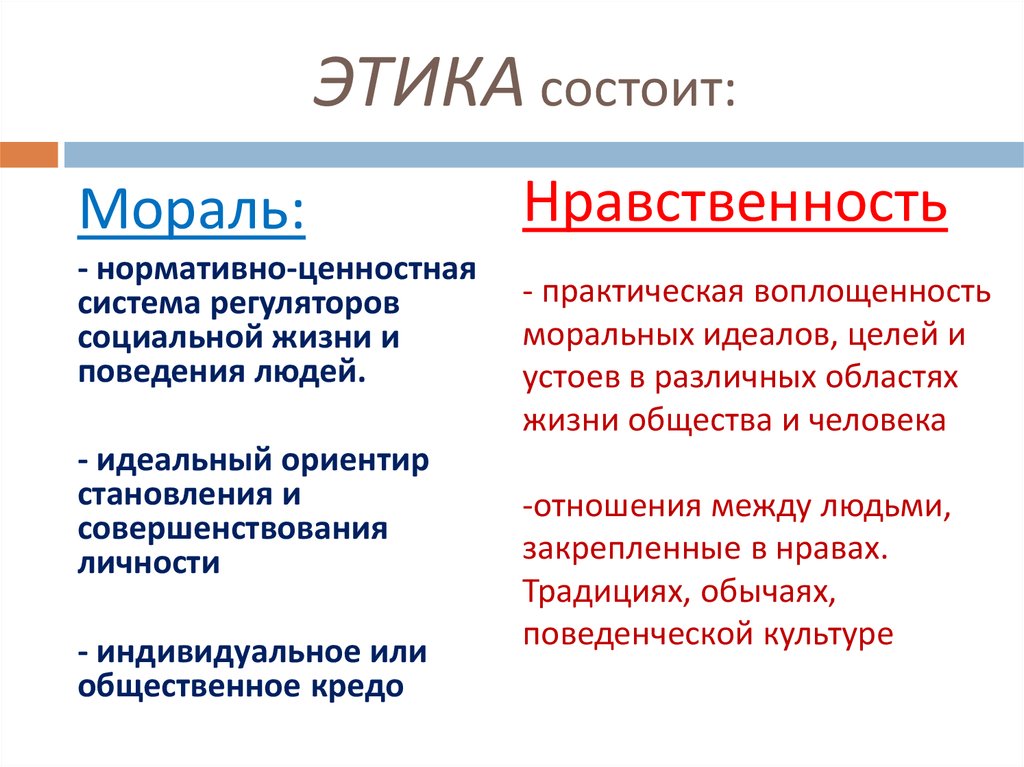 Основанием для выводов, основанных на исследованиях, и для производства знаний в исследованиях в целом, должны служить обоснованность и актуальность аргументов и качество документации, а не какие-либо устоявшиеся интересы и традиции в исследовательском сообществе или за его пределами.
Основанием для выводов, основанных на исследованиях, и для производства знаний в исследованиях в целом, должны служить обоснованность и актуальность аргументов и качество документации, а не какие-либо устоявшиеся интересы и традиции в исследовательском сообществе или за его пределами.
Обязанность и обязанность открытости и публикации означает, что ни исследователи, ни исследовательские учреждения не могут скрывать или выборочно сообщать о результатах и выводах. Любые попытки навязать или диктовать, к каким результатам должно привести исследование, незаконны. Это требует договоренностей, обеспечивающих как независимость институтов, так и независимость исследователей в рамках этих институтов. Исследования предполагают свободу искать, производить и распространять научные знания среди широкой общественности.
Уровень независимости варьируется между фундаментальными, прикладными и заказными исследованиями. Тем не менее, все исследования должны быть защищены от давления, которое ставит под угрозу хорошие и ответственные исследования.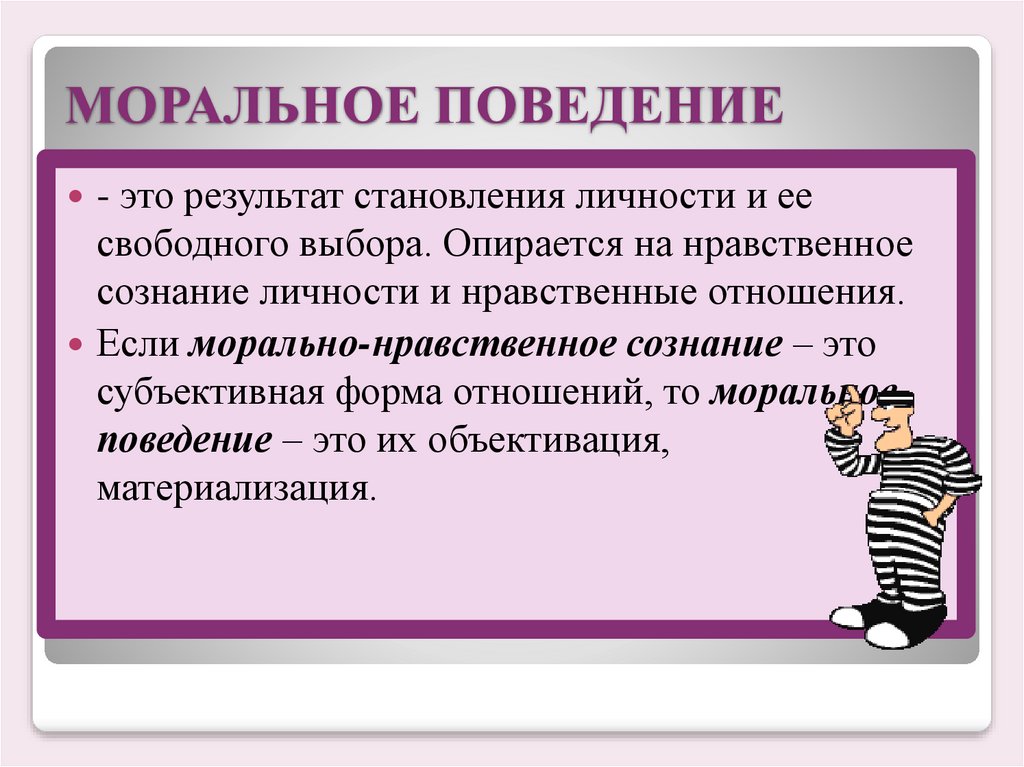 Кроме того, заказные исследования вне университетов и университетских колледжей также должны иметь процедуры для защиты целостности исследований, как это изложено в «Стандартном соглашении на исследования и отчеты» Министерства образования и науки (2012 г.) [15].
Кроме того, заказные исследования вне университетов и университетских колледжей также должны иметь процедуры для защиты целостности исследований, как это изложено в «Стандартном соглашении на исследования и отчеты» Министерства образования и науки (2012 г.) [15].
3 Ответственность за исследования
Ответственное исследование требует свободы от контроля и ограничений, в то время как доверие к исследованиям требует выполнения ответственности как исследователями, так и исследовательскими учреждениями.
Ответственность за исследования регулируется научными, этическими и правовыми нормами и ценностями. Исследования также несут социальную ответственность, будь то инструментальная основа для принятия решений в обществе, критическая как источник исправлений и альтернативных вариантов действий или совещательная как поставщик основанных на исследованиях знаний для общественного дискурса.
Высокие требования предъявляются к обоснованиям исследователей в отношении их выбора вопросов, методов и аналитических точек зрения, а также к качеству документации, используемой для подтверждения выводов, так что предвзятые представления и невольные мнения имеют минимальное влияние на исследование.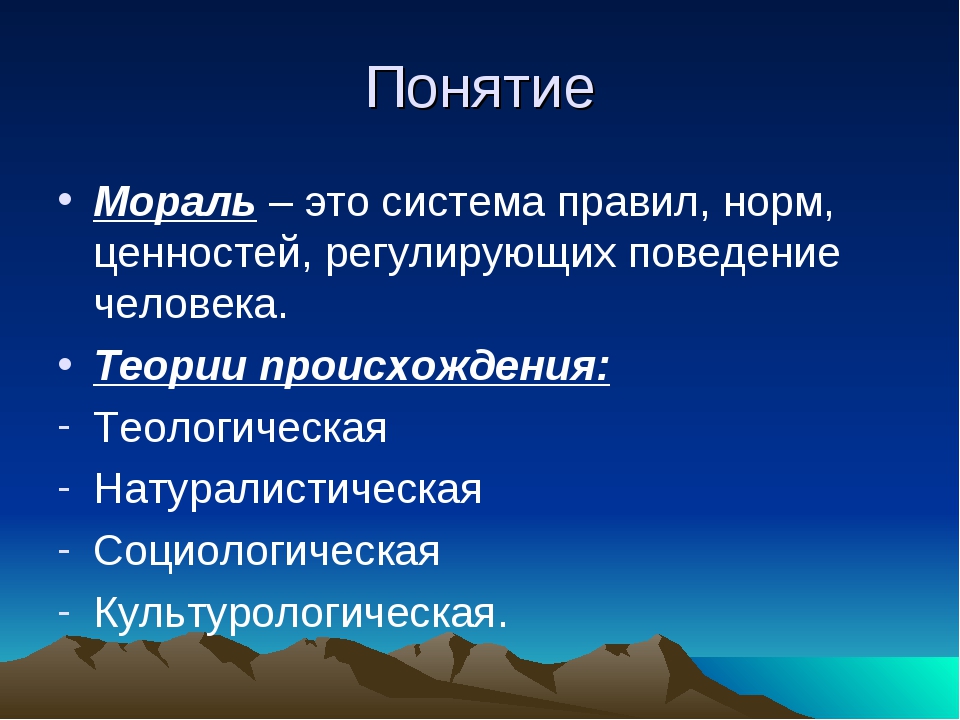 Методологические требования, предъявляемые исследовательским сообществом в отношении аргументации, аргументации, документации и готовности пересматривать мнения в свете обоснованной критики, могут служить моделью того, как справляться с разногласиями в других сегментах общества.
Методологические требования, предъявляемые исследовательским сообществом в отношении аргументации, аргументации, документации и готовности пересматривать мнения в свете обоснованной критики, могут служить моделью того, как справляться с разногласиями в других сегментах общества.
Исследования ценны, но они также могут причинить вред. Хорошее и ответственное исследование также включает оценку непредвиденных и нежелательных последствий. Исследователи должны убедиться, что исследование не нарушает законы и постановления и не представляет опасности для людей, общества и природы — в соответствии с принципами устойчивости и осторожности в исследовательской этике.[16]
4 Ответственность учреждений
Исследовательские учреждения должны гарантировать, что исследования являются хорошими и ответственными, предотвращая неправомерные действия и продвигая руководящие принципы исследовательской этики.
Учреждения должны способствовать развитию и поддержанию хорошей научной практики. Они должны довести до сведения своих сотрудников и студентов принципы этики исследований, а также провести обучение этике исследований и соответствующим нормам права, регулирующим исследования.Это будет способствовать индивидуальному осмыслению этики исследования и хорошему обсуждению в исследовательских сообществах норм и дилемм, связанных с этикой исследования.
Они должны довести до сведения своих сотрудников и студентов принципы этики исследований, а также провести обучение этике исследований и соответствующим нормам права, регулирующим исследования.Это будет способствовать индивидуальному осмыслению этики исследования и хорошему обсуждению в исследовательских сообществах норм и дилемм, связанных с этикой исследования.
Учреждения должны гарантировать, что они управляют руководящей и консультативной функцией исследовательской этики должным образом, чтобы распределение ролей и обязанностей было ясным. В этом контексте руководящие принципы исследовательской этики станут важным инструментом для предотвращения нежелательной практики и обеспечения того, чтобы исследования были хорошими и ответственными.Учреждения также должны иметь четкие процедуры для рассмотрения подозрений и обвинений в серьезных нарушениях надлежащей научной практики, например, путем создания комитетов по неправомерным действиям, отвечающих за надзор и расследования.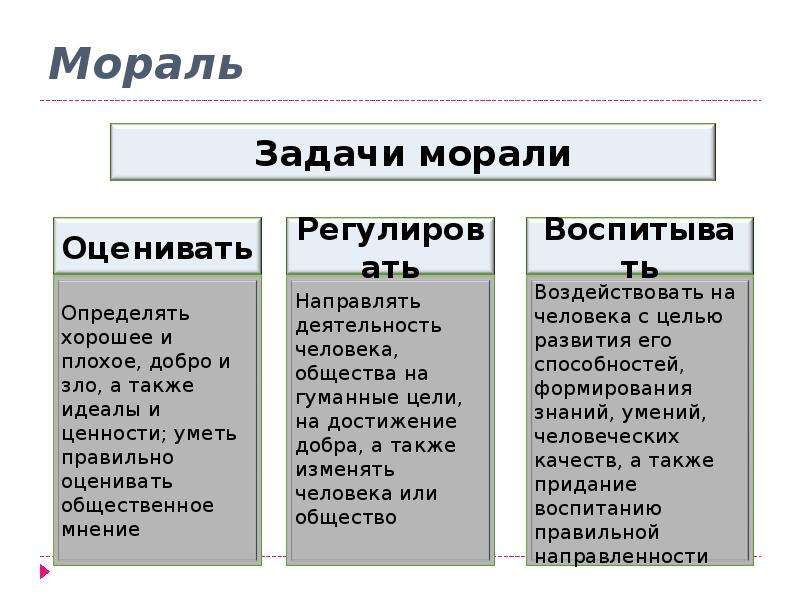
Б) Уважение к личности
5 Человеческое достоинство
Исследователи должны основывать свою работу на уважении человеческого достоинства.
Достоинство человека неразрывно связано с личной неприкосновенностью. Уважение человеческого достоинства и личной неприкосновенности официально закреплено в ряде международных законов и конвенций о правах человека.[17] В исследовательской этике это означает, что у людей есть интересы и целостность, которые нельзя игнорировать в исследованиях, чтобы достичь большего понимания или принести пользу обществу другими способами. Исследователи должны защищать личную неприкосновенность, сохранять индивидуальную свободу и самоопределение, уважать частную жизнь и семейную жизнь и защищать от вреда и необоснованного напряжения. Хотя исследования могут способствовать укреплению человеческого достоинства, они также могут угрожать ему. Поэтому исследователи должны проявлять уважение к человеческому достоинству при выборе темы, по отношению к предметам исследования, а также при сообщении и публикации результатов исследования.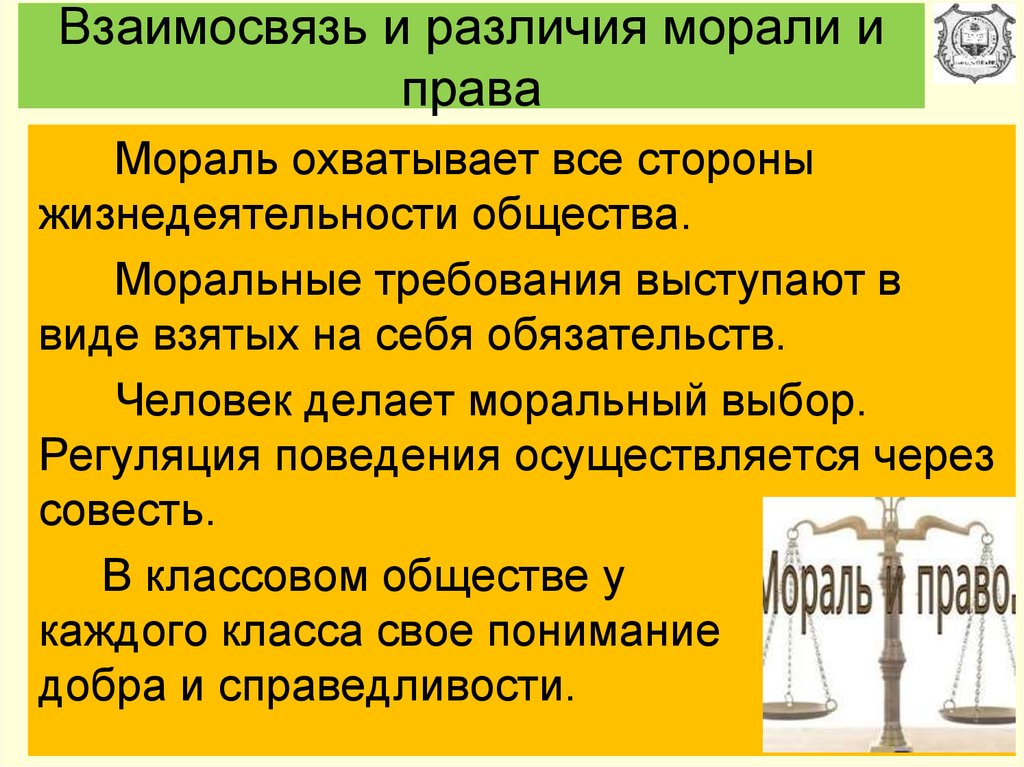
6 Конфиденциальность
Исследователи должны уважать автономию, целостность, свободу и право участников на принятие решений.
С юридической точки зрения защита конфиденциальности связана с обработкой личных данных. Таким образом, исследование должно проводиться в соответствии с основными принципами защиты данных, такими как личная целостность, конфиденциальность и ответственное использование и хранение личных данных. Однако конфиденциальность также имеет более широкую область применения в этике исследований, и исследователи должны проявлять должную осторожность и ответственность
- , когда на карту поставлено самоуважение или другие важные для людей ценности;
- , когда люди мало влияют на решение участвовать в исследовании, например, в связи с исследованиями с использованием Интернета или в учреждении;
- , когда люди имеют ограниченную или отсутствующую способность защищать свои собственные потребности и интересы;
- , когда люди активно участвуют в сборе данных для исследования, например, давая согласие на наблюдение или интервью;
- , когда отдельные лица могут быть идентифицированы, прямо или косвенно, либо как участники, либо как часть сообществ, узнаваемых в публикациях или при другом распространении исследований;
- , когда исследование затрагивает третью сторону.

7 Обязанность информировать
Исследователи должны предоставить участникам адекватную информацию об области исследования, цели исследования, кто профинансировал проект, кто получит доступ к информации, предполагаемом использовании результатов и последствиях участия в исследовании. проект.
Тип требуемой информации зависит от характера исследования; будь то полевые исследования, эксперименты или использование Интернета.Существуют различные соображения, связанные с разными типами исходных материалов и данных; будь то личные данные, конфиденциальная информация, ранее полученные материалы, анонимные материалы или информация, полученная из Интернета. При сборе и обработке личных данных, особенно конфиденциальных личных данных, исследователи также обязаны по закону уведомлять субъектов или участников исследования и также должны получить их согласие (см. Введение и пункт 8).
Исследователи должны предоставлять информацию нейтрально, чтобы испытуемые не подвергались чрезмерному давлению.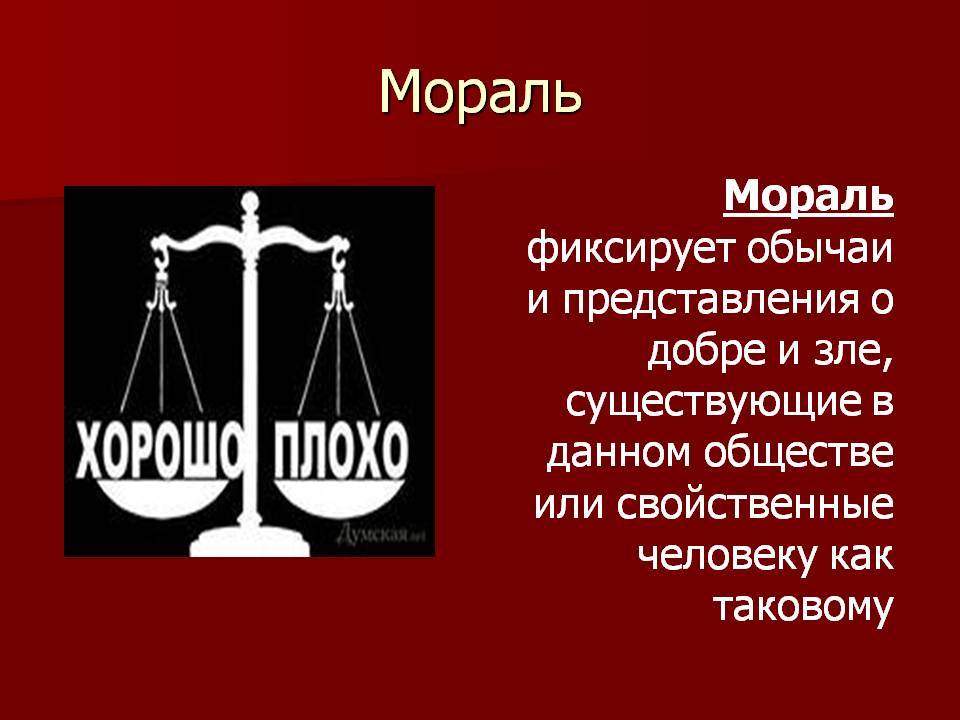 Информация должна быть адаптирована к культурному фону участников и передаваться на понятном им языке. В некоторых исследовательских проектах может потребоваться использование переводчика для предоставления необходимой информации.
Информация должна быть адаптирована к культурному фону участников и передаваться на понятном им языке. В некоторых исследовательских проектах может потребоваться использование переводчика для предоставления необходимой информации.
Также может быть уместным предоставить информацию о возможных преимуществах, связанных с участием в исследовании, но эта информация должна быть ясной и не вызывать необоснованных ожиданий со стороны субъектов исследования. Там, где это уместно, исследователи должны дать понять, что участие в исследовании не влияет на их право на получение государственных услуг или результат рассмотрения их дел и заявлений.
Единственное исключение из основного правила — это когда исследование проводится путем наблюдения на общественных аренах, улицах и площадях. Обычно исследователи могут проводить такие исследования, не информируя причастных к ним людей. В то же время регистрация информации и взаимодействие с использованием технических средств (камеры, видео, магнитофоны и т. Д.) Подразумевают, что материал наблюдения будет храниться. Таким образом, такая регистрация и хранение могут стать основой для реестра личных данных.Как правило, это требует, чтобы люди были проинформированы о том, что они являются объектами исследования, как долго материал будет храниться и кто будет его использовать. Исследования в Интернете и через Интернет имеют особый статус, и не все, что открыто в Интернете, является общедоступным. Поэтому NESH разработал отдельные руководящие принципы для интернет-исследований. [18]
Д.) Подразумевают, что материал наблюдения будет храниться. Таким образом, такая регистрация и хранение могут стать основой для реестра личных данных.Как правило, это требует, чтобы люди были проинформированы о том, что они являются объектами исследования, как долго материал будет храниться и кто будет его использовать. Исследования в Интернете и через Интернет имеют особый статус, и не все, что открыто в Интернете, является общедоступным. Поэтому NESH разработал отдельные руководящие принципы для интернет-исследований. [18]
Еще одно исключение — общественные деятели, которые могут обнаружить, что повышенное внимание, с которым они сталкиваются, угрожает их личной свободе. Однако, поскольку они добровольно добивались общественного внимания или занимали посты, влекущие за собой огласку, нельзя сказать, что их свобода находится под угрозой в той же степени, что и свобода других лиц.Общественные деятели должны ожидать, что общественные аспекты их работы станут предметом исследования.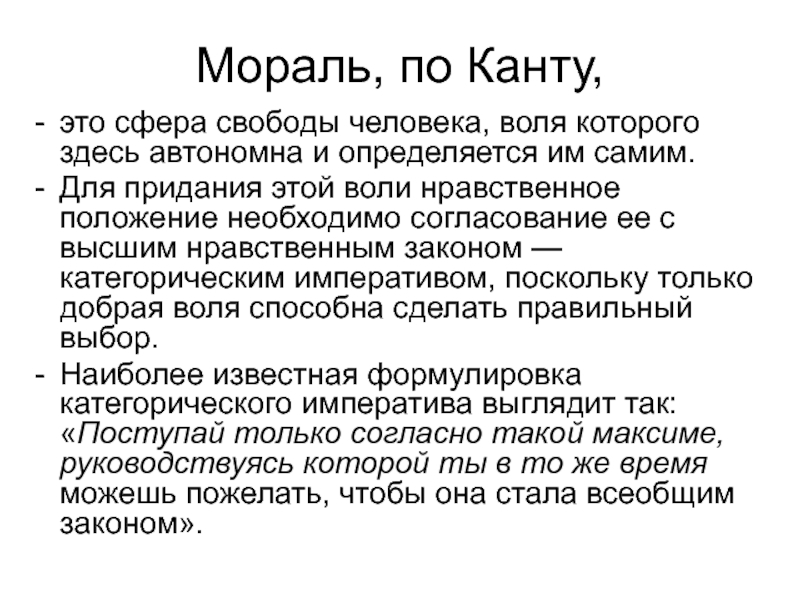 Тем не менее, они должны быть проинформированы о цели исследования, когда они принимают участие в качестве информаторов, из соображений их самоопределения и свободы.
Тем не менее, они должны быть проинформированы о цели исследования, когда они принимают участие в качестве информаторов, из соображений их самоопределения и свободы.
Третье исключение — когда информация не может быть предоставлена до начала исследования, например, если исследователь не может раскрыть реальную цель эксперимента. Такие исключения должны быть оправданы ценностью исследования и отсутствием альтернатив, и исследователь должен уделять особое внимание соблюдению уважения человеческого достоинства и защиты людей.Часто есть возможность предоставить участникам общую информацию о проекте заранее, а затем — подробную информацию, как о проекте, так и о том, почему они не были полностью проинформированы заранее.
8 Согласие и обязательство уведомить
Когда исследовательский проект имеет дело с личными данными, исследователи обязаны проинформировать участников или субъектов исследования и получить их согласие. Согласие должно быть дано свободно, информировано и в явной форме.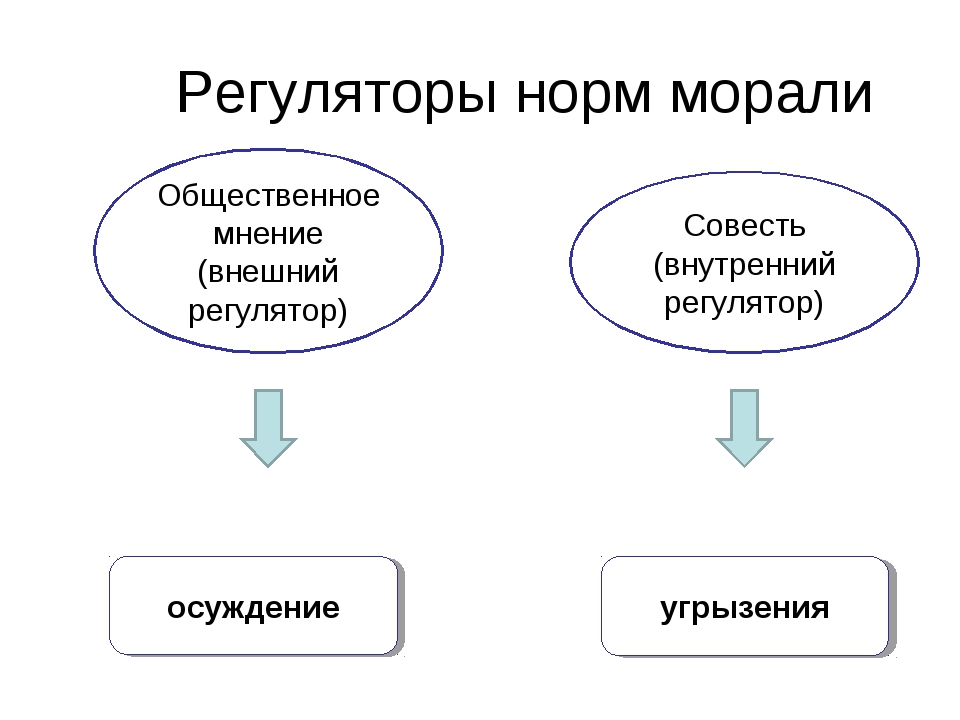
Обязательство по получению согласия изложено в Законе о личных данных, и обо всей обработке личных данных в ходе исследований необходимо сообщать сотруднику по защите данных.Когда исследователи обрабатывают конфиденциальные персональные данные, требуется либо лицензия Управления по защите данных, либо рекомендация сотрудника по защите данных (см. Введение).
Обязательство получить согласие предотвратит нарушение личной неприкосновенности и гарантирует свободу и самоопределение участников. Согласие должно быть основано на информации о цели проекта, методах, рисках, возможном дискомфорте и других последствиях, важных для участников.Согласие также позволяет проводить исследования, связанные с определенным риском перенапряжения.
Свободно данное согласие означает, что согласие было получено без внешнего давления или ограничения личной свободы. Такое давление может возникать из-за присутствия исследователя или может быть опосредовано уполномоченными лицами, с которыми исследователь находился в контакте. Награждение или оплата участников также может повлиять на мотивацию информаторов к участию в исследовательских проектах и может повлиять на ответы участников, что может стать источником ошибок в собранных данных.
Награждение или оплата участников также может повлиять на мотивацию информаторов к участию в исследовательских проектах и может повлиять на ответы участников, что может стать источником ошибок в собранных данных.
Тот факт, что согласие является информированным, означает, что исследователь предоставил адекватную информацию о том, что значит принимать участие в исследовательском проекте. Потребность в четкой информации особенно велика, когда исследование связано с риском перенапряжения (см. Пункт 7).
То, что согласие дано в явной форме, означает, что участники четко заявляют, что они понимают, что на самом деле означает участие в исследовательском проекте. У них должны быть реальные возможности воздерживаться от участия, не создавая при этом недостатка, и они должны полностью осознавать, что они могут прекратить свое участие в любое время без каких-либо негативных последствий.Исследователи должны убедиться, что участники действительно поняли эту информацию. Эта ответственность не прекращается даже после подписания соглашения, требующего от исследователей постоянного бдительности.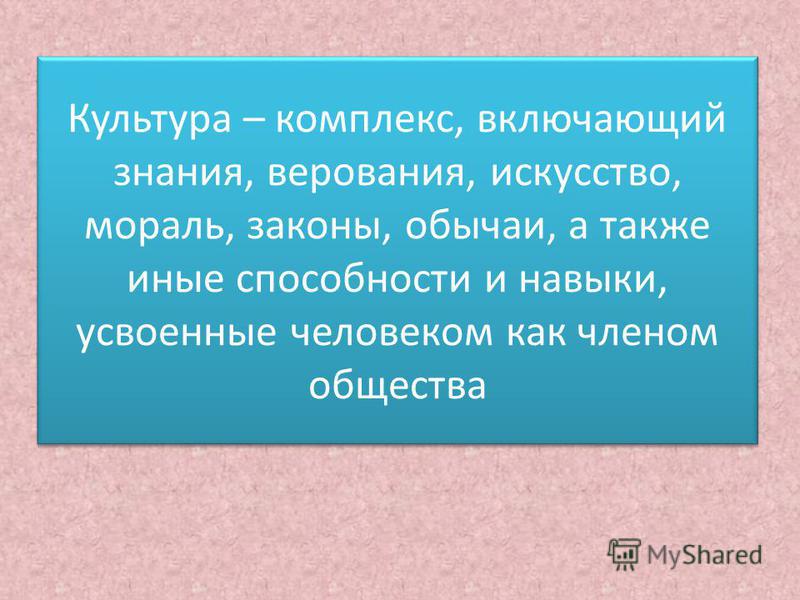
Также должна быть возможность документально подтвердить согласие, как для обоснования ответственности исследователя, так и для защиты прав субъектов исследования. Обычно должна быть подписанная форма согласия, но иногда могут быть более подходящими другие типы документации.
Нарушение дееспособности или ее отсутствие
Свободно данное и осознанное согласие трудно получить в некоторых типах исследований.Такое исследование может вызвать этические проблемы, если потребность в защите от вреда или потребность в свободе, самоопределении и неприкосновенности частной жизни находятся под серьезной угрозой. В таких случаях исследователи несут особую ответственность за защиту неприкосновенности личности. Это может относиться, например, к исследованиям с участием лиц, которые либо имеют ограниченную, либо отсутствующую способность давать свободное и осознанное согласие.
Вопрос о нарушении или отсутствии дееспособности обычно поднимается в связи с исследованиями с участием детей, психически больных, лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями, лиц, страдающих деменцией, и лиц в состоянии алкогольного опьянения. Лица, не способные дать свободное и осознанное согласие, обычно включаются в исследование только в том случае, если: а) оно не может быть проведено на лицах, способных дать согласие, и б) может быть доказано, что данное исследование имеет прямое отношение к делу. или существенная выгода для изучаемых лиц или групп. В некоторых случаях это может быть вопрос исследования, когда знания могут принести пользу рассматриваемой группе, но когда какая-либо прямая выгода для включенных лиц отсутствует, является неопределенной или в отдаленном будущем.Предварительным условием для включения лиц, которые не могут дать свободное и осознанное согласие, является то, что любой риск и напряжение, связанные с исследованием, являются незначительными для включенных лиц.
Лица, не способные дать свободное и осознанное согласие, обычно включаются в исследование только в том случае, если: а) оно не может быть проведено на лицах, способных дать согласие, и б) может быть доказано, что данное исследование имеет прямое отношение к делу. или существенная выгода для изучаемых лиц или групп. В некоторых случаях это может быть вопрос исследования, когда знания могут принести пользу рассматриваемой группе, но когда какая-либо прямая выгода для включенных лиц отсутствует, является неопределенной или в отдаленном будущем.Предварительным условием для включения лиц, которые не могут дать свободное и осознанное согласие, является то, что любой риск и напряжение, связанные с исследованием, являются незначительными для включенных лиц.
Исследования без согласия
Хотя свободное и осознанное согласие является общим правилом, исключения могут быть сделаны в ситуациях, когда исследование не подразумевает прямого контакта с участниками, когда обрабатываемые данные не являются особенно конфиденциальными и когда полезность исследования очевидна. превосходит любые недостатки для вовлеченных лиц.Одним из примеров является использование существующих данных реестра, когда невозможно получить согласие всех лиц, включенных в реестры. В таких случаях исследователи несут особую ответственность за подробное объяснение потенциальной полезной ценности результатов и за информирование участвующих сторон и широкой общественности о цели и результатах проекта, например, через Интернет или другие средства массовой информации, такие как газеты. , радио и телевидение (см. также пункт 10).
превосходит любые недостатки для вовлеченных лиц.Одним из примеров является использование существующих данных реестра, когда невозможно получить согласие всех лиц, включенных в реестры. В таких случаях исследователи несут особую ответственность за подробное объяснение потенциальной полезной ценности результатов и за информирование участвующих сторон и широкой общественности о цели и результатах проекта, например, через Интернет или другие средства массовой информации, такие как газеты. , радио и телевидение (см. также пункт 10).
9 Конфиденциальность
Как правило, исследователи должны обрабатывать данные, полученные по личным вопросам, конфиденциально.Персональные данные, как правило, должны быть обезличены, а публикация и распространение материалов исследования должны быть анонимными. Тем не менее в определенных ситуациях исследователи должны соблюдать баланс между конфиденциальностью и обязательством уведомлять.
Когда исследователи обещают участникам конфиденциальность, это обещание подразумевает, что информация не будет передаваться способами, позволяющими идентифицировать людей. И доверие к исследователям, и доверие участников к исследованиям тесно связаны с конфиденциальностью.В то же время требование конфиденциальности имеет правовой аспект, связанный с защитой личной неприкосновенности и неприкосновенности частной жизни, и как Закон о государственном управлении, так и Закон о личных данных устанавливают ограничения на тип конфиденциальности, которую исследователи могут обещать участникам. Поэтому исследователи должны четко обозначить пределы обязательства конфиденциальности.
И доверие к исследователям, и доверие участников к исследованиям тесно связаны с конфиденциальностью.В то же время требование конфиденциальности имеет правовой аспект, связанный с защитой личной неприкосновенности и неприкосновенности частной жизни, и как Закон о государственном управлении, так и Закон о личных данных устанавливают ограничения на тип конфиденциальности, которую исследователи могут обещать участникам. Поэтому исследователи должны четко обозначить пределы обязательства конфиденциальности.
Иногда может возникнуть конфликт между обязанностью сохранять конфиденциальность и обязанностью уведомлять. Исследование может выявить подозрительные или незаконные ситуации, которые могут подвергнуть исследователей конфликту лояльности, особенно с точки зрения обещания конфиденциальности.Поэтому исследователи не должны позволять себе становиться зависимыми от участников, и такие конфликты можно предотвратить, объяснив пределы обещания конфиденциальности. Это также относится к обработке данных, источники которых подлежат защите [19].
В определенных ситуациях обязанность сохранять конфиденциальность должна уступать обязанности предотвращать уголовное преступление. [20] По закону исследователи обязаны предотвращать уголовное преступление или сообщать о нем в полицию, не соблюдая при этом конфиденциальность.Это включает подозрение в шпионаже, террористических актах, убийстве, изнасиловании, инцесте или домашнем насилии. [21] Дети имеют особое право на защиту, и при подозрении на жестокое обращение или пренебрежение вниманием исследователи также обязаны раскрыть информацию и сообщить об этом в органы социальной защиты детей. Это относится ко всем, несмотря на обязанность сохранять конфиденциальность. [22]
10 Ограниченное повторное использование
Идентификационные персональные данные, собранные для конкретной исследовательской цели, не могут автоматически использоваться для других исследований.
Как правило, повторное использование идентифицируемых личных данных требует согласия участников. Это не относится к анонимным данным, полученным, например, для использования в статистике, где исследователь не может связать людей и данные. Когда данные были анонимными, исследователь не знает, от какого человека исходят данные и материал. Однако анонимность не следует путать с обезличенными данными, когда личные данные удаляются, чтобы неуполномоченные лица не могли установить, кто является предметом исследования, но где исследователь может связать людей и данные.
Это не относится к анонимным данным, полученным, например, для использования в статистике, где исследователь не может связать людей и данные. Когда данные были анонимными, исследователь не знает, от какого человека исходят данные и материал. Однако анонимность не следует путать с обезличенными данными, когда личные данные удаляются, чтобы неуполномоченные лица не могли установить, кто является предметом исследования, но где исследователь может связать людей и данные.
Для повторного использования таких обезличенных данных требуется согласие, если исследователи дополняют исследования реестра данными, полученными в результате активного контакта с участниками. При повторном использовании и связывании этого типа набора данных, например, в исследованиях реестра, которые являются крупномасштабными, продолжительными или в которых используются геоданные, также может быть возможно косвенно определять местонахождение или идентифицировать людей. В таких случаях исследователи должны предпринять новые попытки получить согласие, даже если на практике это сложно. Если исследователи не считают возможным получить согласие, они несут особую ответственность за объяснение, почему исследование приносит такую большую пользу, что оправдывает отклонение от этого принципа. В таких случаях исследователи несут общую ответственность за информирование вовлеченных лиц и широкой общественности (см. Пункт 7).
Если исследователи не считают возможным получить согласие, они несут особую ответственность за объяснение, почему исследование приносит такую большую пользу, что оправдывает отклонение от этого принципа. В таких случаях исследователи несут общую ответственность за информирование вовлеченных лиц и широкой общественности (см. Пункт 7).
11 Хранение персональных данных
Данные, относящиеся к идентифицируемым лицам, должны храниться ответственно. Такие данные не должны храниться дольше, чем это необходимо для достижения цели, для которой они были собраны.
Защита данных включает в себя защиту не только отдельных лиц от злоупотребления личными данными, но и граждан по отношению к государству. Вот почему строгие правила регулируют создание общедоступных реестров персональных данных. Однако это должно быть сбалансировано с преимуществами, получаемыми благодаря исследованиям данных реестра. Также важно сохранить материал для будущих поколений, но исследовательские учреждения должны соблюдать правила, касающиеся правильного хранения.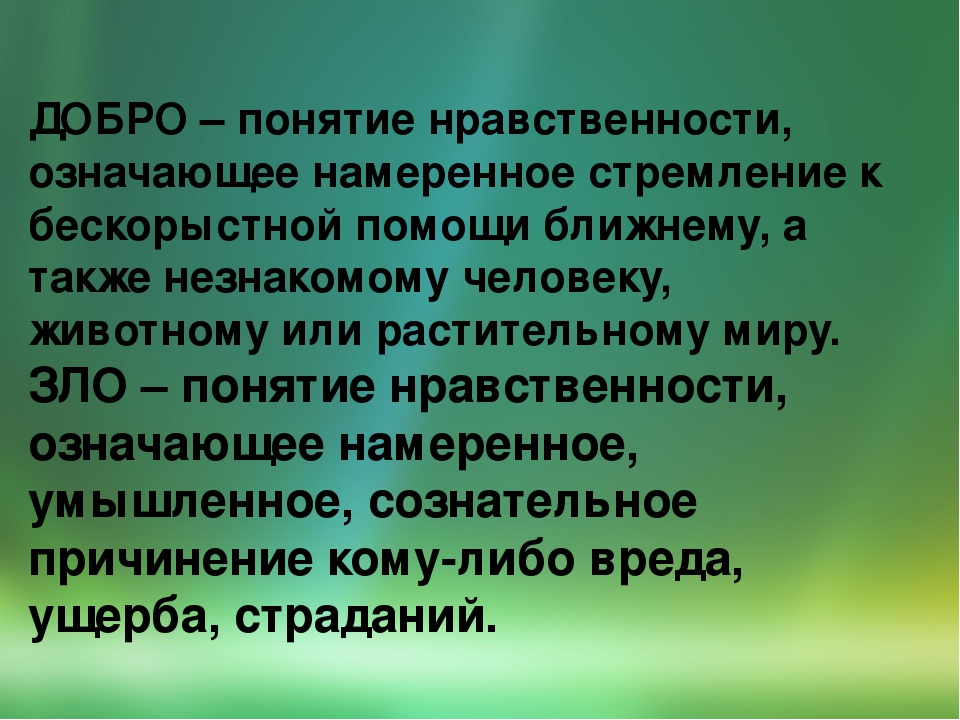 Жизненно важно установить и соблюдать надлежащие процедуры для обеспечения качества регистров данных, а также для любого повторного использования и удаления регистров или других данных, которые могут быть связаны с отдельными лицами (см. Закон о персональных данных).
Жизненно важно установить и соблюдать надлежащие процедуры для обеспечения качества регистров данных, а также для любого повторного использования и удаления регистров или других данных, которые могут быть связаны с отдельными лицами (см. Закон о персональных данных).
Хранение личных данных обычно влечет за собой обязательство получить согласие. Законодательство предъявляет строгие требования к безопасному хранению списков имен или других данных, позволяющих идентифицировать людей. Если хранение таких данных необходимо, идентифицируемые персональные данные
должны храниться надежно и отдельно от других данных исследований. Другой сохраненный материал может содержать ссылочный номер, чтобы связать его со списком личных данных. Все материалы исследования должны храниться в надежном месте и недоступны для посторонних лиц.
Необходимо четко решить и сообщить участникам заранее, следует ли уничтожить материал в конце проекта. Также необходимо четко объяснить, как и в какой форме будет храниться материал, чтобы можно было проверить анализы и выводы или чтобы другие исследователи могли повторно использовать материал. Материал должен храниться в надежном месте в специализированном учреждении, таком как Норвежский центр исследовательских данных (ранее NSD) или Национальный архив Норвегии.
Материал должен храниться в надежном месте в специализированном учреждении, таком как Норвежский центр исследовательских данных (ранее NSD) или Национальный архив Норвегии.
Как правило, важно обеспечить, чтобы общественные архивы и частные архивы, представляющие ценность для исследований, сохранялись для потомков и были доступны для исследований. Важную роль здесь играют национальные архивы. [23]
12 Ответственность за избежание вреда
Исследователи несут ответственность за то, чтобы участники не подвергались серьезным физическим повреждениям или другим серьезным или необоснованным нагрузкам в результате исследования.
В исследованиях в области гуманитарных и социальных наук риск причинения серьезного физического вреда участникам обычно невелик.Однако возможно серьезное умственное перенапряжение. Это может быть труднее определить и предсказать, и может быть трудно оценить долгосрочные эффекты, если таковые имеются. «Напряжение» используется здесь в широком смысле и охватывает как повседневный дискомфорт, риск повторной травмы, так и более серьезное психическое напряжение, которое исследование может вызвать у участников.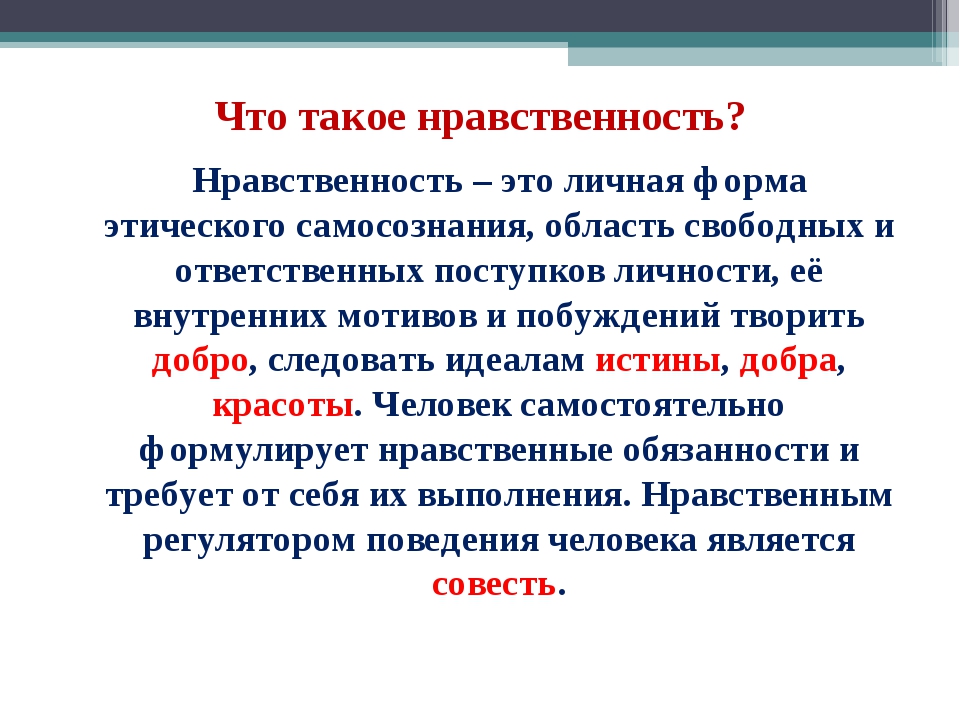 Тем не менее, исследователи несут ответственность за то, чтобы участники не подвергались серьезной или необоснованной боли или стрессу.
Тем не менее, исследователи несут ответственность за то, чтобы участники не подвергались серьезной или необоснованной боли или стрессу.
Риск возникновения незначительной нагрузки должен быть сбалансирован как с пользой исследования для общества, так и с ценностью для участников.Исследователи должны как можно более конкретно обосновать такую выгоду и ценность, в том числе и для вовлеченных сторон (посредством ретроспективной информации). Исследователи также должны гарантировать, что участвующим лицам предлагается профессиональное сопровождение для решения любых проблем, возникших в результате участия в проекте.
13 Уважение к третьим лицам
Исследователи должны учитывать и предвидеть последствия для третьих лиц, которые напрямую не участвуют в исследовании.
Интервью, архивные исследования и наблюдения часто приводят к тому, что исследователь получает доступ к информации о гораздо большем количестве людей, чем те, кто находится в центре внимания исследования.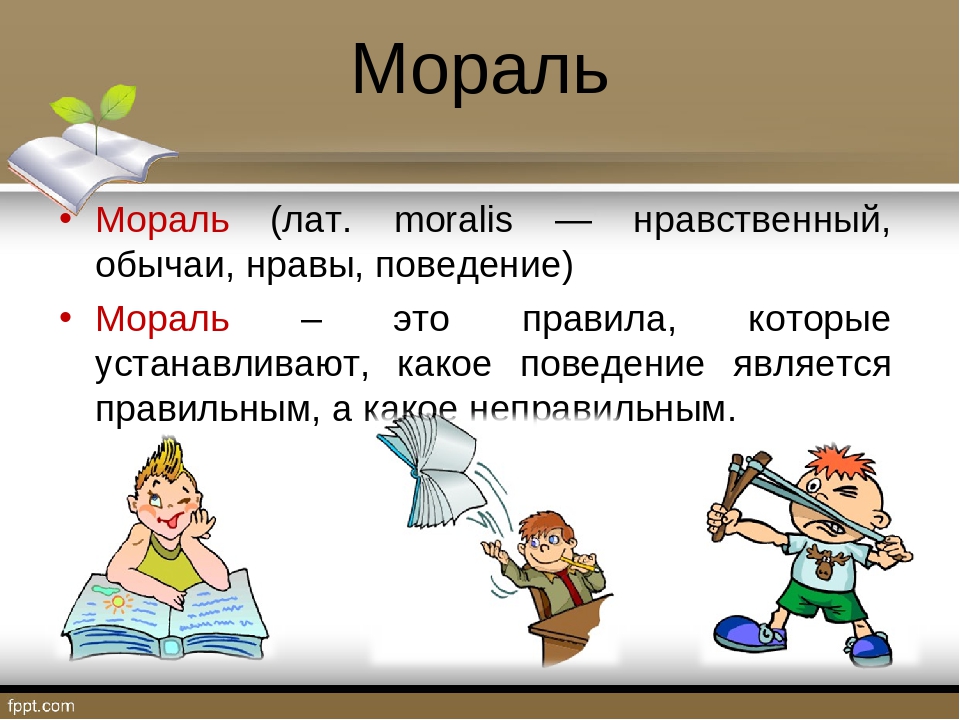 Исследование может повлиять на конфиденциальность и близкие отношения людей, которые не включены в исследование, но привлечены как стороны, тесно связанные с участниками. В некоторых случаях, например, когда исследователь наблюдает за группами и сообществами, может быть сложно защитить конфиденциальность лиц, которые не давали согласия напрямую или которые активно отказались, но, тем не менее, остаются в ситуации.Тем не менее, исследователи несут ответственность за защиту конфиденциальности тех лиц, на которых прямо или косвенно влияет исследовательский проект.
Исследование может повлиять на конфиденциальность и близкие отношения людей, которые не включены в исследование, но привлечены как стороны, тесно связанные с участниками. В некоторых случаях, например, когда исследователь наблюдает за группами и сообществами, может быть сложно защитить конфиденциальность лиц, которые не давали согласия напрямую или которые активно отказались, но, тем не менее, остаются в ситуации.Тем не менее, исследователи несут ответственность за защиту конфиденциальности тех лиц, на которых прямо или косвенно влияет исследовательский проект.
Исследования могут проводиться в небольших и прозрачных сообществах, и защита третьих лиц особенно важна в таких обстоятельствах. Исследователи должны учитывать возможные негативные последствия для третьих лиц. Это особенно важно, когда в исследовании косвенно участвуют уязвимые люди, такие как дети и несовершеннолетние.
В обществе, в котором результаты исследований используются для оценки и корректировки решений, может быть очень сложно предотвратить негативные последствия исследований для групп и организаций.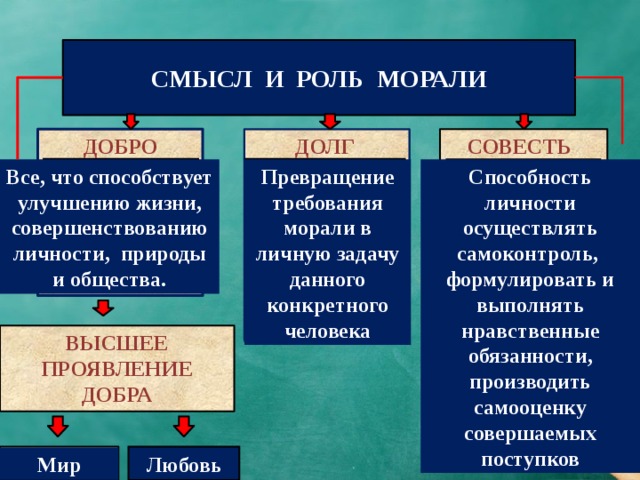 Исследователи должны знать о возможных непредвиденных последствиях своих исследований, например о том, что другие члены группы чувствуют себя необоснованно уязвимыми. Учет напряжения со стороны третьих лиц следует сравнивать с учетом критической функции исследования и поиска истины.
Исследователи должны знать о возможных непредвиденных последствиях своих исследований, например о том, что другие члены группы чувствуют себя необоснованно уязвимыми. Учет напряжения со стороны третьих лиц следует сравнивать с учетом критической функции исследования и поиска истины.
14 Защита детей
Дети и подростки, принимающие участие в исследованиях, имеют особое право на защиту.
Исследования, посвященные детям, их жизни и условиям жизни, ценны и важны. Дети и подростки являются ключевыми участниками этого исследования. Их особые потребности и интересы должны быть защищены способами, дополняющими общий подход к взрослым субъектам. Дети — это развивающиеся личности, у них разные потребности и способности на разных этапах.Исследователи должны знать о детях достаточно, чтобы иметь возможность адаптировать как свои методы, так и направление своих исследований к возрасту участников. О проекте и последствиях исследования должна быть предоставлена соответствующая возрасту информация, и они должны быть проинформированы о том, что участие является добровольным и что они могут отказаться от исследования в любое время. Согласие более проблематично для исследования детей, чем исследования взрослых. Дети часто более склонны подчиняться авторитету, чем взрослые, и часто чувствуют, что не могут возражать.Они также не всегда могут видеть последствия участия в исследованиях. [24]
Согласие более проблематично для исследования детей, чем исследования взрослых. Дети часто более склонны подчиняться авторитету, чем взрослые, и часто чувствуют, что не могут возражать.Они также не всегда могут видеть последствия участия в исследованиях. [24]
В целом несовершеннолетние, которым исполнилось 15 лет, могут дать согласие на сбор и использование их личных данных исследователями. Если ребенку меньше 15 лет, исследователи обычно должны получить согласие родителей или опекунов. Исключение составляют конфиденциальные личные данные, которые могут быть получены только с согласия родителей. В таких случаях также требуется разрешение органа по защите данных или рекомендация сотрудника по защите данных.[25]
При этом важно относиться к несовершеннолетним как к независимым лицам. Согласно Закону о детях, ребенку, достигшему семи лет, или детям младшего возраста, которые могут составить собственное мнение по какому-либо вопросу, должна быть предоставлена информация и возможность выразить свое мнение. Когда ребенок достигает двенадцатилетнего возраста, его или ее мнению нужно придавать большое значение. Помимо формального согласия родителей или опекунов, необходимо, чтобы дети сами принимали участие в той степени, в которой они могут это сделать.
Когда ребенок достигает двенадцатилетнего возраста, его или ее мнению нужно придавать большое значение. Помимо формального согласия родителей или опекунов, необходимо, чтобы дети сами принимали участие в той степени, в которой они могут это сделать.
Также могут быть конфликты интересов между детьми и их родителями или опекунами. В этом случае важно уточнить способность ребенка давать согласие от своего имени. В некоторых случаях может быть правильным позволить детям и подросткам участвовать в исследовании без согласия их родителей. Требование конфиденциальности особенно актуально, когда в исследованиях принимают участие дети. Однако могут возникнуть ситуации, когда от исследователей по закону или по этическим соображениям требуется предоставлять конфиденциальную информацию, будь то ближайшие родственники ребенка, взрослые помощники или служба защиты детей.Обязанность уведомлять применяется, например, если исследователи узнают, что дети подвергаются жестокому обращению, нападению или пренебрежению (см. Пункт 9).
Пункт 9).
15 Уважение частной жизни и семейной жизни
Исследователи должны уважать частную жизнь людей и их семейную жизнь. Участники имеют право проверять, доступна ли другим лицам конфиденциальная информация о них.
Уважение к частной жизни направлено на защиту людей от нежелательного вмешательства и воздействия. Это относится не только к эмоциональным проблемам, но и к вопросам, связанным с болезнью и здоровьем, политическими и религиозными взглядами и сексуальностью.
Исследователям следует быть особенно внимательными, когда они задают вопросы, касающиеся интимных вопросов, и избегать давления на участников. То, что участники воспринимают как конфиденциальную информацию, может варьироваться от одного человека или группы к другому.
Иногда бывает трудно отличить частную сферу от общественной, например, при проведении исследований в Интернете и через Интернет. При использовании материалов таких взаимодействий исследователи должны осознавать тот факт, что понимание людьми того, что является частным и что является публичным в таких СМИ, может различаться.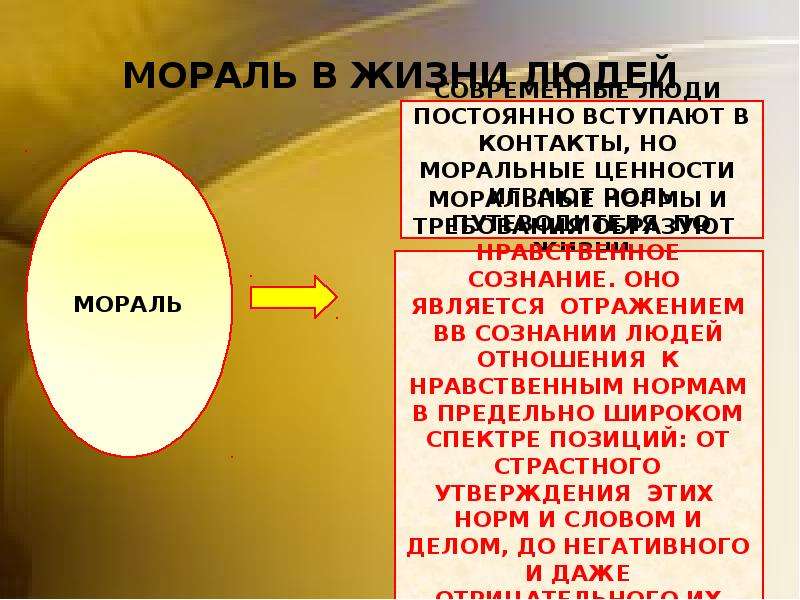 [26]
[26]
16 Уважение к ценностям и мотивам других людей
Исследователи не должны приписывать участникам иррациональные или недостойные мотивы без предоставления убедительной документации и обоснования. Исследователи должны проявлять уважение к ценностям и взглядам участников исследования, не в последнюю очередь в тех случаях, когда они отличаются от общепринятых в обществе в целом.
Исследования часто связаны с поведением и ценностями меньшинств, например религиозные группы, этнические меньшинства, молодежные группы или политические субкультуры.Некоторые люди могут посчитать это исследование навязчивым или оскорбительным. Исследователи должны серьезно относиться к пониманию самих себя участниками и избегать репрезентаций, ущемляющих их законные права.
Во многих исследовательских проектах в области гуманитарных и социальных наук, где действия часто используются в объяснениях, мотивы участников часто играют ключевую роль. Часто возникает неопределенность, связанная с исследованием мотивов, не в последнюю очередь, когда речь идет об исследованиях других культур или исторических периодов. Поэтому следует проводить четкое различие между описанием и интерпретацией или между документацией фактического хода событий и различными интерпретациями таких событий.
Поэтому следует проводить четкое различие между описанием и интерпретацией или между документацией фактического хода событий и различными интерпретациями таких событий.
В то же время мотивы участников часто напрямую связаны с их социальными ролями. Например, исследователи могут предположить, что политики стремятся к влиянию, руководители предприятий стремятся к прибыли или что существуют конфликты между поколениями. Требуются более веские доказательства, чтобы приписать участникам более необычные мотивы.Специальная документация и аргументация требуются для предоставления отчетов о действиях, которые приписывают участникам недостойные мотивы или мотивы, отличные от тех, которые они вызывают сами.
17 Уважение к посмертной репутации
Важно соблюдать осторожность при проведении исследований на умерших людях.
Уважение, документация и ответственность также требуются при проведении исследований умерших. Из уважения к умершим и возлюбленным исследователи должны осторожно подбирать слова.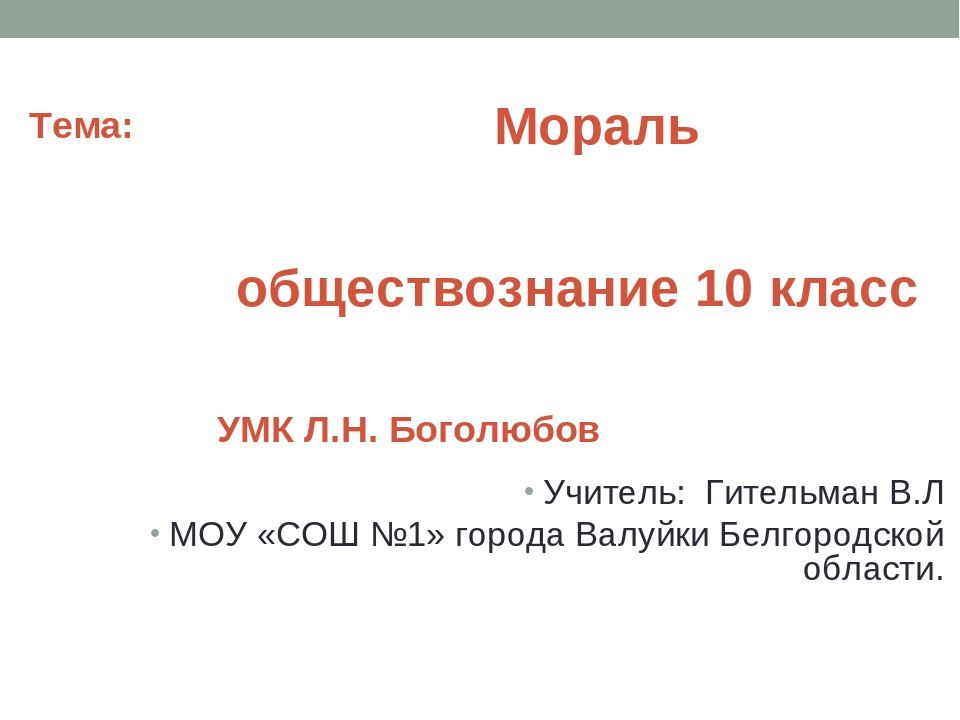 Архивы и документы, оставленные умершими людьми, также могут содержать конфиденциальные личные данные, и исследователи должны обращаться с информацией об умерших и их потомках с осторожностью и уважением. Исследователи должны проводить исследования могил и человеческих останков с уважением27.
Архивы и документы, оставленные умершими людьми, также могут содержать конфиденциальные личные данные, и исследователи должны обращаться с информацией об умерших и их потомках с осторожностью и уважением. Исследователи должны проводить исследования могил и человеческих останков с уважением27.
18 Определение ролей и обязанностей
Исследователи несут ответственность за объяснение участникам ограничений, ожиданий и требований, связанных с их ролью исследователей.
В ситуациях, когда исследователи относятся к участникам с различными способностями, они несут ответственность за определение границ своей роли и ответственности как исследователя. Примерами являются сочетание ролей исследователя и терапевта при оценке возможных курсов лечения или роли исследователя и учителя в учебной ситуации. Совместное наблюдение в полевых условиях может также привести исследователей к установлению дружеских и близких отношений с (некоторыми) участниками или студентами. Параллельные роли могут служить ценной цели в исследованиях, но использование информации, полученной благодаря таким параллельным ролям, также требует свободного и осознанного согласия, если используется в исследовательских целях.
Параллельные роли могут служить ценной цели в исследованиях, но использование информации, полученной благодаря таким параллельным ролям, также требует свободного и осознанного согласия, если используется в исследовательских целях.
C) Уважение к группам и организациям
19 Уважение частных интересов
Исследователи должны уважать законные причины, по которым частные компании, заинтересованные организации и т. Д. Могут не хотеть публиковать информацию о себе, своих членах или своих планах.
Для широкой публики может быть очень интересно узнать о том, как частные компании и заинтересованные организации действуют в обществе. Компании и организации не несут никаких юридических обязательств по предоставлению информации, за исключением случаев, когда к определенным типам информации применяются особые законодательные положения. Тем не менее такие учреждения должны предоставлять свои архивы для исследований. Если они отказывают в доступе, это необходимо соблюдать.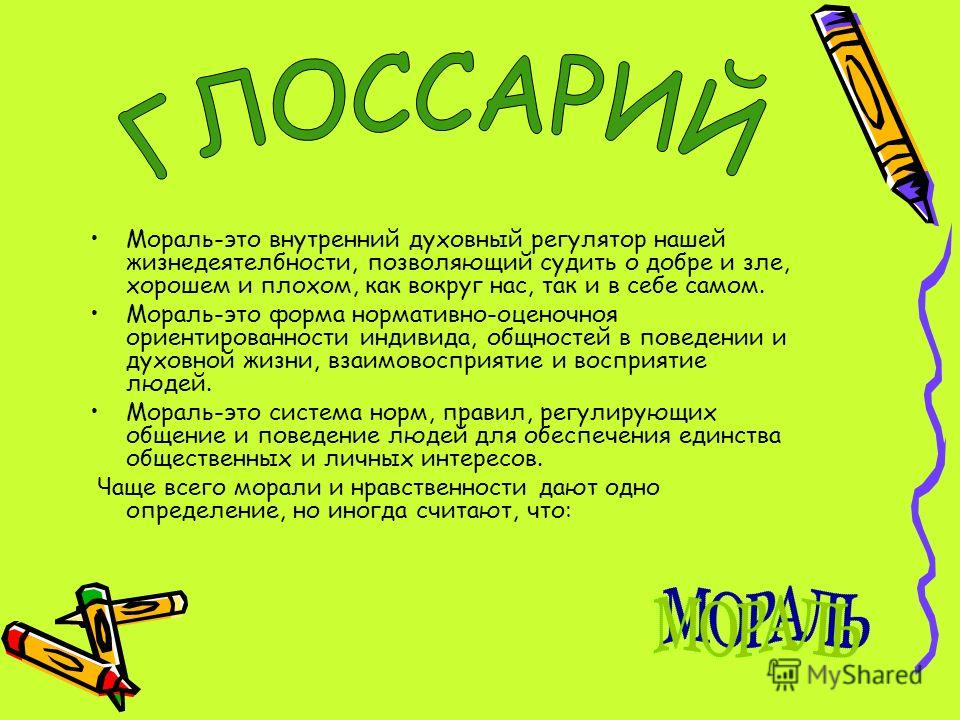
Исследователи, которые решили проводить исследования в организациях, которые выступают против исследования, должны соблюдать особые требования в отношении тщательной документации и использования методов.Могут возникнуть ситуации, когда у исследователей есть основания подозревать злоупотребления или серьезные нарушения закона. Продолжение исследования по-прежнему может быть этически приемлемым при условии, что насилие не может быть раскрыто или задокументировано каким-либо иным образом.
20 Уважение к государственному управлению
Государственные органы должны быть доступны для исследования своей деятельности.
Люди имеют законный интерес к тому, как функционируют социальные институты. Это означает, что исследователи должны иметь максимально возможный доступ к государственному управлению и органам.
Должна быть возможность исследовать публичные архивы. Доступ может быть ограничен со ссылкой на неприкосновенность частной жизни, превалирующие национальные интересы или национальную безопасность.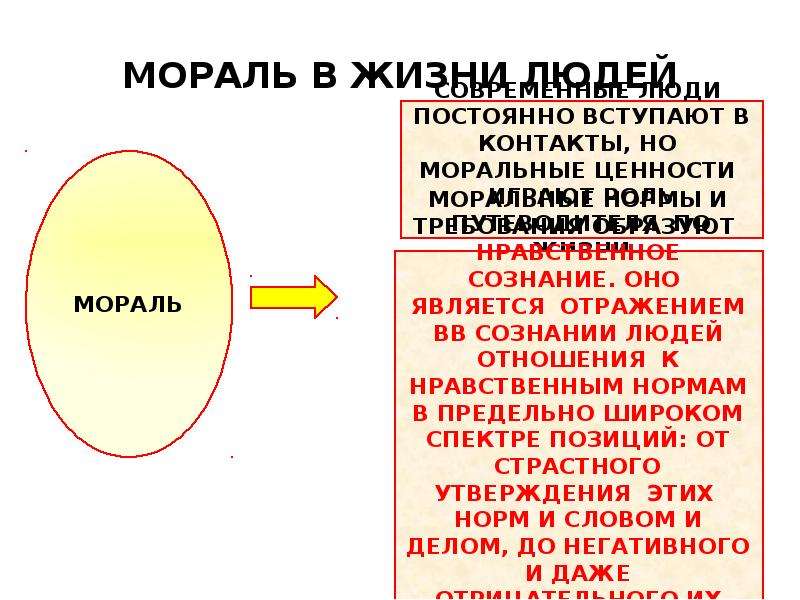 Классифицированный материал следует рассекретить, как только это будет целесообразно.
Классифицированный материал следует рассекретить, как только это будет целесообразно.
21 Уважение к уязвимым группам
Исследователи несут особую ответственность за уважение интересов уязвимых групп на протяжении всего исследовательского процесса.
Уязвимые и обездоленные люди и группы не всегда могут защищать свои интересы при общении с исследователями.Соответственно, исследователи не могут считать само собой разумеющимся, что обычные процедуры получения информации и согласия обеспечат самоопределение людей или защитят их от необоснованного напряжения.
Лица, принадлежащие к неблагополучным группам, могут не захотеть быть объектами исследования из-за опасений, что широкая публика будет их рассматривать в неблагоприятном свете. В таких случаях исследователи должны уделять особое внимание требованиям в отношении информации и согласия. С другой стороны, у общества есть законный интерес, например, в изучении условий жизни, измерении эффективности схем социального обеспечения или в намечении путей входа и выхода из деструктивного и антисоциального поведения.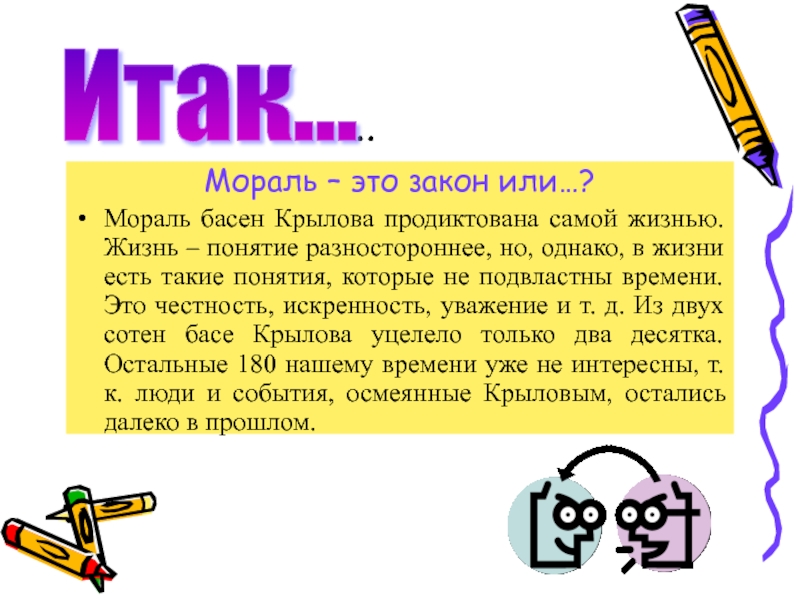 Иногда защита уязвимой группы приводит к обратным результатам. В действительности такие усилия могут служить для защиты общества в целом от понимания процессов, ведущих к дискриминации и отторжению.
Иногда защита уязвимой группы приводит к обратным результатам. В действительности такие усилия могут служить для защиты общества в целом от понимания процессов, ведущих к дискриминации и отторжению.
Исследователи, собирающие информацию о характеристиках и поведении отдельных лиц и групп, должны с осторожностью относиться к использованию классификации или обозначений, которые приводят к необоснованному обобщению и которые на практике приводят к стигматизации определенных социальных групп.
22 Сохранение памятников и памятников культуры
Исследователи должны уважать необходимость сохранения всех типов культурных памятников и останков.
Потребность в сохранении мест, памятников, артефактов, текстов, архивов, останков и информации о прошлом основана на заинтересованности нынешнего и будущих поколений в познании своей собственной истории и культуры, а также истории и культуры других. [28] Когда исследователи обращаются с человеческими останками из археологических раскопок, они должны особенно помнить об этических проблемах, связанных с исследованиями этого типа материалов. Человеческие останки, датируемые до Реформации (1537 г.), и останки саамов, возраст которых превышает 100 лет, автоматически охраняются в соответствии с Законом о культурном наследии. За некоторыми исключениями, другие останки периода после Реформации не получают этой защиты. Остатки после 1537 года также могут представлять большой интерес для исследования. Следовательно, более поздние останки археологических раскопок также должны быть защищены, чтобы предоставить исходный материал для будущих поколений [29].
Человеческие останки, датируемые до Реформации (1537 г.), и останки саамов, возраст которых превышает 100 лет, автоматически охраняются в соответствии с Законом о культурном наследии. За некоторыми исключениями, другие останки периода после Реформации не получают этой защиты. Остатки после 1537 года также могут представлять большой интерес для исследования. Следовательно, более поздние останки археологических раскопок также должны быть защищены, чтобы предоставить исходный материал для будущих поколений [29].
Перспективы и исследовательские интересы меняются от поколения к поколению.Это означает, что также должна быть сохранена информация о нашем времени, чтобы будущие поколения могли проводить исследования. Исследования, разрушающие исходный материал, вызывают особые этические соображения. Ценность полезности должна быть сопоставлена с тем, насколько исследование разрушает или изменяет материал. Мы должны проводить исследования таким образом, чтобы позволить будущим поколениям исследователей узнать, что они считают важным.
Исследователи и исследовательские учреждения не должны участвовать в грабежах, краже или сомнительной торговле охраняемыми артефактами.Особого внимания требует уважение к происхождению исследовательских материалов [30]. Исследователи, музеи и исследовательские учреждения должны проявлять должную заботу и не приобретать (для себя или других) охраняемые объекты и исходный материал по истории культуры, которые не были получены прозрачным, честным и поддающимся проверке способом для исследовательских целей. Следует избегать исследований материалов, происхождение которых оспаривается. При проведении исследования таких материалов исследовательские институты и специалисты несут особую ответственность за прозрачность в отношении происхождения.
23 Исследования других культур
Особое требование исследования других культур — это диалог с представителями изучаемой культуры.
При проведении исследований других культур важно знать местные традиции, традиционные знания и социальные вопросы. По возможности исследователи должны вступать в диалог с местными жителями, представителями данной культуры и местными властями.Интерес к совместному определению или контролю на местном уровне может вступить в противоречие с требованиями исследования в отношении качества и беспристрастности. Это предъявляет высокие требования к инициированию, планированию и выполнению исследовательских проектов. При проведении исследований в других культурах, будь то в других странах или в культурах меньшинств, исследователи должны избегать использования классификации или обозначений, допускающих необоснованное обобщение.
Подобные соображения также применимы к историческим исследованиям, в которых время прошло после рассматриваемых событий.Исследователи должны избегать обесценивания людей из прошлых культур и исторических периодов. Здесь, как и в других обстоятельствах, исследователи в области гуманитарных и социальных наук должны проводить четкое различие между документацией и оценкой.
24 Пределы культурного признания
Исследователи должны найти баланс между признанием культурных различий и признанием других фундаментальных ценностей и общих прав человека.
Уважение и лояльность к культурам, в которых проводится исследование, не означает, что необходимо принимать такие аспекты, как дискриминация и насилие на почве культурных ценностей.При проведении нормативного анализа таких ситуаций исследователь должен проводить четкое различие между описанием норм и практик в изучаемой культуре и нормативным обсуждением этих факторов, связанных с конкретными ценностями.
Исследователь должен проявлять особую осторожность при исследовании таких явлений, как культурно мотивированные нарушения жизни и здоровья или нарушения других прав человека.
D) Исследовательское сообщество
25 Соавторство
Исследователи должны соблюдать надлежащую практику публикации, уважать вклад других исследователей и соблюдать признанные стандарты авторства и сотрудничества.
Академические публикации имеют решающее значение для обеспечения открытости и подотчетности исследований. В то же время издательское дело порождает различные этические проблемы и дилеммы. Для исследовательского сообщества характерна сильная конкуренция и большое давление с целью публикации, что часто оказывает давление на признанные нормы исследовательской этики. Например, норма оригинальности может легко вступить в противоречие с нормой смирения, а различия во власти и власти могут легко вступить в конфликт с честностью и беспристрастностью.Соавторство также связано с распределением ответственности между разными участниками.
В принципе, законное авторство определяют четыре критерия. Все они должны быть выполнены, как указано в рекомендациях Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE):
- Исследователь должен был внести существенный вклад в концепцию и дизайн, или сбор данных, или анализ и интерпретацию данных; и
- исследователь должен был внести свой вклад в составление рукописи или критическую переработку интеллектуального содержания публикации; и
- исследователь должен утвердить окончательную версию перед публикацией; и
- исследователь должен быть в состоянии принять на себя ответственность и нести ответственность за работу в целом (хотя и не обязательно за все технические детали), если не указано иное.[31]
В гуманитарных и социальных науках принято требовать, чтобы соавторы действительно помогали в написании и завершении рукописи. Только те, кто действительно способствовал анализу и написанию научной работы, могут считаться соавторами. Другими словами, недостаточно внести свой вклад в интеллектуальную работу над статьей в широком смысле, например, сочетание сбора данных, критического пересмотра и утверждения конечного продукта. Других участников следует указать или поблагодарить в сносках или заключительном примечании (Благодарности).
Все формы почетного авторства недопустимы. Авторство должно быть ограничено лицами, внесшими значительный интеллектуальный вклад в исследование. Общие рекомендации, предоставление финансирования или сбор данных сами по себе не могут претендовать на соавторство.
Необходимо как можно раньше в процессе исследования, не в последнюю очередь в крупных и междисциплинарных исследовательских проектах, договориться о том, кто будет указан в качестве соавторов публикации, и как распределить обязанности и задачи между ними. авторы.
26 Надлежащая практика цитирования
Все исследователи и студенты обязаны соблюдать надлежащую практику цитирования. Это предварительное условие для критического изучения и важно для проведения дальнейших исследований.
Исследователи и студенты обязаны давать точные ссылки на литературу, которую они используют, будь то первичная или вторичная литература. Это должно быть учтено явно, в том числе при повторном использовании текста из собственных публикаций (так называемое «дублирование» или, что более ошибочно, именуется «самоплагиатом») в форме надлежащего цитирования, например, в предисловии или в сноски.Когда исследователи и студенты получают информацию из источников, не относящихся к их исследованиям, таких как общедоступные документы или Интернет, они должны предоставить точные ссылки, которые позволят отследить информацию до источника. Ссылки обычно должны указывать главы или страницы, чтобы другие люди могли проверить цитаты и ссылки. Это позволяет критически изучить утверждения и аргументы, в том числе то, как используются источники.
Как научные дисциплины, так и исследовательские учреждения несут ответственность за установление и распространение правил для надлежащей практики цитирования, а также за формирование понимания этих норм, обеспечение соблюдения и реагирование на неправомерные действия.Каждый исследователь или студент должен добросовестно проводить свои исследования и честно обращаться со своими источниками. Руководители несут особую ответственность за то, чтобы следить за знаниями студентов и их отношением к этике исследований, чтобы они могли применять передовые методы цитирования в будущей работе. [32]
27 Плагиат
Плагиат недопустим и представляет собой серьезное нарушение признанных норм исследовательской этики.
Плагиатор подрывает не только свою репутацию исследователя, но и доверие к исследованию.И исследователи, и исследовательские учреждения несут ответственность за предотвращение плагиата.
Плагиат в исследовательской этике — это брать что-то у кого-то и представлять это как собственное без правильного цитирования их источников. Плагиат нарушает принцип правдивости в науке, а также требования оригинальности, скромности и коллегиальности. Исследователи, которые опираются на работы других, должны ссылаться на свои источники в соответствии с передовой практикой.
Самый очевидный вид плагиата — это чистое дублирование.Тем не менее, плагиат может принимать другие формы, например использование идей, гипотез, концепций, теорий, интерпретаций, схем, иллюстраций, результатов и т. Д. Цитирование другой работы в начале собственного текста и последующее широкое использование ее без последующего цитирования также может быть плагиатом.
Важно различать прямые кавычки и перефразирование в сносках и концевых сносках, а также в тексте. Перефразирование не должно быть настолько близко к исходному тексту, чтобы на самом деле представлять собой цитату.Если несколько перефразирований связаны, вся интерпретация и аргументация могут быть основаны на работе других. Если да, то это также может быть плагиатом.
28 Научная честность
И исследователи, и исследовательские учреждения должны продвигать нормы надлежащей научной практики.
Научная честность — это поддержание и соблюдение надлежащей научной практики.
Неправомерное поведение — серьезное нарушение хорошей научной практики, связанное с коллективной приверженностью поиску истины.Исследователи обязаны быть правдивыми, а нарушение научной дисциплины подразумевает введение других в заблуждение посредством лжи, сокрытия или искажения информации. Наиболее серьезными примерами неправомерных действий являются фабрикация и фальсификация данных и плагиат. [33] Норма научной честности в полной мере применяется ко всем типам исследований и на всех этапах исследовательского процесса.
Учреждения должны иметь процедуры, которые способствуют честности и предотвращают неправомерные действия. Учреждения также должны иметь процедуры для рассмотрения подозрений и обвинений в нарушениях научной этики.
Университеты, университетские колледжи и другие учебные заведения несут особую ответственность за то, чтобы студенты и другие лица получали подготовку в области исследовательской этики и научной добросовестности. Это означает, что нормы надлежащей практики цитирования и надлежащей научной практики должны передаваться в процессе обучения и супервизии на протяжении всей академической карьеры студентов, и что признанные исследователи должны служить хорошими образцами для подражания в их обучении и исследованиях.
29 Обмен данными
Исследовательский материал должен быть доступен другим исследователям для вторичного анализа и дальнейшего использования.
Обмен данными исследований часто является предпосылкой для накопления знаний, сравнения результатов и критического тестирования работы других. Повышение открытости и гарантии качества может быть достигнуто путем обмена данными [34]. В то же время обмен данными порождает этические проблемы, касающиеся конфиденциальности и конфиденциальности. Следовательно, нормы прозрачности и обмена данными, особенно в крупномасштабных исследованиях реестра, должны быть сбалансированы с другими соображениями и требованиями этики исследований.
Как правило, лица, ответственные за сбор материала, имеют преимущественное право использовать его в анализах и в публикациях. Данные, полученные с помощью государственного финансирования, должны стать общедоступными через короткий период времени.
30 Беспристрастность
И исследователи, и исследовательские учреждения обязаны сообщать и рассматривать возможные конфликты интересов и ролей.
Все исследователи обязаны соблюдать требования в отношении своей беспристрастности и беспристрастности других лиц.Пристрастность может сделать исследования менее надежными и независимыми, например, из-за предвзятых публикаций или выборочного освещения. Исследователи не могут принимать участие в процессах, связанных с утверждением, финансированием или оценкой их собственных исследований или последствий этого исследования. Исследователи также не могут принимать участие в оценке мер, в разработке или реализации которых они участвовали или которые являются результатом их собственных исследований.
За соблюдение требований беспристрастности несут ответственность не только исследователи, но и исследовательские учреждения.Исследовательские учреждения должны в обычном порядке поднимать вопрос о беспристрастности и потенциальных конфликтах интересов в вопросах, где это актуально. Учреждения и исследовательское сообщество в целом должны стремиться к открытости и обсуждению вопросов беспристрастности.
Этические соображения часто имеют более широкий охват, чем чисто юридические правила и требования беспристрастности [habilitet]. [35] Конфликт интересов может снизить качество исследования, в том числе косвенно, когда лица, являющиеся сторонами или заинтересованными сторонами, высказывают свое мнение, не принимая участия в исследовании.В других случаях важна не только достоверность исследования, но и требование, чтобы оно было объективным. Если есть основания поставить под сомнение беспристрастность исследователя или если у исследователя есть возможный конфликт интересов, это может подорвать доверие к исследованию как в академическом сообществе, так и среди общественности в целом.
31 Отношения с коллегами
Исследования должны проводиться в соответствии с нормами исследовательской этики, например, в отношении открытости, справедливости и самокритики, тем самым способствуя развитию исследовательской культуры, которая способствует хорошему исследованию.
Исследовательские учреждения должны создавать условия для исследовательской культуры, способствующей качественным исследованиям. Они должны стремиться поддерживать культуру, основанную на конструктивном дискурсе и управлении коллегиальными разногласиями. Они должны поощрять хорошо сбалансированный набор исследователей. Критику нельзя заглушать ссылками на обязательства лояльности или требования повиновения. Необходимо поддерживать справедливость, например, требование избегать тенденциозного толкования работы исследователей, чьи взгляды отличаются от ваших собственных.Посредством обмена информацией и конструктивной критики исследователи должны гарантировать, что исследования их группы являются как можно более хорошими. Исследовательские сообщества должны поддерживать высокие методологические стандарты и поощрять справедливое обсуждение приложений и ограничений различных методов и аналитических приемов.
Хорошая исследовательская культура характеризуется исследователями, которые читают работы друг друга и высказывают друг другу положительную и отрицательную критику. Это нарушение этических норм, если исследователи оставляют при себе серьезную критику существующих исследований и не представляют ее в соответствующих кругах, чтобы гарантировать, что проблематика рассматривается со всех сторон.Это соответствует научной норме систематического и организованного скептицизма. Соответствующие круги могут распространяться на более широкую публику, чем сообщество специалистов.
Большинство дисциплин характеризуются конкурирующими школами мысли и разногласиями по фундаментальным вопросам научной теории. Лица, ответственные за академическую оценку работы других, должны быть готовы серьезно рассматривать аргументы и способы мышления, признанные в других исследовательских традициях, кроме их собственной.Академические оценки должны характеризоваться профессиональной тщательностью, справедливостью и открытостью. Исследователи часто участвуют в оценках академических должностей. Они оценивают кандидатские и докторские диссертации, заявки на проекты, журнальные статьи и т. Д. В таких условиях оценщик должен проверить свою беспристрастность и работать профессионально и объективно.
32 Отношения ученика и руководителя
Супервайзеры обязаны действовать в лучших интересах студентов и не использовать свою зависимость.Это касается академических результатов и личных дел.
Супервайзеры должны осознавать асимметрию надзорной ситуации и не использовать в своих интересах свои академические полномочия или использовать свои полномочия таким образом, чтобы вызвать нарушение студента. Руководители не должны пользоваться зависимостью студентов.
Если научный руководитель желает использовать в своем собственном исследовании материал из работы, которую студент еще не завершил, научный руководитель и студент должны договориться об этом.Если студент собрал материал лично, его следует использовать только после того, как студент закончит с материалом, обычно после сдачи экзамена. Вуз должно составить типовой договор на эту ситуацию. Руководители должны применять надлежащую практику цитирования при использовании материалов и работ студента. Супервайзеры должны также обратить внимание на то, как другие используют работу студентов, прежде чем она будет завершена, и, если уместно, как следует указать вклад супервайзера. Точно так же студенты должны применять хорошие практики цитирования по отношению к своим руководителям.
В ситуации надзора могут возникнуть двойные отношения, что приведет к снижению беспристрастности при оценке работы кандидата. Должна быть защищена неприкосновенность руководителя так же, как и честность кандидата. Ни у кого не должно быть возможности ставить под сомнение границу между личными и профессиональными вопросами или беспристрастность руководителя. Если отношения между супервизором и кандидатом становятся слишком тесными, общее правило состоит в том, что супервизор должен уйти с должности.
33 Обязанности кураторов и руководителей проектов
Супервайзеры и менеджеры проектов должны взять на себя ответственность за проблемы исследовательской этики, с которыми сталкиваются студенты или члены проектной группы.
Супервайзеры и менеджеры проектов также несут ответственность за учет участников и других лиц, на которых влияют проекты студентов и членов проектной группы. Они должны взять на себя ответственность за решение проблем, которые могут возникнуть у тех, кто проводит проект, особенно если проведение исследования становится для них особенно стрессовым или проблематичным.Супервайзеры и менеджеры проектов также несут общую ответственность за распространение результатов проектов. Эта ответственность также включает решение проблем, связанных с исследовательской этикой.
E) Заказные исследования
34 Различные виды исследований
И исследователи, и исследовательские учреждения должны гарантировать, что финансирование и организация исследований не противоречат нормам открытых, надежных и независимых исследований.
Общая ответственность исследовательской политики заключается в поддержании баланса между различными типами исследований, как между разными дисциплинами, так и между заказными исследованиями и исследованиями, проводимыми исследователями (чистыми и прикладными исследованиями).Различные типы финансирования и организации порождают различные проблемы этики исследования и дилеммы во взаимоотношениях между наукой и обществом. Многие из проблем, которые раньше ограничивались заказными исследованиями, касающимися таких норм, как открытость, подотчетность и независимость, сегодня могут быть в равной степени актуальны и для других типов исследований.
Исследовательские сообщества взаимодействуют с обществом в целом. Когда общество финансирует исследования, это происходит потому, что оно ожидает чего-то взамен.Ожидания общества относительно полезности и актуальности не противоречат требованию о том, что исследования должны быть бесплатными и независимыми, но это требует прозрачности в отношении условий контракта, собственности, конфиденциальности и права на публикацию.
Знания — это коллективное благо, и если исследования станут слишком приватизированными, это будет препятствовать как развитию знаний, так и вкладу исследований в общество. В то же время исследования по заказу, в которых внешние руководители принимают решение по предмету, являются важной частью совокупного развития знаний общества.По этой причине должен быть баланс между заказными исследованиями и исследованиями, проводимыми исследователями. Спонсоры исследований должны быть осведомлены об установленных стандартах организации исследований и составления отчетов. [36]
35 Заказные исследования
И государственные, и частные уполномоченные имеют законное право устанавливать параметры для исследовательских заданий, если эти параметры не противоречат другим требованиям, предъявляемым к исследованиям.Однако это не освобождает исследователей и исследовательские учреждения от их доли ответственности за соглашения, которые они подписывают с уполномоченными.
Исследователи и исследовательские институты не просто сообщают о своих собственных результатах; они также представляют доверие к исследовательскому сообществу как надежному источнику знаний. Уполномоченный имеет право управлять или влиять на рассматриваемую тему и вопросы, но не на выбор метода, результатов или выводов, сделанных исследователем на основе результатов.И исследователи, и исследовательские учреждения имеют право и обязаны указывать на неопределенности и ограничения исследования, например, когда результаты должны использоваться при принятии политических решений.
36 Ответственность исследователей в крупных проектах
Исследователи, принимающие участие в крупных исследовательских проектах, несут общую ответственность за эти проекты. Должно быть ясно, какой вклад внес отдельный исследователь в исследовательский проект.
Когда исследование организовано в большие, иерархически управляемые проекты, отношения между отдельными исследователями и руководством проекта аналогичны отношениям между исследователем / исследовательским учреждением и уполномоченным.Если исследователи сталкиваются с конфликтом между лояльностью к учреждению или проекту и этически приемлемым подходом, основной принцип заключается в том, что отдельный исследователь несет ответственность за свое участие. Исследователи также несут ответственность за раскрытие обстоятельств, неприемлемых с точки зрения исследовательской этики.
Авторское право и право на публикацию должны регулироваться явными соглашениями. Это также относится к отношениям между уполномоченным, исследовательским учреждением и исследователем в связи с заказанными исследованиями и отчетами.
37 Независимость и конфликт интересов
И исследователи, и исследовательские учреждения должны сохранять свою независимость по отношению к своим руководителям.
И исследователи, и исследовательские учреждения не должны попадать в зависимость от своих уполномоченных. Зависимость может подорвать их беспристрастность и научное качество исследования. Это особенно верно, если один уполномоченный отвечает за существенную часть финансирования исследователя или исследовательского учреждения.Поэтому важно, чтобы у исследователя / учреждения и уполномоченного не было совпадения интересов до такой степени, что они угрожали бы независимости исследования (угроза имущественного интереса). Продажа консультационных или консультационных услуг субъектам, которые также заинтересованы в исследовании, дающем конкретный результат, может увеличить угрозу имущественного интереса.
Нефинансовые факторы также могут угрожать независимому исследованию. Личные связи через семейные отношения или в результате долгосрочных связей между исследовательским учреждением / исследователем и теми, кто принимает участие в исследовательских проектах, могут привести к зависимости по нескольким причинам.Эти связи могут привести к тому, что исследование будет использоваться для продвижения взглядов и интересов определенных сторон (угроза репрезентативной стороны), или это может привести к недостаточному расстоянию между исследователем и участниками (угроза конфиденциальности), или это может привести к к угрозе независимости, потому что участники находятся в положении, в котором они могут влиять на исследователя (угроза давления).
В некоторых ситуациях роль независимого исследования может вступать в противоречие с другими ролями исследователя, например советником или консультантом.Если исследователь принимает задание, которое может подорвать доверие к учреждению, необходимо как минимум сообщить о ситуации. В некоторых ситуациях конфликт между ролями будет настолько сильным, что роли не следует совмещать.
38 Прозрачность финансирования исследований
И исследователи, и уполномоченные обязаны сделать это публично известным, кто финансирует исследование.
Должно быть ясно, кто финансирует исследование. Прозрачность в отношении финансирования помогает исследователям защитить себя от ненадлежащего давления и, таким образом, обеспечить свободу и независимость исследований.Более того, у уполномоченных есть разумные основания утверждать, что их финансирование исследований публично известно.
Когда исследователи собираются публиковать и использовать результаты, они несут независимую ответственность за то, чтобы быть открытыми и прозрачными в отношении всех связей (уполномоченных и финансирования и т. Д.), Которые могут иметь отношение к достоверности проведенного исследования / отчетности.
39 Представление и использование результатов
И исследователи, и уполномоченные несут ответственность за недопущение введения в заблуждение результатов исследований.Неэтично ограничивать предмет исследования с целью получения особенно желаемых результатов или представлять результаты исследования в намеренно искаженном виде.
Уполномоченные не могут скрывать результаты исследований таким образом, чтобы опубликованные результаты давали искаженную картину одного или нескольких обстоятельств. Исследователи должны быть защищены от ненадлежащего давления со стороны уполномоченного с целью сделать определенные выводы, и в определенных ситуациях они должны ссылаться на свое право отказаться от выполнения заданий.
Уполномоченные должны согласиться с тем, что исследователи имеют право обсуждать свои полномочия в рамках исследовательской отчетности: например, указывать на то, что точки зрения, интерпретации или соображения очевидной профессиональной или практической значимости не включены в полномочия. Требования к исходному материалу и обоснованному обоснованию особенно важны, когда исследование может иметь последствия для репутации или целостности отдельных лиц или групп или когда оно может повлиять на политические решения.В таких случаях для исследователей особенно важно обсудить альтернативные интерпретации своих результатов или указать на научную неопределенность. Если результаты используются уполномоченным выборочно или тенденциозно, исследователи обязаны указать на это и потребовать исправления вводящей в заблуждение презентации.
40 Право и обязанность публиковать
Знания — это коллективный товар, и, как правило, все результаты должны публиковаться. Это также важно для критического изучения или повторного использования результатов.
Как правило, исследователи имеют право и обязаны публиковать полные описания и результаты исследовательских проектов. Это может быть важно как для предотвращения выборочного или искаженного представления результатов исследований, так и для предоставления другим пользователям возможности проверить результаты.
Однако частные компании и государственные учреждения могут иметь законное желание защитить себя и свои интересы. Как стратегии переговоров, так и интересы национальной безопасности могут диктовать, что публикацию следует отложить или, в особых случаях, не публиковать результаты.За исключением таких ситуаций и соображений конфиденциальности, члены комиссии и исследователи должны стремиться обеспечить доступ общественности к результатам. Любые ограничения права на публикацию должны быть оговорены в контракте в начале проекта.
F) Распространение исследований
41 Распространение как академическая обязанность
Исследователи и исследовательские учреждения обязаны распространять научные знания среди более широкой аудитории за пределами исследовательского сообщества.
Распространение исследований включает в себя передачу научных результатов, методов и ценностей из специализированных областей исследования людям, не связанным с конкретными дисциплинами. Распространение может быть нацелено на исследователей в других дисциплинах или на более широкую аудиторию. Это может быть вопрос распространения устоявшихся представлений о дисциплине или результатов более поздних исследований.
Связь между исследованиями и отчетностью особенно тесна в гуманитарных и социальных науках, где научные публикации часто также являются формой распространения.В некоторых случаях нет даже четкой границы между исследованием и распространением, потому что знания опосредуются как часть публичных дебатов, которые, в свою очередь, влияют на вопросы и ответы исследования.
Одной из основных причин распространения результатов исследований является удовлетворение интеллектуального любопытства широкой публики. Распространение информации также важно для хорошо функционирующего демократического общества. Распространение должно способствовать сохранению и развитию культурных традиций, информированию общественности и распространению знаний, имеющих отношение к обществу.Общество вложило большие суммы в исследования, а значит, имеет право делиться результатами.
42 Требования к физическим и юридическим лицам
Научно-исследовательские учреждения должны создавать условия для широкого и широкого распространения исследований высокого качества и актуальности.
Распространение исследований предъявляет этические требования как к отдельным лицам, так и к учреждениям.
Университеты и университетские колледжи несут особую ответственность за распространение знаний, результатов, научных норм и ценностей как при обучении студентов, так и в отношении государственного управления, культурной жизни, бизнеса и промышленности.37 Учреждения должны способствовать распространению информации, например, при назначении сотрудников, в обучении или посредством финансовых стимулов. Учреждения также должны поощрять распространение в различных сферах и посредством новых видов обучения, обмена знаниями и дискурса, будь то через средства массовой информации, серии лекций, конференции для неакадемических ученых или через публичные слушания.
Распространение результатов исследований также связано со свободой выражения мнений и требованиями к инфраструктуре в статье 100 Конституции Норвегии: «Власти государства должны создавать условия, которые способствуют открытому и просвещенному публичному дискурсу.»38 Также академические сообщества должны вносить свой вклад в эти публичные дискуссии. Конституционные демократии с хорошо функционирующим государственным управлением и рыночной экономикой зависят от сфер гражданского общества, которые в первую очередь характеризуются не принципами прибыльности и логики управления, а принципом, согласно которому следует учитывать аргументы.
Университеты и университетские колледжи также несут ответственность за поддержание и дальнейшее развитие норвежского языка как академического.39 Норвежский академический язык важен для распространения результатов как среди участников, так и среди широкой публики, а также в публичном дискурсе.
Хорошее распространение требует взаимодействия и сотрудничества между исследовательскими учреждениями и другими учреждениями, такими как средства массовой информации, школы, художественные учреждения, сообщества с различными убеждениями и добровольные ассоциации. Распространение может происходить с различным участием исследователей и других лиц (например, журналистов и учителей) и может быть письменным, устным или основанным на других подходах (таких как выставки и электронные средства массовой информации).Все, кто принимает участие в таком распространении, подчиняются одним и тем же нормам исследовательской этики.
43 Междисциплинарный дискурс и общественное обсуждение
Важная часть распространения исследований в современном обществе возникает из взаимодействия между специалистами в различных академических дисциплинах и общественного дискурса.
Многие из основных проблем, с которыми сталкивается общество, например, в области экологии, глобализации и прав человека, требуют междисциплинарного сотрудничества и интеграции академических знаний из ряда областей.Следовательно, существует острая необходимость в переводе и передаче знаний как по разным дисциплинам, так и для более широкой общественности. Создание междисциплинарных форумов в исследовательских учреждениях обеспечивает хорошую основу как для дискуссий между специалистами, так и для распространения среди широкой общественности.
Междисциплинарный дискурс может определить основные требования, предъявляемые к культуре академического дискурса. Исследователи должны выражаться достаточно ясно, чтобы коллеги из других областей и другие участники дискурса заняли аргументированную позицию по своим утверждениям.Как и в случае внутренних академических дискуссий, представление вкладов других не должно быть тенденциозным, а лица, придерживающиеся других мнений, не должны иметь необоснованных взглядов, ложно приписываемых им.
Распространение должно быть четким и ясно выражать как академическую неопределенность, так и ограничения отдельных дисциплин. Исследователи должны четко обозначить ограничения с точки зрения их собственной дисциплины и опыта в рассматриваемой области, что может облегчить читателям и широкой публике определение того, могут ли другие дисциплинарные точки зрения привести к другим интерпретациям.Такие междисциплинарные и межведомственные обсуждения могут служить своего рода расширенной экспертной оценкой.
44 Участие в общественных дебатах
Исследователи должны вносить научные аргументы в общественную дискуссию. Исследователи должны выражаться честно и ясно, чтобы избежать тенденциозной интерпретации результатов исследования.
Когда исследователи принимают участие в публичных дебатах, они используют академический опыт как основу для своего вклада в формирование общественного мнения.Они могут вносить информацию в обсуждаемую область, они могут занимать аргументированную позицию по спорным темам или могут стремиться внести новые темы в общественную повестку дня.
Исследователи обязаны выражать свои мысли ясно и точно, чтобы их исследования не могли быть интерпретированы тенденциозно или неправильно использованы в политическом, культурном, социальном и экономическом контекстах. Исследователи также должны участвовать в обсуждениях разумных интерпретаций и оправданного использования результатов исследования.Другие организации и учреждения, такие как отделы по связям с общественностью, средства массовой информации, политические партии, заинтересованные организации, предприятия и административные органы, также несут ответственность за разумное и приемлемое поведение в этом контексте.
Участие в публичных дебатах требует справедливости, аргументации и ясности. Между участием в качестве исследователя и участием в качестве гражданина могут быть серые зоны. Исследователи должны указывать свою дисциплину, а не только свою степень или должность, когда действуют в качестве эксперта.Когда ученые принимают участие в качестве граждан, они не должны использовать свои звания или ссылаться на специальные академические знания.
45 Ответственность за распространение
Требование подотчетности одинаково жесткое при распространении и публикации.
Нельзя ожидать, что аудитория популяризированных академических презентаций сможет проверить утверждения, сделанные специализированными исследователями. Соответственно, требование подотчетности столь же строгое при распространении, как и в академических публикациях.
Сноски / концевые сноски и списки литературы могут показаться громоздкими, но они также могут помочь заинтересованному читателю ориентироваться в большом объеме литературы. Также важно помнить, что специалисты других дисциплин являются частью соответствующей аудитории.
Исследователи могут делиться с общественностью гипотезами, теориями и предварительными выводами в ходе проекта, но должны с осторожностью представлять предварительные результаты в качестве окончательных.
46 Отчетность участникам
На исследователей возложена особая обязанность сообщать участникам о результатах в понятной и приемлемой форме.
Участники исследования имеют право получить что-либо взамен. Это также относится к исследованиям, в которых задействованы большие группы информаторов. Распространение результатов исследования может помочь удовлетворить это требование, когда прямой контакт с каждым участником невозможен.
Участники также должны иметь возможность исправить недопонимание там, где это возможно. Диалог между исследователями и участниками в ходе исследовательского проекта часто может укрепить исследование.Исследователи должны представить результаты таким образом, чтобы основные выводы и идеи были переданы в понятной для участников манере.
Список литературы
[1] NESH, Руководство по этике исследований в социальных, гуманитарных, юридических и богословских науках, Осло (1993), 2016 г.
[2] На международном уровне первые два обычно связаны с термином «целостность исследований» (RI), а последние два — с более широким термином «ответственные исследования и инновации» (RRI).
[3] NESH, Этические рекомендации по исследованию останков человека, Осло (2003 г.), 2016 г. См. Также Этические рекомендации по исследованию останков человека, Осло, 2013 г., составленные Национальным комитетом по этике исследований в области человеческих останков, который является подчиненным комитетом. в NESH.
[4] Раздел 1-5 Закона об университетах и колледжах.
[5] Раздел 1 Закона об этике исследований.
[6] Закон о личных данных.
[7] Раздел 5 Закона об этике исследований.
[8] Раздел 9 Закона о медицинских исследованиях.
[9] Раздел 13 d Закона о государственном управлении; см. Правила государственного управления.
[10] Раздел 1 Закона о личных данных.
[11] Статья 31 Закона о личных данных; Раздел 7-12 Положения о персональных данных.
[12] пункт 1 статьи 33 Закона о личных данных; Раздел 7-27 Положения о персональных данных.
[13] Проекты, влекущие за собой обязательство получить лицензию, включают проекты, которые обрабатывают конфиденциальные личные данные, и
- Крупномасштабные (более 5000 человек) и длительные (более 15 лет), и / или
- Используйте большие наборы данных, которые не были должным образом анонимизированы или псевдонимы, и / или
- Провести анализ неполучения ответов, не основанный на согласии, и / или
- Использовать данные из псевдонимных регистров здоровья (IPLOS и NorPD [Reseptregisteret]).
[14] Раздел 1-5 Закона об университетах и колледжах.
[15] Министерство образования и исследований, «Стандартное соглашение для исследований и заданий по отчетам», Осло, 2012 г. См. Также отчет Национальных комитетов по этике исследований, Oppdragsforskning: åpenhet, kvalitet, etterrettelighet, Oslo 2003 [Исследование по заказу: прозрачность , качество, подотчетность].
[16] NENT, Føre-var prinsippet: Mellom forskning og politikk [Принцип предосторожности: Между исследованиями и политикой], публикация NENT, №11, Oslo 1997.
[17] Статья 102 Конституции Норвегии.
[18] NESH, Этические принципы интернет-исследований, Осло (2003), 2016.
[19] Эйвинд Смит, Taushetsplikt og kildevern for forskere [Конфиденциальность и защита источников для исследователей], NESH, Oslo 1998.
[20] Раздел 196 Общегражданского уголовного кодекса.
[21] Национальные комитеты по этике исследований, Forskeres taushetsplikt og meldeplikt [Обязанность исследователей сохранять конфиденциальность и обязанность уведомлять], под редакцией Холлварда Фоссхайма (NESH) и Хелен Ингерд (NENT), Осло, 2013 г.
[22] Раздел 6-4 Закона о защите детей.
[23] Закон об архивах.
[24] Национальный комитет по этике исследований, Barn i forskning. Etiske sizesjoner [Дети в исследованиях. Этические аспекты], под редакцией Халлварда Фосхейма (NESH), Якоба Хёлена (NEM) и Хелен Ингерд (NESH), Осло, 2013.
[25] Уполномоченный по защите прав потребителей и Управление по защите данных, Barn og unges personopplysninger: Veiledning for innhenting og bruk [Руководство по сбору и использованию личных данных о детях и молодежи], Осло, 2004.
[26] NESH, Этические рекомендации для интернет-исследований, Осло (2003), 2016.
[27] Национальный комитет по этике исследований человеческих останков, Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger [Этические рекомендации для исследований человеческих останков], Осло, 2013.
[28] Международный совет музеев, Этический кодекс музеев, ICOM (2004) 2013.
[29] Национальный комитет по этике исследований человеческих останков, Этические рекомендации для исследований человеческих останков, Осло, 2013 г.
[30] Раздел 23а Закона о культурном наследии.
[31] www.icmje.org/recommendations/
[32] «God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, Historiske framstillinger »[Хорошая практика. Об использовании литературы и источников в общих исторических отчетах], отчет, подготовленный Норвежской ассоциацией издателей, Норвежской исторической ассоциацией и Норвежской ассоциацией писателей и переводчиков нехудожественной литературы, Осло, 2006 г.
[33] Раздел 5 Закона об этике исследований.
[34] Исследовательский совет Норвегии, Открытый доступ к исследовательским данным, Политика открытого доступа, Осло, 2014 г.
[35] Раздел 6 Закона о государственном управлении.
[36] Норвежское министерство образования и исследований, «Стандартное соглашение для исследований и заданий по отчетам», Осло 2012.
[37] Разделы 1-1, 1-3 Закона об университетах и колледжах.
[38] Статья 100 Конституции Норвегии.
[39] Раздел 1-7 Закона об университетах и колледжах.
Социальные науки, объективность и нравственная жизнь
Несмотря на философские вызовы дихотомии факт / ценность, концепции объективности в социальных науках остаются привязанными к ней. Нетипичным примером является широко обсуждаемая статья Брюса Ринда, Филипа Тромовича и Роберта Баузермана (1998) под названием «Метааналитическое исследование предполагаемых свойств сексуального насилия над детьми с использованием образцов колледжа». Он появился в Psychological Bulletin в 1998 году и вызвал значительный общественный протест, включая единодушное осуждение со стороны обеих палат Конгресса и отклонение выводов статьи самой Американской психологической ассоциацией, издателем Psychological Bulletin .Споры сосредоточились на утверждениях о предвзятости, но это ложное обвинение упускает из виду то, что на самом деле было поставлено на карту. В защиту статьи как авторы, так и другие приводили доводы в пользу ее строгой объективности, свободной от ценностей (например, Gladwell 2004; McNally 2003), утверждение, которое основывается на доступности нейтрального языка без оценочных предпосылок. Такой язык существует?
Ринд и его коллеги не проводили собственных исследований. Скорее, их статья представляет собой метааналитический обзор 59 существующих исследований, основанных на выборках студентов колледжей, о стойких последствиях сексуального насилия в детстве.Они обнаружили, что те, кто в прошлом подвергался сексуальному насилию над детьми, чаще имели проблемы с психологической адаптацией, чем те, кто не подвергался насилию, но разница, в среднем , была небольшой. Когда семейное окружение контролировалось, большая часть этой разницы исчезла. Плохое семейное окружение (физическое насилие, эмоциональное пренебрежение) было гораздо более сильным предиктором психологических проблем, чем сексуальное насилие. Наконец, они также сообщили, что значительное меньшинство опрошенных студентов, особенно подростки мужского пола, считают свой опыт не отрицательным, а положительным.
Общественная полемика по поводу статьи не была сосредоточена в первую очередь на этих выводах. Хотя некоторые ученые действительно оспаривали статью по методологическим соображениям Footnote 1 , общественная реакция была на сомнение авторов в научной обоснованности термина «сексуальное насилие над детьми» и «связанных терминов, таких как жертва и преступник ». (Ринд и др. 1998, 22; выделенные слова в этой и следующих цитатах взяты в оригинале). Вместо общего термина «сексуальное насилие» Ринд и его коллеги предложили новое различие, основанное на «восприятии молодым человеком его или ее готовности участвовать и его или ее реакции на этот опыт» (46).Они предположили, что «[] желающая встреча с положительной реакцией будет обозначена просто , секс взрослый-ребенок , ценностно-нейтральный термин» (46). В тех случаях, когда ребенок чувствовал, что «он или она не участвовал в общении свободно и испытывал негативные реакции» (46), они предположили, что « сексуальное насилие над детьми , термин, подразумевающий причинение вреда человеку, будет быть действительным. » Они также подчеркнули, что понятие «ребенок» должно быть ограничено только детьми подросткового возраста, и предложили аналогичное различие для подростков: «секс взрослого и подростка» и «сексуальное насилие среди подростков» (46).
Многие критики Ринда и др. обвинил их в «социально-политической повестке дня» (см., например, Dallam 2002; Hagan 2001). Авторы вместе со своими защитниками утверждали, что статья руководствовалась только наукой, и обвиняли тех, кто оспаривал статью, в том, что они имеют собственную повестку дня. Нападки критиков, по словам Ринда и его коллег, «все основаны на сохранении их устойчивых идеологических убеждений, а в случае терапевтов — их практик» (Rind et al.2001, 71). Насколько мне известно, ни у одной из сторон нет доказательств этим обвинениям. Ясно то, что Ринд и его коллеги настаивают на том, что, во-первых, они не выступают за изменение моральной или правовой точки зрения на «поведение, которое в настоящее время классифицируется как CSA [сексуальное насилие над детьми]», и, во-вторых, их исследование не должно читается как обязательно подразумевающий, что моральные / правовые перспективы «должны быть отвергнуты или даже изменены» (47). Другими словами, предлагаемые ими изменения классификации не служат какой-то вненаучной программе.
Проблема не в предвзятости. Это с претензией на беспристрастную объективность при наименовании и классификации. Rind et al. утверждают, что термин «жестокое обращение» подразумевает психологический вред (они осознают, что это не совсем так, но мы можем оставить это в стороне). Поскольку секс между взрослым и молодым человеком не всегда нежелателен и не всегда приводит к психологическому ущербу, считают они, нам нужна другая категория. Таким образом, они предлагают секс взрослый-ребенок в качестве «нейтральной по отношению к ценностям» альтернативы. Под «нейтральными к ценностям» они подразумевают «свободные от ценностей».«Эти термины часто объединяются, но означают разные вещи. Ценностный нейтралитет, согласно философу Хизер Дуглас (2004), означает «занятие сбалансированной или нейтральной позиции по отношению к спектру ценностей» (460). Вместо того, чтобы быть свободным от ценностного влияния, ценностно-нейтральная позиция, осознающая диапазон действующих ценностей и аргументы в пользу них в данном контексте, является «рефлексивно-центристской». Такая позиция, например, «позволяет сделать необходимые суждения, не занимая спорную ценностную позицию, не привязываясь к ценностям, которые могут игнорировать другие важные аспекты проблемы или которые являются более экстремальными, чем они поддерживаются» (460).Ринд и его коллеги совершенно ясно заявляют, что они не занимают такой позиции. Они не уравновешивают ценности. Они довольно подробно цитируют других о важном различии между вредностью и противоправностью, и настаивают на том, что, подвергая сомнению вредность в некоторых случаях, они , а не ставят под сомнение противоправность в каком-либо из них. Их позиция не является нейтральной в ценностях; они считают, что их новая категория «секс взрослых и детей» не требует ценностей.
Что мы можем сделать с этим утверждением? Ринд и его коллеги критикуют применение термина «жестокое обращение» к делам, которые «не могут причинить вред», как пример «ускользания юридических и моральных конструкций от научных определений» (23).В случаях «вероятно причинение вреда» они сохраняют термин «злоупотребление», который, конечно, является одновременно юридическим и моральным понятием. Но если авторы одобряют классификацию злоупотреблений, которая нагружена ценностями, почему предполагать, что другая классификация, «секс взрослый-ребенок», не имеет ценности? Оно может означать вред и принуждение меньше, чем «злоупотребление», но это не означает, что его ценность свободна. Известная теория сексуального насилия над детьми, основанная, например, на модели изнасилования, рассматривает сексуальное насилие как акт власти и эксплуатации, а не как секс.Таким образом, отнесение некоторых «поведений, которые в настоящее время классифицируются как CSA» к категории «пола», уже подразумевает занятие ценностной позиции, положение, которое невозможно разрешить одними только научными критериями.
Более конкретно, будет ли «секс» в этом случае категорией, свободной от ценностей? Как отмечалось выше, авторы настаивают на том, что, предлагая «секс взрослый-ребенок», они не выступают за изменение моральной или правовой точки зрения на поведение, классифицируемое как сексуальное насилие над детьми, и не ставят под сомнение противоправность такого поведения.Но поскольку моральный и правовой подход к такому поведению не является свободным от ценностей, и Rind et al. подтверждают эту точку зрения, то их термин «секс взрослого и ребенка» также не должен быть свободным от ценностей. «Секс» в «сексе взрослый-ребенок» не может быть каким-то общим видом добровольного поведения, каким-либо образом эквивалентным другим типам секса, не связанным с ребенком. Скорее, «пол» в предлагаемой ими категории поведения должен нести ту же оценочную нагрузку — незаконную и морально незаконную — как «насилие». Подобно «жестокому обращению», описательное содержание и оценочная сила должны присутствовать в слове «секс» вместе.
Кроме того, Rind et al. предполагают, что термины «жертва» и «преступник» не будут подходящими категориями лиц по отношению к их поведенческой категории «секс взрослый-ребенок». Предположительно, это так, потому что эти термины также являются юридическими и моральными конструкциями, в то время как «ребенок» или «подросток» и «взрослый» — нет. Однако и здесь новые термины должны неявно нести социальные и этические ценности и в значительной степени те же самые ценности, что и старые термины. Человек, на которого действуют большинство преступлений, называется потерпевшим.В более общих моральных терминах мы говорим о человеке, подвергающемся аморальным или несправедливым действиям, как о человеке, с которым поступили несправедливо. В обоих случаях мы называем подстрекателя незаконного или аморального действия, преступника, правонарушителя и т. Д. Хотя нет никаких сомнений в том, что термины «ребенок» или «подросток» и «взрослый» являются гораздо менее нормативно и эмоционально заряженными терминами, чем жертва и преступник, их замена в этом контексте просто переписывает одни и те же ценности на другом языке. Кроме того, если новые термины должны нести те же этические ценности, то вряд ли очевидно, что «ребенок» и «взрослый» более научно обоснованы — адекватны описательно — чем «жертва».Во всяком случае, они кажутся одним из эвфемизмов, которые почти гарантированно вызовут именно такую путаницу как среди социологов, так и среди широкой публики, как это делают Rind et al. бумага по сути осаждалась.
Возможно, новые термины, поскольку они менее заряжены, менее стигматизируются. Это часто является важной этической причиной для переосмысления категорий состояний, поведения и людей в соответствии с новыми описаниями. Но это предполагает, что стигматизация несправедлива или контрпродуктивна и, следовательно, должна быть изменена.Rind et al. не приводите таких аргументов. Их анализ исследований направлен на вопрос о том, сообщают ли студенты колледжа, которые в детстве подвергались сексуальному насилию, «сильный психологический вред» от своего опыта. Они не отвечают на вопросы о социальном вреде, который может причинить сексуальное насилие. Но мы знаем из исторического опыта, что сексуальное насилие наносит социальный вред (см. Davis 2005). Таким образом, возникает вопрос, может ли использование общего термина «взрослый», а не «преступник» в контексте взрослых, занимающихся сексом с детьми и подростками, не иметь предсказуемых последствий в виде ослабления стигматизации, связанной с поведением взрослого преступника.Поскольку эти последствия предсказуемы, их нельзя просто игнорировать.
Есть еще вопросы такого рода, которые можно задать. Позвольте мне также добавить, что, задавая вопросы Rind et al. формулировок, моя цель не состоит в защите категории сексуального насилия. Я разделяю их мнение о том, что нам нужны дальнейшие способы классификации «поведения, которое в настоящее время классифицируется как CSA». Криминологи обычно придерживаются юридических формулировок, но в данном случае этого может быть недостаточно или уместно. Конкретные виды использования можно и нужно обсуждать, а сильные оценочные концепции использовать только с осторожностью.Но никакие категории — и это моя точка зрения — не будут свободны от ценностных последствий. Стандарт «без ценностей» не является одним из вариантов и, следовательно, не является подходящей целью.
Наука и этика
Менее 500 лет назад наука была опасным занятием. В 1600 году итальянский монах Джордано Бруно был приговорен к смертной казни и сожжен на костре за то, что он верил в свободное мышление в философии и науке. Галилео Галилей чудом избежал той же участи, но только публично отказавшись от поддержки гелиоцентрической точки зрения Коперника.Конечно, дни автодафе прошли, и современная наука имеет важное влияние на развитие общества в целом по сравнению с временами злополучного Бруно. Но хотя научный прогресс был быстрым и поразительным, он все еще беспокоит тех людей, которые чувствуют себя исключенными из дискуссии о применении науки в новых технологиях и продуктах. Более того, по мере того как научный прогресс становится все более фундаментальным для общества, он постоянно сталкивается с проблемами, если не полностью противоречит устоявшимся убеждениям относительно наших этических ценностей.Следовательно, необходимо проводить этические дискуссии, чтобы адаптировать использование научных знаний, а именно новых форм технологий, к общему контексту, который соответствует основным принципам нашей цивилизации. Ученые должны заботиться об использовании научных знаний и решать возникающие этические вопросы как в общих чертах, так и в плане их собственной работы.
Слово «этика» происходит от греческого слова «этос», означающего обычай или поведение.Концепция этики была первоначально предложена греческим философом Аристотелем для обсуждения философских вопросов, касающихся повседневной жизни: «теория этики» занимается изучением и дает критерии оценки человеческого поведения. С тех пор этика стала одной из основных тем в западной философии при обсуждении социальных и индивидуальных ценностей, их взаимоотношений и их иерархии в обществе. Сегодня значение «этики» более или менее эквивалентно значению «мораль», которое происходит от латинского слова «mos, moris» и также означает обычаи или поведение, но на более личном уровне.Моралисты, такие как Ницше, Сантаяна и Рассел, утверждают, что этические ценности — это скорее личные интерпретации, размышления или предпочтения, а не общие принципы, истинность или ложность которых можно доказать. Джон Зиман, бывший председатель Совета по науке и обществу, интерпретирует этику не как абстрактную дисциплину, а как способ работы с различными мнениями, которые возникают, когда традиционные ценности сталкиваются с новыми реалиями (Ziman, 2001).
Действительно, дискуссии об этических основах общества и их переосмыслении обычно имеют место, когда традиционные обычаи или поведение сталкиваются с новыми событиями.В статичном обществе ценности хорошо систематизированы, как правило, религией или традициями. Это верно для многих древних обществ, которые веками оставались неизменными. Но войны, вторжения или новая культура или религия обычно побуждают к оценке традиционных ценностей. Например, французская и русская революции в Европе, а также колониализм на других континентах эффективно расстроили и безвозвратно изменили традиционные ценности общества в той или иной степени. Позже, в 20, и годах, создание новых технологий посредством научного прогресса оказало глубокое влияние на общество, общественное мнение и наш образ жизни и, таким образом, вызвало дискуссию о том, как использовать эти знания (http: // www.pugwash.org/). В 1950-х и 1960-х годах этические дискуссии касались в основном использования физики и техники для создания нового оружия (http://www.lasg.org/pledge/pledgefrm_a.htm l). В 1970-х и 1980-х годах основное внимание уделялось экологическим проблемам. Сегодня большинство этических дискуссий посвящено прогрессу биологии и его последствиям для общества.
Научный прогресс, движущая сила большинства изменений, произошедших в -х годах века, требует критического ума, свободного от предрассудков и открытого для новых способов мышления.Быстрое развитие современной науки с эпохи Возрождения обусловлено главным образом постулатом о том, что научные теории должны быть независимыми от богословских или религиозных верований. В 17 -х и 18 -х веках обмен знаниями в основном осуществлялся через научные академии, которые распространяли новые теории и тем самым ускоряли научный прогресс. В начале – века в университетах наблюдался значительный рост академических исследований, которые также назывались «чистыми» исследованиями.Ученые не интересовались практикой и не интересовались технологическим применением результатов своих усилий. Они провозгласили нейтралитет науки, заявив, что развитие знаний нельзя считать хорошим или плохим. В этом контексте наука не несет ответственности за их приложения и тем более за их последующее использование.
С другой стороны, промышленные исследования были совершенно иными. Хотя он основан на одном и том же знании, у него были совершенно разные цели и правила.Результаты не принадлежали ученым, а были собственностью отраслей, финансирующих исследования. Целью было не приобретение новых знаний, а изобретение новых продуктов с целью увеличения прибыли. Считалось, что этические проблемы являются обязанностью компании, а не ученых.
В результате дискуссии об этических проблемах более или менее отсутствовали в обеих сферах. В академических кругах ученые были безразличны к возможным последствиям своей работы, а в промышленности работодатели не считали уместным, чтобы ученые беспокоились об этических проблемах.Конечно, это описание академических и промышленных исследований схематично и не соответствует действительности. Тем не менее, он все еще существует и волнует тех, кто имеет наибольшее влияние на нашу современную научную культуру.
С 1950-х годов произошли большие изменения во взаимодействии между академическими и промышленными исследованиями, даже в их определении, и по этой теме существует обширная литература. Ученые в академических кругах получают больше финансирования, чем в прошлом.Кроме того, руководители науки обычно принимают решения на основе социальных соображений, а именно ожидаемого вклада в решение таких проблем, как здоровье, питание, энергия и т. Д. Такая исследовательская политика имеет этический компонент, поскольку она направлена на решение социальных проблем. Как следствие, стало уместным и необходимым оценивать с этической точки зрения не только использование научных знаний, но и их производство. С другой стороны, промышленные исследования стали более сложными, и их результаты часто публикуются в рецензируемых журналах.Кроме того, ученые из академических кругов и промышленности все чаще сотрудничают, и это даже поощряется в большинстве стран.
Отношения между государственными и частными исследованиями являются источником дальнейших этических проблем, которые важны не только для исследовательского сообщества, но и для всех слоев общества. Университеты и государственные исследовательские институты поощряют своих ученых запрашивать средства у промышленности и патентовать свои результаты. Ученые, работающие в государственном секторе, все чаще владеют патентами или акциями или выступают в качестве консультантов компаний (http: // www.cspinet.org/integrity/database.html). Эти виды деятельности являются важным источником дохода, а также опытом и запатентованными технологиями для университетов. Более того, их поощряют политики, поскольку они создают новые компании и стимулируют местную экономику. Хотя это явление считается очень полезным, оно может и уже вызвало конфликт интересов (Чех, 2001; врезка). Есть опасения, что, особенно в клинических исследованиях, конфликты интересов стали настолько распространенными (Smaglik, 2000) и их так трудно раскрыть (Holden, 2001; Knight, 2001), что скорость одобрения новых лекарств скоро начнет снижаться. (Вадман, 2001).
В качестве примера необходимости проведения дискуссий по этике я хочу сослаться на дискуссию об эмбриональных стволовых клетках (Lachmann, 2001; http://bioethics.gov/stemcell_exec_intro.htm). Знания о стволовых клетках человека можно использовать для разработки новых методов лечения, которые могут принести пользу миллионам пациентов (Vogel, 2001). Эти тотипотентные клетки можно было выращивать и дифференцировать in vitro, , чтобы получить определенные клеточные линии, которые можно было бы использовать в качестве клеточных трансплантатов, например, для замены «дофаминергических» нейронов для лечения болезни Паркинсона или клеток поджелудочной железы для лечения диабета.Это исследовательская стратегия, а не рабочая технология; Пока не ясно, легко ли будет достигнута эта цель, поскольку имплантация новых клеток в организм может изменить механизмы взаимодействия клеток и метаболические контуры. Однако общественные дебаты спрашивают, этично ли уничтожать человеческие эмбрионы, чтобы получить знания с целью лечения болезней (Science, 2000). Аргументы против использования эмбриональных клеток в основном касаются уважения человеческой жизни и человеческого достоинства (Mieth, 2000).Многие критики просят ввести мораторий на приостановку исследований с эмбриональными стволовыми клетками и вместо этого предпочитают использовать взрослые стволовые клетки или клетки крови из пуповины новорожденных. Однако результаты могут быть достигнуты в более короткие сроки с использованием эмбриональных клеток, и, более того, еще не ясно, обладают ли взрослые клетки одинаковым потенциалом к дифференцировке в различные ткани.
Я убежден, что эта тема настолько деликатна, потому что у общества нет информированного мнения и, следовательно, еще нужно найти консенсус.Опять же, это вопрос иерархии ценностей: неужели жизнь замороженного эмбриона важнее лекарства от болезни? Мораторий на приостановку исследований с использованием человеческих эмбриональных клеток должен распространяться как на государственную, так и на частную области, поскольку позволить последним продолжаться было бы истинным лицемерием. Конечно, не следует налагать никаких ограничений на исследования с использованием взрослых стволовых клеток или эмбриональных стволовых клеток, выделенных от животных. Но я думаю, что установить такой мораторий будет сложно по нескольким причинам.Во-первых, его следует уважать во всем мире, а не только в некоторых странах. Во-вторых, было бы трудно достичь консенсуса в отношении моратория, поскольку ассоциации пациентов и промышленный сектор, безусловно, лоббируют продолжение этого исследования. В-третьих, мы должны признать, что у ученых есть интеллектуальный, но также и практический интерес, поскольку результаты могут быть легче получены с эмбриональными, а не взрослыми стволовыми клетками. Наконец, мораторий не был бы этически нейтральным вариантом, поскольку он может отсрочить возможность излечения пациентов.Хотя введение моратория, вероятно, нереально, необходимо найти решения, учитывающие этические проблемы всех слоев общества. А это требует не только того, чтобы общество стало больше осознавать различные аспекты проблемы, но и чтобы ученые стали лучше осознавать этические аспекты своей работы: «Наука без совести есть руин де ламе» (Rabelais, Gargantua et Pantagruel ).
Споры вокруг эмбриональных стволовых клеток — не единственный пример этического противоречия, порожденного научными исследованиями.Генетически модифицированные (ГМ) растения также вызвали растущую общественную полемику. Хотя исследования стволовых клеток ставят под сомнение взгляды на саму природу человечества, этические последствия ГМ-растений скорее поднимают вопросы о том, как бороться с окружающей средой. Сторонники указывают на преимущества этого исследования, а именно на то, что они могут накормить постоянно увеличивающуюся популяцию людей — особенно в странах третьего мира — при решении экологических проблем (Leaver and Trewavas, 2001), созданных самой этой популяцией.Критики хотят, чтобы ГМ-растения были запрещены навсегда, потому что они опасаются непоправимого ущерба окружающей среде (Flothmann and van Aken, 2001).
ГМ-культуры и использование эмбриональных клеток — это лишь два примера среди многочисленных этических проблем и вопросов, возникающих в результате темпов научного прогресса и последующих новых технологий, с которыми мы должны столкнуться сегодня (Lenoir, 1996). В случае стволовых клеток научный прогресс порождает новые технологии, вызывающие этические проблемы. Но только научные знания могут сами по себе создавать этические проблемы.В случае с абортом новые взгляды на развитие эмбриона дали новые аргументы тем, кто хочет, чтобы аборты были запрещены. Фактически, в прошлом эмбрион и оплодотворенная яйцеклетка считались безжизненными или лишенными души, в то время как сегодня мы знаем гораздо больше об их потенциале. Действительно, для ученых становится все более и более необходимым уделять больше внимания этическим проблемам, касающимся своих исследований и возникающих в результате новых технологий (Rotblat, 1999a, b). Все должны быть вовлечены, потому что решения этических проблем, возникающие в результате научного прогресса, не могут быть навязаны догматами веры или законом.Именно гражданское общество, в которое входят ученые, должно найти приемлемое решение. Только тогда правительства смогут отреагировать и разработать новые законы для решения этих проблем (см. Также Центр прикладной и профессиональной этики: http: // cape. Cmsu.edu).
К сожалению, такого стремления к обсуждению этических проблем недостаточно на всех уровнях общества и внутри научного сообщества. Кроме того, конфликт интересов, о котором я упоминал выше, усложняет проблему. Поэтому важно, чтобы правительства, государственные и частные финансирующие организации, научные общества и сами исследователи стали более чувствительными к этическим вопросам.В нынешних условиях отстаивание нейтральности науки было бы не аморальным, а аморальным. Ученые первыми получают важную информацию, иногда на годы вперед, о потенциальных опасностях определенных научных знаний. Я имею в виду, например, Нильса Бора и атомную бомбу, Пола Берга и генную инженерию или Яна Уилмута и клонирование. Таким образом, на ученых лежит ответственность информировать общественность о потенциальных опасностях новых технологий и вовлекать общественность в дебаты о том, как использовать их знания с умом и в интересах общества (Iaccarino, 2001).
Каковы наиболее важные этические последствия научных исследований и разработки новых технологий? В 1999 году ЮНЕСКО и МСНС организовали Всемирную конференцию по науке, чтобы правительства обсудили проблемы, касающиеся науки и общества. В конце концов они одобрили документ «Научная повестка дня — Рамки действий», который содержит главу по этическим вопросам. Поскольку этот документ был одобрен после тщательных консультаций со всеми государствами-членами ЮНЕСКО и информированного обсуждения с их соответствующими научными сообществами, его можно считать полезным справочным материалом для выявления и решения этических проблем, возникающих в результате научных исследований в общем контексте.Здесь я сообщаю краткое содержание, по моим словам, каждого абзаца (см. Врезку). Очевидно, что необходимо свериться с исходным текстом по той простой причине, что каждое слово было одобрено после долгого обсуждения (http://www.unesco.org/science/wcs/eng/framework.htm).
И как мы можем сделать ученых более чувствительными к этическим последствиям их работы? Я считаю, что нужно начинать снизу, а именно с уровня отдельных ученых. Наиболее подходящим контекстом для обсуждения этических вопросов являются ежегодные собрания научных обществ (Smaglik and Macilwain, 2001).Я предлагаю участникам предложить и обсудить этические обязательства, а также решить, нужно ли сделать их обязательными для всех членов этого конкретного научного сообщества. Конечно, также необходимо пригласить представителей общественности или даже критиков, чтобы оценить их восприятие и ожидания научных исследований. Только так мы сможем понять, какие вопросы наиболее чувствительны для исследователей, и сделать их более осведомленными об этических последствиях своей работы.Тогда исследователи, которые часто являются профессорами университетов, будут более подготовлены к тому, чтобы информировать своих студентов об этических проблемах. Впоследствии можно будет прийти к более общему выводу на национальном или, что еще лучше, на международном уровне. Этика науки — это не личная проблема, а коллективная проблема, которая затрагивает всех ученых как на личном, так и на общем уровне.
Мы живем в мире, в котором научные знания и новые технологии постоянно бросают вызов нашим ценностям.Все мы должны жить своей повседневной жизнью и принимать решения, основываясь на фундаментальных ценностях человеческого достоинства, заложенных в нашей цивилизации. Ученые не исключение. Скорее, я убежден, что они обязаны приложить особые усилия, чтобы внести свой вклад в это обсуждение, потому что они часто имеют больше информации и базовые знания о тех самых проблемах, которые порождают эти этические дилеммы.
Границы | Разновидности моральных порядков и двойная структура общества: взгляд на теорию позиционирования
Агент – проблема структуры
Проблема агент-структура заняла видное место в размышлениях об онтологии социальной сферы.На карту поставлен главный вопрос: какова природа отношений между людьми как влиятельными агентами и так называемый структурный контекст, в котором они действуют. Эти дебаты, inter alia , привели к двум конкурирующим взглядам на социальную сферу: подход двойственности и дуализма. Для сторонников «дуализма», таких как Арчер (1995), социальные структуры существуют как эмерджентные свойства индивидуальных действий людей. Для Арчера деятельность и структура — это две «отдельные и противоположные вещи в мире или (…) взаимоисключающие способы мышления о мире» (Craib, 1992, p.3). Напротив, защитники «двойственности», такие как Гидденс (1984), рассматривают структуру и как средство, и как результат социального действия. Другими словами, для Гидденса структура и агентство — это лишь две стороны медали. Но, как отмечает Уайт (2002) (стр. 24), все еще существует большая путаница в отношении того, что именно поставлено на карту в проблеме структуры агента. Тем не менее понятие социальной структуры остается центральным для понимания природы социальной сферы. Многие философы и социальные теоретики занимались такими вопросами, как «Что такое социальные структуры? Каково их происхождение? И каковы отношения между людьми или другими субъектами и социальными структурами? Все это довольно общие вопросы, и слишком часто предлагаемые ответы носят одинаково общий характер.Часто это сводится к двум противоположным взглядам: одни подчеркивают определяющую силу структуры, а другие подчеркивают свободу и власть людей. Но занятие одной из этих двух позиций не позволяет прояснить, как свобода действий сочетается с детерминизмом. Кроме того, можно задаться вопросом, насколько абсолютным является разрыв между структурой и агентством, поскольку агентство не может ограничиваться отдельными лицами, поскольку организации или даже государства также могут рассматриваться как агенты. Неудивительно, что существует поразительный набор определений структуры (Wendt, 2015, стр.243), но мало согласны с тем, что именно представляет собой структура и как она связана с агентством. Наиболее продвинутый подход исходит от Гидденса (1976, 1984), который ввел понятие структурирования в социальное теоретизирование в попытке «решить» проблему агент-структуры. Его решение состоит в том, что теория структурирования не рассматривает ни агента, ни структуру как онтологически предшествующих друг другу (Bryant and Jary, 1991).
Ключевым элементом дискуссии является понятие «возникновение», то есть «процесс создания нового объекта с его собственными особыми характеристиками посредством интерактивной комбинации различных объектов, которые необходимы для создания нового объекта, но не содержат характеристики, присутствующие в новой сущности »(Смит, 2010, стр.25–26). В естественной среде этот процесс хорошо известен: вода (H 2 O), например, обладает качествами, которые не могут быть восстановлены до атомов водорода и кислорода. Действительно, там, где вода может тушить огонь, и водород, и кислород — нет. Напротив, они оба разжигают огонь. Для сторонников критического реализма эмерджентность является обоснованием дисциплинарной автономии различных естественных наук (Pratten, 2013). Но есть ли аналогичные процессы в социальной сфере? Существует ли такое социальное возникновение и, следовательно, социальная сфера, структура, которая не сводится, например, к людям? Для Арчера ответ на эти вопросы определенно положительный.Гидденс (1979) кажется более тонким, когда заявляет, что структурирование «включает в себя двойственность структуры, которая связана с фундаментально рекурсивным характером социальной жизни и выражает взаимозависимость структуры и действия» (стр. 69). Согласно Гидденсу (1979), возникающую структуру можно понимать как «вневременное и непространственное, как виртуальный порядок различий , производимый и воспроизводимый в социальном взаимодействии» (стр. 3). Но, как отмечает МакЛеннан (1984) (стр.127), совсем не очевидно, что означает этот виртуальный порядок. Fligstein и McAdam (2012) справедливо указали на «в высшей степени абстрактную» природу дебатов о структуре агента. В результате, утверждают они, «центральные концепции как структуры, так и действия остаются эмпирически недоопределенными» (стр. 6). Как отмечает Лебоу (2015) (стр. 122), действительно существует необходимость «разработать систему опосредующих понятий, которая помогает объяснить взаимодействие между обществом и индивидами или агентами и структурами в более общем плане.Подобное наблюдение уже было сделано Гидденсом (1979), когда он заметил, что идея о том, что действие и структура предполагают друг друга, «требует переработки как серии понятий, связанных с этими терминами, так и самих терминов» (стр. 53). Гидденс, безусловно, внес свой вклад в заполнение этого пробела своей теорией структурирования, но «виртуальный порядок», который он упоминает, требует более детальной проработки. В частности, должна быть более развита динамика структурирования, как это происходит во взаимодействии между людьми и структурами.А учитывая, что эти взаимодействия включают лингвистическую коммуникацию, дискурсивный характер взаимозависимости структуры и деятельности также может получить дальнейшее развитие. Основная цель данной статьи — предложить уточнение концепции двойственности структуры Гидденса путем введения следующих четырех опосредующих концепций: «деонтическая власть», «моральные порядки», «стратегические поля» и «позиции».
Во-первых, я представлю концепции деонтической власти и морального порядка, основанные на работах Джона Сирла и Рома Харре, и попытаюсь интегрировать их взгляды на онтологию социальной сферы и на моральную природу этой онтологии в теорию структурирования Гидденса.Использование работ Харре может стать неожиданностью, поскольку он, как известно, очень критически относится к понятию социальной структуры. В Харре (2002b) он даже называет это мифом и сомневается в том, что социальные структуры могут быть причинно эффективными. Но, как отмечает Картер (2002) (стр. 134), целью Харре является прежде всего аналитический дуализм Арчера. Действительно, Харре не отрицает существования структур, он просто считает их тесно связанными с людьми и их взаимодействиями, и это позволяет использовать некоторые работы Харре для усиления взглядов Гидденса на двойную структуру общества.Во-вторых, я объединю вышеизложенное с некоторыми выводами из теории поля, особенно с квантовым философским подходом к полям, который недавно обсуждался Вендтом (2015). В-третьих, я введу теорию позиционирования, чтобы разобраться с различиями в силе агентов. Будет утверждаться, что это объединение идей из теории позиционирования, лингвистической философии и теории поля позволяет концептуализировать социальную сферу таким образом, что ее структура становится более заметной, а также процессы, посредством которых акторы формируют эти структуры.Центральное утверждение, развитое в этой статье, состоит в том, что структуры имеют моральную природу и что деятельность ограничена намеренными действиями в рамках того, что моральные предписания структур допускают или позволяют. Аналитическая основа, представленная в этой статье, также направлена на выявление рекурсивного характера социальной жизни и взаимозависимости структуры и деятельности, как описано Гидденсом, когда он говорит о двойственности структуры. Наконец, он также направлен на демонстрацию социологической значимости теории позиционирования Харре и подчеркивает ее эмпирическую значимость для изучения общей значимости концепции морали для понимания взаимосвязи между структурой и агентностью.
Актуальность нравственности
Хайдт (2013) (стр. 213) однажды заявил, что мораль является ключом к пониманию человеческого поведения. С большим согласием я не могу согласиться, и в этом разделе я разовью утверждение, что мораль — это недостающее звено между структурой и агентностью. Под моралью здесь следует понимать «моральную нормативность», относящуюся к правам и обязанностям и суждениям о том, что правильно или неправильно. Бринкман (2011) (стр. 3) утверждал, что такую нормативность следует рассматривать как предварительное условие для всех психологических явлений.Ниже я буду защищать утверждение, что то же самое справедливо для всех социальных явлений и что социальная сфера не может быть понята, если не учитывать моральную нормативность. Более того, моральные соображения позволяют объяснить, как структуры влияют на агентов, а также как структуры создаются через посредничество. Аргумент разворачивается в два этапа.
Во-первых, я защищу утверждение Серлина о том, что все социальные структуры имеют одну общую черту, а именно деонтические речевые акты. Во-вторых, я буду утверждать, что такие деонтические речевые акты имеют нормативный эффект, создавая так называемые моральные порядки.В результате все социальные структуры можно рассматривать как моральные порядки, устанавливающие правила надлежащего поведения. В этом контексте агенты имеют право создавать, приспосабливаться или отрицать социальные структуры и их моральные последствия.
Идея о том, что «субстанция» социальной реальности состоит из речевых актов, была устойчивой темой в лингвистической философии со времен Остина (1961). Для Остина слова — это инструменты, которые позволяют людям делать что-то, а также что-то утверждать.Он ставит лингвистику в центр любой попытки понять социальную сферу. Ром Харре и Джон Сирл были в авангарде отстаивания и развития этой точки зрения. По мнению Харре (1984), «фундаментальная человеческая реальность — это беседа без начала и конца, в которую время от времени люди могут вносить свой вклад» (стр. 20). Такая общечеловеческая и давняя история разговорной сети рассматривается Харре как «первичная» социальная реальность. Это означает, что личности и структуры следует рассматривать как «вторичную» реальность: они являются продуктами разговорной реальности, которая состоит из речевых актов (Van Langenhove, 2011).Согласно Searle (2009), существует даже один конкретный формальный лингвистический механизм, который действует как единый объединяющий принцип, составляющий любую институциональную структуру. Этот принцип, лежащий в основе онтологии социальной сферы, — это способность людей «налагать функции на объекты и людей, когда объекты и люди не могут выполнять эту функцию исключительно в силу своей физической структуры» (Searle, 2009, стр. 7). Сирл называет это «статусными функциями», поскольку они подразумевают коллективно признанный статус.Листок бумаги будет считаться банкнотой в 20 евро только в том случае, если люди присвоят этому листу такой статус. Статусные функции также несут то, что Сирл называет «деонтической властью». Вот здесь-то и проявляется моральная перспектива, поскольку деонтические полномочия связаны с «правами, обязанностями, обязанностями, требованиями, разрешениями, полномочиями, правами и т. Д.» (Searle, 2009, p. 9). Деонтические силы, согласно Сёрлу, создаются особым видом иллокутивных речевых актов, а именно «декларациями».
Фраза «этот дом — мой» — это заявление, которое выражает статусную функцию и дает говорящему целый набор прав (например, он может жить в доме и украшать его, как ему заблагорассудится), а также обязанности (например, платить ипотека или ее чистка).В то же время этот речевой акт также имеет деонтическую силу по отношению к другим людям. Посетители дома, например, могут остаться на ночь только по приглашению, и они не должны брать что-либо из дома без согласия владельца.
Сирл видит всю социальную структуру и связанную с ней институциональную реальность созданной декларацией. И он добавляет, что с момента изобретения письменного языка декларации могут принимать форму «постоянных постоянных речевых актов» (Searle, 2009, p.88). Владение домом, выраженное в письменном праве собственности, является примером такого постоянного речевого акта, который составляет собственность. То же самое касается аренды дома: договор аренды определяет обязанности и льготы как для арендодателя, так и для арендатора. Сирл имеет двоякое значение. С одной стороны, своим понятием деонтологии он ввел проблему морали в размышления об институциональной реальности структур. С другой стороны, он предлагает перспективу связать структуру с речевыми актами.Таким образом, Searle (2009) способен объяснить, что именно является «конструкцией» в социальной конструкции: «единственная реальность, которую мы можем создать, — это реальность деонтологии. Это реальность, которая дает права, обязанности и так далее »(стр. 89).
Люди не только создают структуры, им также необходимо принимать или отвергать структуру каждый раз, когда к ней обращается речевой акт. Возьмем снова пример с деньгами. Как структура, например, евро была создана в 1999 году.С тех пор все финансовые операции в так называемой еврозоне выражаются в евро. Каждый раз, когда человек платит за кофе в евро, это выражает доверие к этой валюте. Если достаточное количество людей в еврозоне потеряют доверие к евро и будут настаивать на оплате в долларах, евро рухнет. Таким образом, поддерживать структуру в живых — это работа многих. Это контрастирует с властью создавать новую структуру путем декларирования, которая неравномерно распределена в обществе и связана со статусными функциями.Например, только главы европейских государств имели право создавать евро и соответствующие институты, такие как Европейский центральный банк.
Когда Сирл представляет сущность социальных структур как деонтологическую и, следовательно, моральную природу, он помещает себя в давнюю традицию рассмотрения социальных наук как моральных наук и обращения к моральным порядкам в теоретизировании социальной сферы. Термин «моральная наука» впервые был введен в употребление Джоном Стюартом Миллем в 1843 году (Brinkman, 2011, p.8). Дюркгейм (1952), например, думал об экономике как о социальном порядке, основанном на морали. Совсем недавно такие ученые, как Дуглас (1999) или Вутноу (1987), использовали эту концепцию в своих драматургических подходах к изучению культур. Оба автора вдохновлены работой Гоффмана (1967), который указал на нормативное измерение социального порядка. Wuthnow (1987) определил моральный порядок как «то, что следует делать и чего разумно ожидать» (стр. 14). Таким образом, именно то, что люди считают хорошим и плохим, в свою очередь связано с правами и обязанностями.Дуглас (1999) рассматривал такой моральный порядок как систему обязательств, которые организуют отношения между людьми, и считал это центральным аспектом культуры общества. Но именно Харре (1984) разработал первую систематическую теорию морального порядка в своей попытке описать, как права и обязанности людей различаются от ситуации к ситуации и от контекста к контексту. Для Харре (1987) моральный порядок — это организованная «система прав, обязанностей и обязанностей, существующих в обществе, вместе с критериями, по которым оцениваются люди и их деятельность» (стр.219). По мнению Харре, моральный порядок имеет два измерения: первое представляет права людей, второе — места в пространстве и времени, которые человек может (законно) занимать. Например, полицейский имеет право налагать штрафы за парковку, но только тогда, когда он находится на дежурстве, и только в районе, где его назначили патрулировать. Если человек занимает только моральные и физические места, которые он или она могли бы занять, тогда этот человек действует социально конформистским образом. Любой поступок, который ставит человека в «неподходящее» место, является социально отклоняющимся поступком.Харре (1984) изображает общество как состоящее из различных моральных порядков, некоторые из которых довольно стабильны, другие «довольно скромны по размеру и созываются лишь изредка» (стр. 246). Другими словами, в то время как некоторые моральные нормы могут быть универсальными в данном обществе, другие являются результатом местного понимания прав и обязанностей. В результате любая данная культура содержит «множество взаимодействующих и дополняющих друг друга моральных порядков» (Harré, 1987, p. 220). Считается, что моральные порядки невидимы (Kurri, 2005), поскольку они действуют как контексты для индивидуальных действий и взаимодействий.Это набор правил и привычек, которые определяют, что люди могут и будут делать в определенной ситуации. Правила дорожного движения, такие как правило, согласно которому едут по левой стороне или по дороге в Великобритании, в значительной степени незаметны, если вы едете по проселочной дороге в Великобритании. Однако дорожные знаки могут сделать этот невидимый порядок видимым, как и поведение других водителей, которые едут по левой стороне дороги. При посадке в Дувре моральный порядок движения налево очень четко виден знаком «Держитесь левой стороны», нарисованным на дороге.Моральные порядки формируют социальную среду, в которой люди действуют и взаимодействуют. Это взаимодействие носит в основном разговорный характер и включает в себя суждения о том, что делать уместно. Отмечено ли действие как социально подтверждающее или как социально отклоняющееся, зависит как от значения, приписываемого этому действию в связи с определенным моральным порядком, так и от знаний оценщика об оправданиях или оправданиях этого действия (Semin and Manstead, 1983). . Занятие «неподходящего» места в моральном порядке может произойти либо потому, что человек не знает, что он не имеет права «быть» там, либо потому, что он добровольно хочет занять это место.В последнем случае можно использовать оправдания или извинения, которые, если они будут приняты, изменят моральный порядок.
Рассмотрим следующую ситуацию. В воскресенье человек готовит еду для своей семьи. Таким образом создается временный моральный порядок, влияющий на поведение члена семьи. Например, к полудню все будут в столовой на аперитив. Для этого нет детерминированного обязательства, но явка слишком поздно может считаться невежливостью, и людей попросят оправдать свое опоздание.Или взять аперитив и уйти с ним в другую комнату тоже может быть сочтено неподходящим. Но опять же ничего не исправлено. Возможно, сегодня солнечный день, и семья согласна выпить аперитив в саду. Итак, моральный порядок можно рассматривать как набор привычек и предписаний, которые позволяют людям судить о том, что делать или говорить правильно и неправильно. Отчасти это предусмотрено заранее: когда начинается семейный воскресный ужин, люди знают, как вести себя в соответствии с семейными традициями. Но часть этого создается во время ужина по мере развития разговоров, и некоторые семейные традиции могут быть отменены или изменены.
Однако временный и локальный моральный порядок, подобный описанному выше, никогда не является единственным моральным порядком в игре. Он встроен в другие моральные порядки, которые также влияют на текущие взаимодействия. Например, вышеупомянутая семья действует в более общем моральном порядке, который касается того, как люди приветствуют друг друга. Очень маловероятно, что члены семьи пожмут друг другу руки, когда войдут в столовую. Если это итальянская семья, они будут есть макароны вилкой.Бельгийцы воспользуются ложкой и вилкой. Американцы разрезают макароны, а затем съедают их вилкой, держа другую руку под столом, что бельгийцы сочли бы неприемлемым. И рядом с такими общими моральными порядками будут действовать и другие конкретные моральные порядки. Например, родители и дети будут действовать в соответствии со своими моральными принципами, даже когда обедают вместе. В результате люди всегда действуют в полной среде перекрывающихся и вложенных наборов моральных порядков, что может привести к потенциальным конфликтам.«Перестань играть и доедай» может относиться к такому конфликту и указывать на то, что власть «навязывать» доминирующий моральный порядок распределяется неравномерно.
Таким образом, социальные структуры имеют моральный компонент: они контекстуализируют все, что люди говорят или делают, в рамках нормативных суждений, которые можно назвать моральными порядками. Приведенный выше пример денег хорошо иллюстрирует этот момент. Как социальная структура денежная система запрещает большинству людей печатать деньги. И каждый платеж — это акт доверия между покупателем и продавцом.Но моральный порядок денежной системы никогда не бывает автономным. Он смешивается с другими моральными установками, такими как культурное место денег в обществе. Деньги можно «владеть», «зарабатывать», «тратить» и так далее. Все действия, связанные с моральными ценностями, например, что деньги нужно зарабатывать честно или что деньги нельзя выбрасывать. Таким образом, права и обязанности находятся в двойных отношениях со структурами. С одной стороны, структуры накладывают определенные права и обязанности. С другой стороны, есть права и обязанности, позволяющие создавать структуры.
Разновидности моральных устоев
Основное внимание в концепции морального порядка Харре уделяет разговорным взаимодействиям, иногда называемым микросоциологией. Напротив, Сирл следует более макросоциологическому подходу. Но обоих объединяет то, что они подчеркивают важность прав и обязанностей. И оба отводят центральную роль речевым актам в своих попытках понять социальную сферу. Поэтому в этом разделе я предлагаю объединить их подходы.
С такой комбинированной точки зрения Серла и Харре моральные порядки можно рассматривать как совокупность прав и обязанностей, созданных декларациями с деонтическими полномочиями.В любой момент люди живут своей жизнью во множестве пересекающихся моральных порядков. Некоторые из этих моральных порядков носят очень общий характер и вряд ли связаны с пространством и временем. Другие моральные приказы могут быть очень конкретными и активными только в определенных местах и / или только в течение ограниченного времени. В обоих случаях (общем или частном) моральные приказы могут быть скрытыми или активными. Скрытые моральные приказы не «используются» в определенном эпизоде. Например, правила дорожного движения не имеют отношения к человеку, который находится дома.Но с того момента, как этот человек покидает свой дом, правила дорожного движения становятся действующим моральным порядком.
Харре и Ван Лангенхов (1999a, b, c) рассматривали моральный порядок как «постоянно меняющиеся модели взаимных и оспариваемых прав и обязанностей говорить и действовать» (стр. 1) и при этом неявно признавали, что в любой момент времени люди оказываются в одном (местном) моральном порядке. Здесь нужно уточнить нюансы, поскольку я думаю, что всегда действует множество моральных приказов. Некоторые из них локальны и очень ограничены по времени (например, время встречи), но другие более глобальны и продолжительны.Ниже приводится попытка выделить пять разновидностей моральных порядков в измерении общего и конкретного. Это в некоторой степени вдохновлено моделью Парсонса AGIL, которая позволила ему описать социальную сферу как состоящую из культурной системы, социальной системы, системы личности и системы поведения (Parsons, 1968).
Во-первых, это культурных моральных порядка . Они носят очень общий характер и могут рассматриваться как цивилизационные или культурные аспекты общества, в котором живут люди.Они включают моральные взгляды, восходящие к религиозным или светским кодексам. Библия, Коран или Талмуд — все это мощные хранилища ценностей того, что правильно или неправильно. Таковы Всеобщая декларация прав человека, национальные законодательства. Эти моральные предписания часто также включают мета-ценности о лояльности к группе и уважении к иерархии в группе. Кроме того, часто упоминаются санкции против нарушителей правил.
Культурные моральные порядки также состоят из множества правил, привычек и предписаний, которые люди принимают как должное.Хорошим примером является практика приветствовать друг друга рукопожатием. Независимо от происхождения этого ритуала, его можно выразить как речевой акт. Достаточно спросить любого, почему он или она пожимает руку, и вы получаете ответы типа «вот как мы здесь здороваемся». Точно так же дети, которые растут в культуре, где рукопожатие является обычной практикой, научатся «правильно» делать это, следуя инструкциям своих родителей. И в некоторых случаях конкретные рукопожатия на самом деле изобретаются и передаются другим посредством речевых актов, как в случае со знаменитым секретным масонским рукопожатием.Приветственный ритуал рукопожатия широко распространен по всему миру. Однако это не универсально, поскольку в некоторых обществах существуют другие ритуалы приветствия, например, потирание носа. И хотя рукопожатие используется во всех западных культурах, существуют важные местные разновидности. Люди во Франции, например, будут обмениваться рукопожатием друг с другом чаще, чем люди в Великобритании. Важно знать, когда нужно пожать руку, а когда нет, и у большинства людей это знание есть. Таким образом, рукопожатие можно рассматривать как часть культурного морального порядка, регулирующего приветствия и встречи между людьми.Отсутствие рукопожатия в определенных случаях может рассматриваться как неподобающее, а вовлеченные люди — как, например, невежливые. Точно так же есть ситуации, когда рукопожатие будет сочтено странным. Как и все моральные приказы, актеры могут сознательно не подчиняться. Люди могут отказаться от рукопожатия, потому что они хотят действовать в соответствии с другим моральным порядком. Итак, девиантность можно понимать как ставку одного морального порядка выше другого. А поскольку отклонения возможны, возможно и изменение существующих моральных порядков.Сегодня все больше и больше людей стучат костяшками пальцев вместо рукопожатия. По-видимому, это связано с мнениями о распространении инфекционных заболеваний (Mela, Whitworth, 2014).
Культурные нравственные порядки можно рассматривать как умвельт, в котором люди рождаются и растут. И родители, и система образования имеют огромную власть над своими младенцами, чтобы навязывать эти приказы как само собой разумеющееся. Например, большинство людей будут придерживаться определенной религии, потому что их родители тоже.Таким образом, родители играют большую роль в воспроизводстве культурной структуры общества.
Во-вторых, есть юридических моральных предписаний . В любой момент времени люди подчиняются сложному набору законов и юридических правил, которые говорят им не делать определенных вещей (например, убивать кого-то или игнорировать светофор) или делать определенные другие вещи (например, платить налоги или помогать кому-то в необходимость). В обоих случаях несоблюдение закона может привести к наказанию, причем наиболее суровое наказание будет исполнено. Правовые нормы и процедуры организованы на геопространственном уровне государств или регионов (например, в ЕС).Таким образом, юридические моральные порядки ограничены территорией определенных государств или регионов. Некоторые правовые нормы будут совпадать с более крупными культурными моральными порядками. Большинство людей, например, будут убивать других людей не потому, что считают это незаконным, а потому, что они присвоили культурную норму, согласно которой убивать других людей — неправильно. Но во многих других случаях правовые нормы не обязательно считаются морально обязательными. В таких случаях люди соблюдают закон, потому что хотят избежать наказания.Например, многие люди связывают мошенничество с налогами с вероятностью быть пойманным. Другие сочтут неуплату налогов безнравственным.
Набор правовых норм, применимых в любой конкретной ситуации, огромен. Таким образом, правовые моральные порядки основаны на предпосылке, что все люди должны знать все существующие правовые нормы. Это, конечно, выдумка, но она нужна для того, чтобы система работала. Другое предположение состоит в том, что люди несут ответственность за то, что они делают. Таким образом, определенные категории людей не подпадают под действие закона (например,g., маленькие дети или люди с тяжелыми психическими расстройствами). Рядом с этим было введено понятие «правосубъектность». Этот концептуальный инструмент позволяет относиться к компаниям, например, как к лицам, несущим юридическую и моральную ответственность.
В-третьих, существует институциональных моральных порядков . Всякий раз, когда люди становятся членами определенной организации, у них есть целый набор правил. Понятие института охватывает широкий круг социальных вопросов. Классическими примерами являются бизнес-корпорации, школы, магазины, почтовые отделения или министерства.В приведенных выше примерах все они имеют физическую корреляцию, например, здание школы или фабрика. Но заведение — это больше, чем просто здания. Школа становится школой только тогда, когда есть ученики и учителя, которые взаимодействуют в соответствии с определенными правилами и привычками, которые были сформированы и дополняют действующие культурные и юридические моральные порядки. Таким образом, поступление в школу или магазин можно рассматривать как установление определенного институционального морального порядка. Многие учреждения являются системами организаций.Возьмем, к примеру, любую национальную систему высшего образования, она состоит из различных университетов и агентств, финансирующих исследования. А каждый университет, в свою очередь, состоит из разных отделений. Итак, быть профессором означает быть частью различных институциональных моральных устоев, включая дисциплину (химия, психология и т. Д.), К которой он принадлежит.
В-четвертых, есть разговорных моральных приказа . Они создаются участниками разговора и, если не закреплены в официальном учреждении, будут существовать только во время эпизода этого разговора.Каждый раз, когда два или более человека встречаются и разговаривают, действует местный моральный порядок, который настраивает более общие моральные порядки, описанные выше. Это делается декларативными речевыми актами, которые бросают вызов моральным устоям, которые, как предполагается, имеют отношение к делу.
Хорошим примером может служить свидание за ужином. В игре задействованы всевозможные культурные, правовые и институциональные моральные порядки, но продолжающийся разговор за обедом уточняет эти права и обязанности. Например, в западной культуре люди едят еду только на своей тарелке.Но можно сказать: «Вам стоит попробовать мою пасту. Это вкусно.» В некоторых случаях, например, на официальном обеде между главами государств, это просто «не сделано». В других случаях, например, при встрече двух друзей, это было бы вполне приемлемо. Дело в том, что если другой принимает предложение поделиться едой, создается определенная разговорная атмосфера, которая позволяет другим речевым актам. Если один, например, скажет: «Я думаю, что люблю тебя», а другой ответит «Я тоже!», То может произойти кардинальное изменение морального порядка в разговоре. Теперь возможен совершенно новый набор речевых актов и поступков.В конечном итоге они могут стать узаконенными, например, в браке.
Наконец, есть личных моральных приказа , которые возникают из внутренних разговоров, которые люди ведут сами с собой. У людей всегда есть внутренние диалоги, в которых они могут размышлять о том, что делать, а что неправильно. Как отметили Харре и Джиллетт (1994) (стр. 28–29), используя индексное слово «я», люди создают свою моральную индивидуальность для всех, к кому они обращаются. Даже если определенные моральные приказы были усвоены, они все равно могут решить не действовать соответствующим образом и заняться другими делами.
Вместе вышеперечисленные пять разновидностей моральных порядков составляют невидимое моральное пространство, которое всегда окружает людей. Часть этого пространства можно рассматривать как структуру, поскольку оно включает моральные порядки, существующие независимо от вовлеченных людей. Это относится к культурному, правовому или институциональному моральному порядку, который существует до и только в той степени, в которой существует корпус записанных речевых актов с декларативными полномочиями. Другими словами, структура — это реальность разговора, даже если разговор носит абстрактный характер.В этом смысле простой дорожный знак с надписью «Стоп» можно рассматривать как разговор между водителем и властями, установившими правила дорожного движения. Такую структуру нельзя рассматривать как особый «уровень». Есть только один уровень — общевидовой и исторической беседы между людьми. Другая часть невидимого морального пространства связана с агентством, поскольку относится к местным разговорным или личным моральным порядкам. Здесь норматив создается во время разговоров между людьми или разговоров человека с собой.Люди, в одиночку или разговаривая с другими, могут создавать собственное нравственное пространство. Даже в зоне для некурящих они могут, например, согласиться с тем, что курить — это нормально. Таким образом, взаимное существование моральных порядков, основанных на структуре или на действии, объясняет отклонения и изменения. Хотя теоретически люди могут делать много разных вещей в любое время, реальный набор вещей, которые считаются правильными в каждой ситуации, ограничивается действующими моральными порядками. Некоторые из этих моральных порядков структурны, другие связаны с свободой воли.И некоторые моральные приказы имеют очень сильное влияние, поскольку они подробно предписывают, что нужно делать. Другие моральные приказы оказывают более слабое влияние, поскольку они оставляют людям большую свободу действий и высказываний. Но все они имеют одну общую черту: они носят дискурсивный характер. Эта перспектива также позволяет рассматривать деятельность и структуру не как две логически независимые концепции, которые противопоставляют общество и личность. Следуя Выготскому (1978), можно различать, с одной стороны, публичную или частную сферы, а с другой стороны, индивидуальную или коллективную сферы.Как продемонстрировал Харре (1984), это позволяет концептуально представить социальную сферу как пространство с четырьмя квадрантами, образованными декартовским произведением оси публичное / частное и оси коллективного / индивидуального. Моральные порядки можно найти в общественной / коллективной сфере, как в случае культурных, правовых и институциональных моральных порядков, а также в индивидуальной / частной сфере, как в случае с личными моральными порядками. Разговорные моральные порядки, которые возникают, когда люди разговаривают друг с другом, можно рассматривать как публичные / частные.Более того, люди могут присвоить то, что находится в общественном / коллективном квадранте, и сделать это частным / индивидуальным. Это тот случай, когда люди, например, придерживаются религии и чувствуют себя виноватыми, если не соблюдают религиозные цели. И люди также могут развивать свои собственные моральные порядки и переносить их в коллективную / общественную сферу, ведя себя соответствующим образом или публично отчитываясь за них. Результатом может стать создание нового морального порядка, который, в свою очередь, влияет на других.
Представление «деонтических сил» и «моральных порядков» в качестве опосредующих понятий в дебатах «Структура — Агентство» указывает на общую речевую сущность как агентства, так и структуры.Следующий шаг — посмотреть на динамику того, как агентство и структура соотносятся друг с другом. В следующем разделе это рассматривается посредством введения понятия поля как третьей опосредующей концепции.
Моральные приказы как стратегические поля
Таким образом, развитый аргумент состоит в том, что как структуры, так и лица (агенты) могут создавать определенные моральные порядки посредством декларативных речевых актов с деонтическими полномочиями. Примером того, как это работает для структур, является закон о запрете курения, изданный правительством.Такой закон можно рассматривать как постоянный или постоянный речевой акт, в котором говорится: «Вам не разрешается курить в этой комнате». Если люди не соблюдают это правило, их можно обвинить и даже наказать. Аналогичным примером того, как это работает на уровне агентов, может быть группа людей, которая собирается в месте, где курение разрешено. Предположим, один из них говорит: «Я был бы признателен, если бы мы все воздерживались от курения». В это время создается новый местный заказ. Итак, моральные приказы структурного характера заданы заранее и могут быть активированы через речевых актов.Другие моральные порядки возникают из разговоров и также активируются посредством речевых актов . В результате общества можно рассматривать как сложный и динамичный набор моральных порядков, которые вместе образуют «умвельт» всех социальных процессов. Эту сложность лучше всего понять, метафорически сравнивая моральные порядки, описанные выше, с «полями», в которых генерируются речевые действия и поступки людей. Поэтому в этом разделе я предлагаю рассматривать моральные порядки как стратегические области.Этот подход может быть связан с интересной альтернативой структурированной социальной теории Гидденса, которая, согласно Койвисто (2012) (стр. 45), является реалистическим «стратегически-реляционным подходом», предложенным Хэем (2002) и Джессопом (2008). Эти авторы рассматривают структуру и деятельность как аналитические категории, проявления которых являются относительными. Вместо структуры Хэй (2002) (стр. 129) говорит о «стратегически избирательном контексте» и вместо агентности предпочитает говорить о «стратегических действиях». Таким образом, основной упор в стратегически-реляционном подходе делается на «взаимоотношениях между стратегическими субъектами и стратегическим контекстом, в котором субъекты присваивают среду, в которой они находятся» (Койвисто, 2012, стр.45–46).
Технический термин «поле» берет свое начало в физике, точнее в усилиях середины девятнадцатого века по объединению электричества и магнетизма в одну теорию электромагнетизма, основанную на понятии магнитных полей (McMullin, 2002). Отсюда теория с помощью математики развила понятие «векторные поля». Сегодня наше понимание взаимодействий между элементарными частицами также основывается на понятии полей. Считается, что частицы являются возбуждением (называемым «квантом») определенного поля.Говорят, что такие поля обладают волновыми свойствами, и эти волны могут «схлопываться» в частицы. Это предмет квантовой теории, математической основы для предсказания результатов экспериментов на субатомном уровне. За математикой квантовой теории поля по-прежнему стоит понятие «области влияния» (McMullin, 2002, стр. 14). Самым революционным аспектом квантовой теории является то, что вероятность обнаружения определенных свойств в эксперименте связана с актом измерения. Поэтому волновые функции (которые являются выражением квантовых вероятностей) рассматриваются как «потенциальные реальности, а не фактические» (Wendt, 2015, p.3). Математика, лежащая в основе этого мышления, огромна. Но суть можно уловить следующим образом: субатомные явления, такие как электроны, можно рассматривать и как частицу, и как волну. Но вывод многих экспериментов таков, как заметил Вендт (2015), что «пока электрон не наблюдается, он ведет себя так, как если бы он был волной, а как только его наблюдают, он ведет себя так, как если бы он был частицей». (стр.46). Неудивительно, что термины «поле» и «квант», лишенные их математических основ, проникли в социальные науки.
Левину (1951) можно приписать введение теории поля в психологию и социальную теорию. Но именно Бурдье (1993) (стр. 72–77) популяризировал понятие поля среди исследователей социальных наук (Hilgers and Mangez, 2015). Он рассматривал концепцию «поля» как социальное пространство, структурированное по трем измерениям: властные отношения, объекты борьбы и правила, принимаемые как должное (Pouliot and Mérand, 2013, p. 30). В основе концепции поля Бурдье лежит идея о том, что социальная сфера разделена на относительно автономные социальные подсистемы, которые следуют своим собственным «законам» и логике (Бурдье, 1979, стр.127). Поля могут быть маленькими или большими, более или менее важными или более или менее автономными (Pouliot and Mérand, 2013, p. 32).
В последние годы несколько ученых попытались применить квантовое мышление к пониманию психологических и социальных явлений. Зохар (1991) и Зохар и Маршалл (1994), например, разработали популяризированные представления о человеческом разуме и обществе, используя квантовую физику в качестве источника вдохновения. Другие, такие как Aerts (2014), разработали более сложные взгляды на то, как квантовая теория может способствовать пониманию психологических явлений.Вендт (2015) даже защищал утверждение, что люди на самом деле являются квантовыми системами.
Вдохновленный работами Бурдье и Гидденса, Флигстайн и МакАдам (2012) разработали общую теорию социальных организаций вокруг понятия «поля стратегических действий», которые они определяют как «социальные порядки мезоуровня» (Fligstein and McAdam, 2012, стр. стр. 3), которые являются «основными структурными элементами современной политической / организационной жизни в экономике, гражданском обществе и государстве» (Fligstein and McAdam, 2012, p.3). Внутри таких полей субъекты (которые могут быть людьми или коллективами) взаимодействуют друг с другом на основе общего понимания цели поля, распределения власти в этом поле и применяемых правил. Подобно русским куклам, они изображают такие поля вложенными и связанными в более широком окружении почти бесчисленных соседних и перекрывающихся полей. Это делает поля взаимозависимыми, поскольку изменение в одном часто вызывает изменение в другом поле.
Флигштейн и Макадам придают государству особый статус.Они рассматривают состояние как особое поле, в которое встроены все остальные поля. Но государство — это еще не самое верхнее поле. Сами государства можно рассматривать как части более крупных полей. С одной стороны, существует поток трансграничных взаимодействий, таких как торговля, туризм, миграция, загрязнение, которые можно рассматривать как международные стратегические области. С другой стороны, государства могут участвовать в двустороннем и многостороннем взаимодействии с другими государствами посредством дипломатии , соглашений и т. Д. Их снова можно рассматривать как стратегические области на уровне выше государства.В некоторых случаях поле может даже иметь глобальный характер, как в случае с международным правом.
Теория полей стратегических действий в сочетании с понятием морального порядка позволяет представить социальную сферу как сложный набор частично перекрывающихся или смежных дискурсивных нормативных пространств, в которых люди взаимодействуют либо от имени института, либо от своего имени. Следующий пример иллюстрирует это. Когда министр иностранных дел Бельгии обращается к Генеральной Ассамблее ООН, он имеет право выступать от имени Бельгии.Таким образом, он работает в стратегической сфере, известной как многосторонняя система ООН. В этой области действуют несколько правил и норм, например, в отношении времени, в течение которого можно говорить. Но как человек этот министр одновременно принадлежит к разным другим моральным полям. Одно из таких полей — это, например, его политическая партия. Поэтому, выступая от имени своей страны, он должен убедиться, что то, что он говорит, приемлемо для его товарищей по партии. Между тем, он также может принадлежать к специальному полю среди членов ООН, например, к группе «друзей» определенной резолюции.
Чтобы понять, как структуры действуют как моральные порядки, можно метафорически сравнить отношения между людьми и структурой с отношениями между людьми и физической реальностью. В последнем случае можно сказать, что человека всегда окружает материальная реальность. Это воздух, которым мы дышим, предметы вокруг нас, сила тяжести, которая не дает нам оторваться от земли. Физическая среда, в которой работают люди, ограничивает их возможности и влияет на них.Например, если в воздухе недостаточно кислорода, нам может быть труднее подниматься по лестнице. А ходить по гальке — это не то же самое, что ходить по песку. Но в то же время люди тоже являются физическими существами. Итак, есть и «внутренние» физические переживания. Например, плохая еда вызывает расстройство желудка. Другой пример: у людей есть физические органы, которые позволяют нам воспринимать части внешней реальности. Мы можем видеть вещи своими слухами, но только в определенном диапазоне.Мы не можем слышать окружающие нас радиоволны (если мы не используем радиоприемник). Структуры относятся к людям во многом так же, как и физическая реальность, и в то же время присутствуют «внутри» их. Это делается с помощью моральных порядков: структуры уникальным образом охватывают людей как поле моральных порядков, которые ограничивают и влияют на то, что люди могут делать в данное время и в определенных местах. Например, когда профессор ведет курс, действует несколько моральных предписаний, таких как учебные цели курса, трудовой договор, который он подписал, его послужной список публикаций, динамика классной комнаты.Нигде нет полного сценария того, о чем будет говорить профессор, это его собственный выбор, если это позволяют моральные правила игры. Таков моральный порядок академической свободы, хотя профессор физики, читающий лекции о Фрейде, может оказаться мостом далеко, и студенты могут возразить. Суть в том, что в любой момент времени, в любой конкретной ситуации люди имеют свободу делать то, что им нравится, и говорить то же самое до тех пор, пока это соответствует тому, что моральные приказы в игре позволяют им делать.
Влияние определенных моральных порядков на людей зависит от суммы сил совокупности действующих моральных порядков.Например, для католиков добрачный секс запрещен, но могут действовать и другие моральные нормы. В конце концов, именно личный моральный порядок и моральный порядок разговора между двумя влюбленными людьми определят, будут ли они соблюдать свои религиозные нормы. Таким образом, люди могут действовать против структур, в которых они действуют.
Таким образом, моральные порядки можно рассматривать как поля, которые окружают людей в любой момент времени. Это позволяет подчеркнуть, что они являются одновременно и фоном для людей, и следствием разговоров между людьми.Комбинация идей из подхода моральных порядков и полей с некоторым квантовым языком позволяет переформулировать двойственность структуры Гидденса следующим образом:
1. Социальная структура общества состоит из совокупности моральных полей, которые существуют в разных масштабах и временных интервалах (например, культурные, правовые, институциональные, разговорные и личные).
2. Каждое моральное поле состоит из декларативных речевых актов, произносимых людьми. Моральные поля существуют на коллективном и общественном уровне (культурные, правовые и институциональные моральные порядки), а также на индивидуальном публичном уровне (разговоры) и на индивидуальном частном уровне (личные моральные порядки).
3. Эти моральные поля представляют собой невидимое пространство, в котором люди живут своей жизнью. Это пространство обладает свойствами волновых функций: моральные поля (и, следовательно, структура) невидимы и скрыты в той мере, в какой они присутствуют для людей как потенциальные возможности.
4. Агентство людей (или других действующих лиц со свойствами индивидуальности) состоит из способности активировать определенные моральные поля определенными декларативными речевыми актами или намеренными действиями и их способности помещать себя в другое моральное поле.
5. Активизированное моральное поле ограничивает то, что люди могут говорить и делать, а также открывает возможности говорить и делать определенные вещи.
6. Люди (или другие действующие лица) обладают разными деонтическими способностями для активации моральных приказов.
Основная метафора вышесказанного состоит в том, что моральные порядки можно рассматривать как поля волновых функций, которые не являются локально общими во времени и пространстве. Они могут коллапсировать в речевой акт почти так же, как на субатомном уровне волновые функции коллапсируют в частицу.Пример, иллюстрирующий это. Когда кто-то произносит речевой акт «Я сегодня поеду на работу» и заводит машину, это активирует моральный порядок правил дорожного движения для этого человека. Конечно, это не означает, что речевой акт действительно нужно произносить. Достаточно того, что человек решает поехать на работу. Ей не нужно озвучивать это решение. И даже если поездка на работу стала повседневной привычкой, она предполагает ряд действий, которые на вопрос «что ты делаешь?» приведет к речевому акту «Еду на работу.Другими словами, имеет значение намерение, не имеет значения, озвучено ли это намерение как заявление для семьи или просто задумано человеком. Во всех случаях есть речевой акт, который активирует правила, которые существовали до этого речевого акта, но не имели отношения к этому человеку, когда он, например, завтракал. Когда этот же человек выпивает пару бокалов пива в местном пабе после работы, правила дорожного движения могут снова вступить в силу, даже до того, как вести машину. Люди в пабе могут сказать: «Вы слишком много выпили, вам не следует садиться за руль.Затем в игру вступают другие разговорные и личные приказы. Это согласуется с утверждением Вендта о том, что «структуры (вытягиваются) из квантового мира потенциальности в классический мир действительности агентами» (Wendt, 2015, p. 264). Как первое следствие, «нисходящая причинно-следственная связь в социальных структурах всегда происходит локально, в конкретных практиках в определенных контекстах» (Wendt, 2015, p. 264). Другими словами, место, где нужно искать структуру, — это место, где люди взаимодействуют, когда они участвуют в разговоре.Об этом давно заявлял Ром Харре в своей попытке примирить научный реалистический подход к изучению психологических и социальных явлений с подходом социального конструкционизма (Van Langenhove, 2011). Для Харре социальные структуры — не что иное, как продукт действий в соответствии с правилами, обычаями или условностями. Следовательно, социальная реальность исчерпывается тем, что люди говорят и делают (Harré, 2002a, b). Вендт (2015) приходит к такому же выводу: «Нет более высокого уровня социальной жизни, чем индивидуальный: реальность социальной жизни плоская» (стр.265). В этом плоском социальном мире люди постоянно входят и выходят из различных моральных устоев, например, когда они водят машину, заходят в паб, записываются на программу бакалавриата в университете, женятся или просто разговаривают с другими. Каждый раз это сопровождается правами и обязанностями, а также суждениями о том, что хорошо, а что плохо. В этом смысле социальный мир по сути является моральным миром.
Если согласиться с утверждением Вендта и Харре о том, что социальная сфера плоская и локальная, структурирование должно располагаться в конкретных взаимодействиях между людьми.В некоторой степени это делает Гидденс, но он не предлагает способа эмпирического изучения этого с дискурсивной точки зрения. Более того, необходимо решить вопрос о власти. Как подчеркивал Бурдье (1977), существует символическая борьба за то, как распределить то, что он называет «капиталами», и за то, какие типы капиталов считаются законными в определенной области. В следующем разделе будет представлено понятие «позиция» как четвертое промежуточное понятие между агентством и структурой, которое позволяет связать структурирование с дискурсивными взаимодействиями между людьми.Кроме того, концепция позиции позволит подчеркнуть роль власти в структурировании.
Изучение моральных полей с точки зрения теории позиционирования
До сих пор в этой статье выдвигалась идея о том, что структуру общества можно рассматривать как набор моральных полей, которые формируют деятельность людей. Точно так же свобода действий людей заключается в их возможности действовать вопреки определенным моральным порядкам или создавать новые моральные порядки. И формирование агентства, и агент, который будет формироваться, происходят в сфере разговоров и взаимодействий между людьми.В последнем разделе этой статьи будет представлена концепция позиции, используемая в «Теории позиционирования» как теоретический и эмпирический подход к изучению социальных взаимодействий, который позволит объяснить, как речевые акты формируют и активируют моральные порядки.
Теория позиционирования была впервые представлена в социальных науках Дэвисом и Харре (1990). В этой статье действия по позиционированию рассматривались как конструкции для дискурсивного производства себя, , посредством чего « я » располагаются в разговоре как наблюдаемые и субъективно связанные участники совместно создаваемых сюжетных линий es (Davies and Harré, 1990, p.48). Представляя позиции, речевые акты и сюжетные линии как «взаимно определяющую триаду», концепция позиции стала частью теории, которую можно найти в социальном конструкционистском движении в социальных науках (Berger and Luckmann, 1966) и связанном с ним повествовании. или дискурсивный поворот (Searle, 1995).
Харре и Ван Лангенхов (1991) представили первый систематический обзор теории и представили различные концептуальные уточнения теории, такие как различия между позициями первого и второго порядка, перформативное и бухгалтерское позиционирование, моральное и личное позиционирование, самооценка и другое позиционирование. , а также молчаливое и преднамеренное позиционирование.В других статьях теория позиционирования применялась к пониманию стереотипов (Ван Лангенхов и Харре, 1994), автобиографическим разговорам (Ван Лангенхов и Харре, 1993a), а также к написанию научных публикаций (Ван Лангенхов и Харре, 1993b). В 1999 г. появился первый отредактированный том (Harré and Van Langenhove, 1999a), в котором применение теории позиционирования было расширено до таких вопросов, как межгрупповые отношения или национальная идентичность. В том же томе Теория позиционирования была названа отправной точкой для размышлений о многих различных аспектах социальной жизни (Harré and Van Langenhove, 1999b, p.10). И действительно, постепенно другие авторы стали ссылаться на теорию позиционирования как на основу для анализа социального дискурса. Примеры включают изучение взаимодействия учителя и ученика, практики консультирования, процессов управленческих изменений, политики по связям с общественностью и международных отношений. К 2008 году Харре и его сотрудники (см. Moghaddam and Harré, 2010) смогли заявить, что приложения теории позиционирования претерпели очень естественное расширение масштаба — от анализа динамики личных встреч до развертывания взаимодействие между национальными государствами.Действительно, одним из конкретных достижений стало применение теории позиционирования в области анализа внешней политики и международных отношений. Примеры включают Slocum и Van Langenhove (2003), Slocum-Bradley (2008) и Moghaddam and Harré (2010).
Одним из ключевых аспектов теории позиционирования является то, что она претендует на роль как динамическую альтернативу более статичной концепции роли . В Harré and Van Langenhove (1999c) (p. 196) это утверждение дополнительно развито со ссылкой на джонсоновское понятие определяемых величин и определителей.Роли — это определяющие факторы; позиции поддаются определению. То есть «роль» означает «положение», как «цвет» означает «красный». Принятие или назначение роли фиксирует только ряд должностей, совместимых с «ролью». Более того, позиции связаны с развитием (разговорных) взаимодействий. Он основан на идее, что во время разговорного взаимодействия люди используют повествования или «сюжетные линии», чтобы сделать свои слова и действия значимыми для себя и других.
Метафорически их можно представить как представляющих себя и других как актеров драмы с разными «позициями», назначенными игрокам.В этой теории термин «позиция» относится к «сиюминутным группам прав и обязанностей говорить и действовать определенным образом» (Van Langenhove, 2011, p. 67). В сочетании с речевыми актами и сюжетными линиями разговора позиции образуют взаимно влияющий треугольник. В этой метафоре треугольника элементы взаимно определяют друг друга. Позиция — презумпции прав и обязанностей — влияет на значение, придаваемое определенным речевым актам, в то время как позиция и речевые акты влияют и находятся под влиянием сюжетной линии (Moghaddam et al., 2008, с. 12).
«Позиции» в этом контексте характеризуются принятием нескольких теоретических приемов, с помощью которых человек и другие говорящие представлены как стоящие в различных отношениях друг с другом. Таким образом, позиции — это части, исполняемые участниками. Позиции и соответствующие допустимые репертуары действий связаны с сюжетными линиями. Действиям (включая речь) участников придают значение сюжетная линия и расположение участников.Определенное положение предполагает обязательства или ожидания относительно того, как себя вести. Должности также могут иметь права, такие как право вмешиваться или говорить. Таким образом, теория позиционирования открывает перспективы для детального анализа дискурсов, и в настоящее время она широко используется в качестве аналитического инструмента для изучения всех видов социальных ситуаций.
Три составляющих элемента треугольника позиционирования — речевые акты, позиции и сюжетные линии — отражают необходимые условия для осмысленности потока взаимодействий.Речевые акты могут иметь разные значения в зависимости от контекста, например, фраза «Мне очень жаль» может относиться к извинениям или — в Великобритании — быть просьбой повторить то, что только что было сказано (Moghaddam et al., 2008, с. 10–11). Позиция — это совокупность прав и обязанностей, которая ограничивает возможные социальные действия организации в том виде, в каком она позиционируется. Это во многом определяет, что актер имеет право сказать с учетом своего положения. Традиции и обычаи являются важными источниками при формировании должностей (Moghaddam et al., 2008, с. 11). Третий угол треугольника занят сюжетными линиями , которые структурируют поток действий и взаимодействий в конкретном разговоре. Он связывает между собой позиции двух акторов, обменивающихся речевыми актами, и создает определенную динамику этих взаимодействий. Источниками сюжетных линий могут быть истории, постоянные презентации в СМИ или традиционные сюжеты. Примером сюжетной линии является дискурс о «хороших парнях» и «плохих парнях». Именно нарратология изучает происхождение сюжетных линий, используемых в определенной культуре (Moghaddam et al., 2008, с. 11–12).
Теорию позиционирования можно рассматривать как отправную точку для размышлений о многих различных аспектах социальной сферы. Если общение между людьми на протяжении всей истории и на протяжении всей истории можно рассматривать как сеть лабиринтов, теория позиционирования предлагает возможность перейти от точки зрения торговцев лабиринтом , тех, кто находится в лабиринте, к перспективе лабиринта. зрители , те, кто может видеть лабиринт сверху (Harré and Van Langenhove, 1999b, p.13). Теория позиционирования предлагает интересный взгляд на проблему структуры и агентства, что подтверждает идею Гидденса о «двойственности структуры». Фактически, триада позиционирования была разработана как грамматика для исследования «моральных контекстов намеренного действия» (Harré and Van Langenhove, 1999a, p. Iii). Намеренное действие можно рассматривать как ссылку на свободу действий, в то время как моральный контекст можно рассматривать как ссылку на структуру. Комбинирование введенных выше понятий моральных полей и деонтических речевых актов с грамматиками теории позиционирования позволяет, таким образом, изобразить любую данную социальную ситуацию следующим образом:
— Во-первых, в игре присутствует ряд культурных, правовых и институциональных моральных порядков, которые заранее заданы и определяют позиции вовлеченных акторов.Эти должности наделяют людей определенными полномочиями.
— Во-вторых, есть развивающаяся сюжетная линия разговора, которая составляет местный моральный порядок, в котором исходные позиции могут быть подтверждены или изменены.
— В-третьих, существуют личные моральные приказы задействованных акторов, которые влияют на то, что они будут делать и говорить, включая опровержение и принятие заранее заданных позиций или разговорных позиций.
Теория позиционирования также позволяет ввести понятия власти в дебаты между структурой и агентством.Это можно снова проиллюстрировать на примере воскресного обеда. Собирающиеся члены семьи обладают разными полномочиями. Во-первых, есть культурные предписания, которые дают определенные полномочия, например, семьям патер, как тем, кто режет мясо, или старейшему человеку за столом, который имеет право на то, чтобы его обслужили первым. Во-вторых, действуют некоторые правовые нормы, например, ответственность за поведение несовершеннолетнего ребенка несут родители. В-третьих, в семье выработаются определенные привычки, которые отличают их воскресный ужин от других семейных встреч.И, в-четвертых, каждый из членов семьи также выносит на обсуждение свои собственные моральные устои. Вдобавок ко всему, полномочия членов семьи могут измениться во время ужина из-за продолжающегося разговора или в результате определенного поведения (подумайте, например, что может случиться, если один из членов семьи выпьет слишком много вина…).
Это означает, что власть структур никогда не бывает прямой. Это, например, не институт, обладающий властью, а действующие лица, которые его представляют и участвуют в разговоре, который оказывает власть.Правила дорожного движения действительно устанавливают ограничения скорости, но нужен либо полицейский, который использовал бы свое положение для наложения штрафа на того, кто ехал слишком быстро, либо требуется установление ограничений скорости водителем, который, следовательно, не будет ехать слишком быстро. Это также означает, что сила структур всегда относительна. Если бы он был абсолютным, никакие социальные изменения были бы невозможны. Гидденс (1976) считает, что агентность логически связана с позером (стр. 110): «способность актера вмешиваться в серию событий, чтобы изменить их ход.А также: «самые, казалось бы,« бессильные »люди способны мобилизовать ресурсы, чтобы вырезать« пространства контроля »в отношении своей повседневной жизни и в отношении действий более могущественных» (Гидденс , 1982, с. 197–198). Томпсон (1989) (стр. 64) указал, что Гидденс не может прояснить виды правил, которые имеют отношение к структуре, не предполагая критерия важности, и что этот критерий не может быть получен из одних лишь соответствующих правил. Но у людей всегда есть возможность не подтверждать культурные, государственные или групповые роли.Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы создаем личный моральный порядок. Это хорошо иллюстрируется поведением трафика. Большинство людей плохо подумают о водителях, которые не соблюдают ограничения скорости, но когда они сами едут слишком быстро, они будут ссылаться на конкретные причины, чтобы оправдать свое поведение. Личный моральный порядок, когда человек сидит в «пузыре», которым является автомобиль, часто оказывается более сильным, чем моральный порядок правил дорожного движения.
Соотношение между деонтическими речевыми актами и моральными порядками, таким образом, никогда не бывает абсолютным, и нет причинной связи между произнесением речевого акта и его деонтической силой.Хотя все моральные порядки создаются деонтическими речевыми актами, это произойдет только в том случае, если моральное поле в игре не имеет более сильных сил, препятствующих активации этого морального порядка. Например, светофор в безлюдном районе города можно игнорировать, если водителю нужно отвезти беременную жену в больницу. Также силы речевого акта связаны с позицией, занимаемой тем, кто произносит этот речевой акт. Этот человек должен быть в положении, которое дает ему / ей право произнести этот речевой акт.Кроме того, чтобы речевой акт имел эффект, он должен быть частью определенной сюжетной линии. Другими словами, деонтические силы речевых актов условны. Возьмем, к примеру, следующий речевой акт: «Пожалуйста, закройте дверь». Этот речевой акт обладает потенциальной проникающей силой, заключающейся в том, что дверь закрывается. Но для того, чтобы это произошло, человек, который просит закрыть дверь, должен иметь возможность посоветовать кому-то закрыть дверь для него. Точно так же и этот другой человек должен быть в положении, когда он может принять и выполнить это требование.Возможны многие ситуации, когда права и обязанности распределены так, что, если А попросит закрыть дверь, Б действительно сделает это. Предположим, что А сломал ногу и ему трудно встать, а В — родственник, который может ходить, имеет смысл, что он или она действительно последует за ним. Однако вполне может быть, что даже при правильной позиции собеседников ничего не произойдет. Возможно, А. говорил на лекции о теории Сирла и использовал в качестве примера «закрой дверь». Когда B понимает сюжетную линию в игре, он или она не закроет дверь, а просто продолжит слушать …
Используя концепции Серла, это означает, что деонтические речевые акты, таким образом, получают свою нормативность из позиций актера, который их произносит, из сюжетной линии разговора, в котором произносится речевой акт, и из места, которое занимает активированный моральный порядок. моральное поле состоит из всех других действующих моральных порядков.Эта нормативная сила речевых актов не является причинной: один речевой акт не вызывает другого. Скорее, одно речевое действие делает другой уместным или ответственным (Harré and Gillett, 1994, p. 33). Таким образом, взаимодействие между агентством и структурой можно рассматривать как связанное с позициями, которые люди занимают в любое время: есть позиции, которые навязываются структурой, и позиции, которые должны идти вразрез с тем, что навязывают структуры. Более того, люди иногда могут изменять или даже создавать структуры.Не существует общего правила или закона, определяющего, что первично. Только исследования по конкретным темам могут рассказать больше о силе структур и агентов.
Заключение
Дебаты между структурой и агентством затрагивают два взаимосвязанных вопроса: как возникает структура и какова ее сущность. В этой статье предпринята попытка внести свой вклад в решение обеих проблем, введя ряд промежуточных концепций в теорию структурирования Гидденса и заявляя, что они дают ответы на оба вопроса.Отношения между агентством и структурой теперь можно описать следующим образом:
— Социальные структуры, по сути, являются моральными порядками, которые как области ограничивают, позволяют и влияют на то, что люди могут и должны делать.
— Эти моральные порядки бывают разных форм, от больших культурных пространств до индивидуальных систем верований, которые включают соответствующие культурные, правовые и институциональные порядки, а также локальные порядки, возникающие в ходе бесед и личных внутренних разговоров.Что связывает различные моральные порядки, так это то, что они созданы деонтическими речевыми актами.
— Совокупность моральных порядков в игре, когда человек входит в определенную (разговорную) ситуацию, может рассматриваться как моральное поле, которое окружает человека и в котором разные порядки имеют определенную «валентность» по отношению к человеку.
— Действия людей заключаются как в возможности сопротивления действующим моральным порядкам, так и в возможности создания новых моральных порядков.
— Эти возможности сопротивляться или создавать моральные порядки связаны с властными позициями людей в их текущих социальных взаимодействиях.
Вышеупомянутое позволяет учитывать как стабильность обществ, так и возможность изменений, и создает концептуальное пространство для эмпирических исследований, позволяющих понять, как люди и структуры. Более того, такой подход позволяет взглянуть на двойственную структуру общества с единственной точки зрения: моральной или нормативной. Когда Гидденс (1984) представил свои взгляды на структурирование, он использовал исследование Уиллиса (1977) «Обучение труду» в качестве примера, чтобы показать, как применять двойственный структурный подход.Одна из задач — объяснить, как дети из рабочего класса получают работу. Уиллис сосредоточился на том, как функционирует школьная система и как культура шуток «парней» создает определенный моральный порядок. Он ясно продемонстрировал, что школа предполагает очень специфический моральный порядок, который он называет «культурой шуток». Но ссылки только на школьную культуру недостаточно, чтобы объяснить, почему в некоторых случаях дети из рабочего класса действительно добиваются так называемой восходящей социальной мобильности, а в других — нет.Используя четыре представленных выше опосредующих концепции, возможен эмпирический подход, который фокусируется на анализе морального порядка в семье рабочего класса и соотносит его с более широким моральным полем, в котором они действуют. Следует сосредоточить внимание не только на школьной культуре, но и на всем моральном поле, в котором растут дети. Преимущество такого подхода состоит в том, что анализ семейной ситуации может быть объединен с более широким социальным контекстом этой семьи, включая, например, то, как они действуют вне школьного контекста, как определенные семьи будут иметь определенные моральные порядки и как они возможность предлагать работу действует в соответствии с культурным моральным порядком, который использует определенные социальные представления о концепции «рабочий класс».«Позиционирование как ребенка из рабочего класса случается во многих различных ситуациях. Задача состоит в том, чтобы понять отношения между ситуациями и влияние альтернативных (самостоятельных) позиций. Опять же, на этот вопрос нужно ответить с помощью эмпирических исследований. Понимание двойственности структуры требует исследования, которое не сосредотачивается на одной ситуации, но должно принимать во внимание совокупность действующих моральных порядков, а также (властные) позиции всех участников.Быть «ребенком из рабочего класса» — это не роль, а только позиция в различных разговорных контекстах (из которых школа является только одним) и в определенной степени также само-позиционирование.
В этой статье была предпринята попытка продвинуть понимание взаимосвязи между структурой и агентством, представив структуру общества как сложный набор частично перекрывающихся и вложенных моральных порядков, которые функционируют как области, в которых субъекты занимают позиции прав и обязанностей и взаимодействуют друг с другом. диалоговые взаимодействия, в которых развиваются сюжетные линии, которые учитывают прошлые действия и оправдывают будущие действия.Более того, моральные поля можно рассматривать как обладающие квантовыми свойствами: они существуют как потенциальные возможности до тех пор, пока не будут активированы речевыми актами. Такой подход имеет то преимущество, что позволяет использовать единую концептуальную основу для изучения различных социальных структур, таких как системы права, экономические операции и практики, такие как брак, и так далее. Кроме того, этот подход позволяет уточнить, как связаны агентство и структура. Наконец, вышеизложенное также позволяет связать структуру и агентство таким образом, что «уровни» больше не нужны.Есть только один уровень разговоров и декларативных речевых актов, которые являются частью этих разговоров. Они создают сложный и постоянно меняющийся набор моральных полей, которые постоянно окружают людей. Время и пространство, охватываемые этими полями, могут различаться, но между ними нет онтологической иерархии. В этой сфере разговоров моральные порядки — это потенциальные реальности, которые активируются только тогда, когда люди делают или говорят определенные вещи. Вход в паб, свадьба или просто прогулка по улице активируют многочисленные моральные приказы, которые вместе образуют моральное поле.Невидимая структура, которая нас окружает, становится ощутимой через речевые акты, и они создаются декларативными речевыми актами с деонтическими силами. Прочность и долговечность таких конструкций зависит от позиции тех, кто произносит эти речевые акты. Таким образом, деятельность и структура являются двумя проявлениями того факта, что социальный мир по сути является моральным миром. Это подразумевает, что социальные науки, возможно, следует снова рассматривать как науки о морали и больше сосредотачиваться на том, что люди «ожидают» и «предполагают» делать, и на том, почему они выбирают либо подчиняться, либо сопротивляться тому, что структуры общества хотят или позволяют им. делать.
Лучшее понимание двойственности структуры через введение моральной перспективы возможно, но это поднимает большой вопрос: почему люди действуют в структуре моральных полей? Ответ на этот вопрос может заключаться в том, что моральные поля допускают сотрудничество между людьми, которое заставляет общество работать. Такое сотрудничество подразумевает большое разделение труда, а также различное распределение власти. С появлением речевых актов несколько лет назад Homo sapiens могут сотрудничать с другими людьми, даже с теми, о которых мы не знаем.Во всем мире люди делают что-то «для меня»: например, ПК, который я использую в настоящее время, изготовлен китайскими рабочими, которых я не знаю, и разработан людьми в Калифорнии, которых я тоже не знаю лично. Нас связывает цепочка речевых действий от идеи создать компьютер Apple до продавца в магазине, которые убедили меня в том, что покупка именно этого ПК была для меня лучшим вариантом. Homo sapiens — единственный вид на Земле, который организовался в такие огромные сети.Конечно, существуют и другие социальные животные, но их сотрудничество остается локальным. Сети между людьми кристаллизовались во многих объектах, созданных руками человека (включая города), и в паутине институциональных фактов, охватывающих весь мир. Такое сотрудничество возможно только благодаря морали, поскольку оно образует клей, который скрепляет общество, а также создает пространство для социальных изменений. Когда Хайдт (2013) утверждал, что мораль связывает и ослепляет, он неявно доказывал, что структуры связывают и ослепляют.Можно добавить, что именно свобода воли делает это связывающее и ослепляющее изменчивым. Или, как однажды сказал Харре (1979): «Задача реконструкции общества может быть начата кем угодно в любое время и при любой встрече лицом к лицу».
Авторские взносы
Автор подтверждает, что является единственным соавтором данной работы, и одобрил ее к публикации.
Заявление о конфликте интересов
Автор заявляет, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Сноски
Список литературы
Арчер, М. (1995). Реалистическая социальная теория: морфогенный подход . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google Scholar
Остин, Дж. Л. (1961). Как делать вещи со словами? Оксфорд: Clarendon Press.
Google Scholar
Бергер, П. Л., и Лакманн, Т. (1966). Социальное конструирование реальности . Гарден-Сити, Нью-Йорк: Double Day and Co.
Google Scholar
Бурдье, П.(1977). Очерк теории практики . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google Scholar
Бурдье П. (1979). La различие: критика социального правосудия . Париж: Les éditions de minuit.
Google Scholar
Бурдье П. (1993). Область культурного производства: очерки искусства и литературы . Колумбия: Издательство Колумбийского университета.
Google Scholar
Бринкман, С. (2011). Психология как моральная наука.Перспективы нормативности . Дордрехт: Спрингер.
Google Scholar
Брайант, К. Г. А., и Джари, Д. (1991). Теория структурирования Гидденса. Критическая оценка . Лондон: Рутледж.
Google Scholar
Картер, Б. (2002). Сила народа. Харре и миф о социальной структуре. Eur. J. Soc. Теория . 5, 134–142.
Google Scholar
Дэвис Р. и Харре Р. (1990). Позиционирование: дискурсивное производство себя. J. Theory Soc. Behav. 20, 43–63. DOI: 10.1111 / j.1468-5914.1990.tb00174.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дуглас, М. (1999). Неявные значения: избранные сочинения в антропологии . Лондон: Рутледж.
Google Scholar
Дюркгейм Э. (1952). Самоубийство: социологическое исследование . Лондон: Рутледж. Оригинальная версия 1897 года.
Google Scholar
Элдер-Васс, Д. (2010). Причинная сила социальных структур.Возникновение, структура и агентство . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google Scholar
Элдер-Васс, Д. (2011). Причинная сила дискурса. J. Theory Soc. Behav. 41, 143–160. DOI: 10.1111 / j.1468-5914.2010.00449.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Флигштейн, Н., Макадам, Д. (2012). Теория полей . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Google Scholar
Franke, U., and Roos, U.(2010). Акторы, структура, процесс: преодоление дебатов о государственной личности с помощью прагматической онтологической модели теории международных отношений. Ред. Внутр. Stud. 36, 1057–1077. DOI: 10.1017 / S0260210510000203
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Гидденс А. (1976). Новые правила социологического метода . Нью-Йорк: Харпер и Роу.
Google Scholar
Гидденс А. (1979). Центральные позиции в социальной теории .Лондон: Макмиллан.
Google Scholar
Гидденс А. (1982). Профили и критика в социальной теории . Лондон: Macmillan Press Ltd.
Google Scholar
Гидденс А. (1984). Конституция общества: Очерк теории структурирования . Кембридж: Polity Press.
Google Scholar
Гоффман Э. (1967). Ритуал взаимодействия. Очерки личного поведения . Нью-Йорк: Двойной день и компания.
Google Scholar
Хайдт, Дж. (2013). Праведный разум . Лондон: Penguin Books.
Google Scholar
Харре Р. (1979). Социальная жизнь . Оксфорд: Бэзил Блэквелл.
Google Scholar
Харре Р. (1984). Личное существо. Теория индивидуальной психологии . Кембридж: Издательство Гарвардского университета.
Google Scholar
Харре Р. (1987). «Грамматика, психология и моральные права», в Значение и рост понимания , изд.М. Чапман (Берлин: Springer-Verlag), 219–230.
Google Scholar
Харре Р. (2002a). Когнитивная наука; Философское введение . Лондон: МУДРЕЦ.
Google Scholar
Харре Р. (2002b). Ром Харре о социальной структуре и социальных изменениях: социальная реальность и миф о социальной структуре. Eur. J. Soc. Теория 5, 111–123. DOI: 10.1177 / 13684310222225333
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Харре Р. и Джиллетт Г.(1994). Дискурсивный разум . Лондон: МУДРЕЦ.
Google Scholar
Харре Р. и Ван Лангенхов Л. (1991). Разновидности позиционирования. J. Theory Soc. Behav. 21, 393–407. DOI: 10.1111 / j.1468-5914.1991.tb00203.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Харре Р. и Ван Лангенхов Л. (1999a). Теория позиционирования . Оксфорд: Basil Blackwell Publishers.
Google Scholar
Харре Р. и Ван Лангенхов Л.(1999b). «Динамика социальных эпизодов», в Positioning Theory: Moral Contexts of Intentional Action , edds R. Harré, and L. Van Langenhove (Oxford: Basil Blackwell Publishers), 1–13.
Google Scholar
Харре Р. и Ван Лангенхов Л. (1999c). «Эпилог: дальнейшие возможности», в книге Positioning Theory: Moral Contexts of Intentional Action , edds R. Harré and L. Van Langenhove (Oxford: Basil Blackwell Publishers), 195–199.
Google Scholar
Hay, C.(2002). Политический анализ . Бейзингстоук: Пэлгрейв.
Google Scholar
Хильгерс, М., и Мангез, Э. (2015). Теория социальных полей Бурдье. Концепции и приложения . Лондон: Рутледж.
Google Scholar
Джессоп Б. (2008). Государственная власть: стратегически-реляционный подход . Кембридж: Политика.
Google Scholar
Койвисто, М. (2012). Нормативная государственная власть в международных отношениях .Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Google Scholar
Курри, К. (2005). Невидимый моральный порядок. Агентство, подотчетность и ответственность в терапевтической беседе . Ювяскюля: Исследования Ювяскюля в области образования, психологии и социальных исследований.
Google Scholar
Лакофф Г. и Джонсон М. (1980). Метафоры, которыми мы живем . Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Google Scholar
Лебоу, Р. (2015). Создание причины в международных отношениях .Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google Scholar
Левин, К. (1951). Теория поля в социальных науках . Нью-Йорк: Харпер.
Google Scholar
Лопес Дж. И Скотт Дж. (2000). Социальная структура . Беркли: Калифорнийский университет Press.
Google Scholar
МакЛеннан, Г. (1984). Критическая или положительная теория? Комментарий к статусу Энтони Гидденса. Теория Культа. Soc. 2, 123–129. DOI: 10.1177/0263276484002002010
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Могхаддам Ф. и Харре Р. (2010). Слова конфликта, Слова войны . Санта-Барбара: Praeger.
Google Scholar
Могхаддам Ф., Харре Р. и Ли Н. (2008). Разрешение глобальных конфликтов посредством анализа позиционирования . Нью-Йорк: Спрингер.
Google Scholar
Парсонс Т. (1968). Структура социального действия . Нью-Йорк: Свободная пресса.Оригинальная версия 1937 года.
Google Scholar
Порпора, Д. (1989). Четыре концепции социальной структуры. J. Theory Soc. Behav. 19, 195–211. DOI: 10.1111 / j.1468-5914.1989.tb00144.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пулио В. и Меран Ф. (2013). «Концепции Бурдье: политическая социология в международных отношениях», в Bourdieu in International Relations: Rethinking Key Concepts in International Relations , ed. Р. Адлер-Ниссен (Милтон-Парк: Рутледж), 24–44.
Google Scholar
Праттен, С. (2013). Критический реализм и процесс возникновения эмерджентности. J. Theory Soc. Behav. 43, 251–279. DOI: 10.1111 / jtsb.12017
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Сёрл, Дж. (1995). Конструирование социальной реальности . Нью-Йорк: Свободная пресса.
Google Scholar
Сирл, Дж. (2009). Создание социального мира. Структура цивилизации 907 85. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.
Google Scholar
Семин, Г. Р., и Мэнстед, А. С. Р. (1983). Ответственность за поведение. Социально-психологический анализ . Лондон: Academic Press.
Google Scholar
Слокум, Н., и Ван Лангенхов, Л. (2003). «Интеграция говорит: введение в теорию позиционирования в исследованиях региональной интеграции», в «Я и другие: позиционирование индивидов и групп в личном, политическом и культурном контексте» , ред. Р. Харре и Ф.Могхаддам (Лондон: Praeger / Greenwood Publishers), 219–234.
Google Scholar
Слокам-Брэдли, Н. (2008). «Дискурсивное порождение конфликта в Руанде», в Global Conflict Resolution through Positioning Analysis , edds F. Moghaddam, R. Harré, and N. Lee (New York: Springer), 207–226.
Google Scholar
Смит, К. (2010). Что такое человек? Чикаго: Издательство Чикагского университета.
Google Scholar
Томпсон, Дж.Б. (1989). «Теория структурации», в Социальная теория современных обществ: Энтони Гидденс и его критики, , ред. Д. Хелд и Дж. Б. Томпсон (Кембридж: издательство Кембриджского университета).
Google Scholar
Ван Лангенхов, Л. (2011). Люди и общества . Лондон: Рутледж.
Google Scholar
Ван Лангенхов, Л., и Харре, Р. (1993a). «Рассказывая о своей жизни: автобиографические разговоры и позиционирование», в Discourse and Lifespan Identity , ред.Coupland и J. Nussbaum (Лондон: SAGE), 359–372.
Google Scholar
Ван Лангенхов, Л., и Харре, Р. (1993b). «Позиционирование в научном дискурсе», в Англо-украинские исследования в анализе научного дискурса, разума и риторики , изд. Р. Харре (Льюистон, Нью-Йорк: Эдвин Меллен Пресс), 1–20.
Google Scholar
Ван Лангенхов, Л., и Харре, Р. (1994). Культурные стереотипы и теория позиционирования. J. Theory Soc. Behav. 24, 359–372.DOI: 10.1111 / j.1468-5914.1994.tb00260.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Варела К. и Харре Р. (1996). Конфликтующие разновидности реализма: причинные силы и проблема социальной структуры. J. Theory Soc. Behav. 26, 313–325. DOI: 10.1111 / j.1468-5914.1996.tb00293.x
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Выготский, Л. С. (1978). Разум в обществе: развитие высших психологических процессов . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.
Google Scholar
Вендт, А. (2015). Квантовый разум и социальные науки . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
Google Scholar
Уайт, К. (2002). «Философия социальных наук и международных отношений», в справочнике по международным отношениям , ред. У. Карлсмаес, Т. Рисс и Б.А. Симмонс (Лондон: SAGE), 14–35.
Google Scholar
Уиллис П. (1977). Учимся трудиться: как дети из рабочего класса получают работу из рабочего класса .Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета.
Google Scholar
Wuthnow, R. (1987). Смысл и нравственные порядки. Исследования в области культурного анализа . Беркли: Калифорнийский университет Press.
Google Scholar
Зохар Д. (1991). Квантовое Я . Нью-Йорк: Уильям Морроу и компания.
Google Scholar
Зохар Д. и Маршалл И. (1994). Квантовое общество . Нью-Йорк: Уильям Морроу и компания.
Google Scholar
ценностей и социальные науки | Вопросы стипендий — Центр привлеченных стипендий
Центр привлеченных стипендий придерживается идеи, что лучшая научная работа мотивирована нормативными обязательствами. Однако в течение десятилетий после Второй мировой войны в США многие ученые считали, что они должны быть строго объективными и создавать «свободные от ценностей» социальные науки. Знаменитый доклад немецкого социолога Макса Вебера «Наука как призвание» (1919) часто использовался в качестве теоретического оправдания для отказа от оценочных суждений в науке.
В приведенном ниже фрагменте Роберт Данн опирается на свою недавнюю книгу « К прагматической социологии », чтобы доказать, что в других работах Вебер ясно показал невозможность и нежелательность «свободной от ценностей» социальной науки:
Последовательные поколения социологов позаимствовали у Макса Вебера свои реплики, размышляя о роли ценностей в изучении общества и человеческого поведения. Часто проблематично апелляции к лекции Вебера под названием «Наука как призвание», в которой он обращается к проблеме личных и политических предубеждений в классе.В этом выступлении Вебер предостерегает профессоров, чтобы их личные взгляды и мнения не вмешивались в их преподавание. Для некоторых социологов утверждение Вебера стало ортодоксией и, по ошибке, основанием для строгого разделения ценностей и научного исследования.
С этой точки зрения, ценности «субъективны» по своей природе и поэтому несовместимы с поиском «объективной» научной истины. Противоположная сторона этой дискуссии на более веских основаниях утверждала, что невозможно и нежелательно отделять ценности от социальной научной работы.По мнению этих ученых, ценности и оценочные суждения неизменно влияют как на теорию, так и на исследования многочисленными и сложными способами, создавая проблемы, но также придавая значение и значимость социальным исследованиям. Эта группа присоединилась к более тонкой и сложной позиции, которую Вебер сформулировал в менее цитируемой статье «Объективность в социальных науках и социальной политике». В этом эссе Вебер строго и убедительно показывает, что ценности присущи как практике, так и предмету социальных наук.Несмотря на сохраняющиеся расхождения во мнениях, не говоря уже о реальных сложностях проблемы, в настоящее время существует общее мнение, что понятие «общественная наука без ценностей» является устаревшим мифом. Причины этого консенсуса делятся на три перекрывающиеся категории: неизбежность, необходимость и желательность.
Неизбежность
Аргумент о том, что ценности неизбежно влияют на работу социолога, начинается с некоторых элементарных наблюдений о нормативном характере человеческой культуры и коммуникации.Хотя факт и ценность могут быть концептуально разделены на абстрактном уровне a priori , в повседневной жизни и дискурсе такое разделение обычно оказывается логическим и эмпирическим невозможным. Это сразу видно в случае языка. Философ Хиллари Патнэм указывает на то, что «переплетение» фактов и ценностей обычно проявляется в наших обычных, повседневных словарях. Общие термины, такие как «правильный», «неправильный», «истинный» и «ложный», содержат оценки, заложенные в самих значениях этих слов.По определению, мы положительно оцениваем «правильность» и «истину», а отрицательную — их противоположности. Такие слова объединяют описание и оценку таким образом, что невозможно отделить эмпирическую категорию человеческого поведения от ее морального или этического значения. Даже специализированные лексики, которые мы используем, не могут полностью уйти от оценочного языка. Как указывает Гуннар Мюрдал, предположительно «нейтральные» научные термины, такие как «равновесие», «баланс», «стабильный», «нормальный», «запаздывание» и «функция» подразумевают оценочные суждения о данном положении дел.Таким образом, учитывая зависимость от общепринятого повседневного языка, якобы беспристрастный научный дискурс социальных наук воспроизводит само собой разумеющиеся культурные значения и оценки.
Необходимость
Продолжая аргументацию, мы можем вспомнить, что Вебер обращает внимание на необходимость связи ценностей с нашей теоретической и методологической практикой. Он заявляет … само признание существования научной проблемы лично совпадает с обладанием специфически ориентированными мотивами и ценностями.
Отнюдь не лишенный фактов вопрос, само наше суждение о том, что составляет «научную проблему», зависит от ценностной ориентации. Ценности неизменно влияют на то, как мы выбираем и определяем исследуемые проблемы. Вебер намекает на тот факт, что, поскольку наше восприятие, мысли и действия как человеческие существа в значительной степени основаны на ценностях, наш выбор как социальных исследователей фактически определяется оценочными критериями.
Мы можем дальше взглянуть на взгляды Вебера на природу социальной жизни и на соответствующий метод социальных наук.Подчеркивая, что сам предмет социальных наук погружен в ценности, Вебер был сторонником Verstehende Soziologie , методологического подхода, который стремится интерпретировать и понимать социальное действие. Этот подход основан на концепции общества как образованного из культурных моделей, укорененных в субъективных значениях акторов, таких как идеи, убеждения и ценности.
Конечно, не нужно быть веберианцем, чтобы признать ценностный характер социальных наук.Но на этом вопрос об отношении ценностей к этим полям не заканчивается. Еще важнее то, что мы можем выйти за рамки идей Вебера, чтобы обосновать желательность ценностей. Ряд голосов утверждали, что научное и эмпирическое исследование должно, , активно и открыто, основываться, , и руководствоваться ценностями и оценочными суждениями, поскольку именно это делает такое исследование действительно значимым с человеческой точки зрения, а также полезным для людей. общество.
Желанность
Полезно помнить, что американские социальные науки достигли совершеннолетия в эпоху прогрессивного развития в атмосфере морального предпринимательства и социальных реформ.Ранние социальные исследователи практиковали свое ремесло, объединяя твердые ценностные обязательства с акцентом на социальных проблемах. Ведущим сторонником такой морально и этически ориентированной социальной науки был философ-прагматик Джон Дьюи, который посвятил большую часть своей работы цели интеграции ценностей в практику науки. Дьюи верил во взаимозависимость этих сфер, утверждая, что наука и зависит от системы ценностей, и, в свою очередь, укрепляет моральную и этическую жизнь. Согласно Дьюи, социальные отношения науки сделали его моральным предприятием, тем самым связав его с обществом в целом и общими интересами.Прагматизм для Дьюи был философией, основанной на идее решения проблем; таким образом, он считал целью социальных наук изучение социальных проблем и их решение. Это подразумевает сильную общественную роль этих наук и в более широком смысле коренится в прагматической максиме о том, что последствий, идей и действий являются критериями оценки их ценности. В самом деле, само понятие последствий имеет моральный смысл. С этой точки зрения о работе социологов следует оценивать в первую очередь с точки зрения их результатов и значимости для общества в целом.По мнению Дьюи, если мы согласны с тем, что улучшение человеческой жизни является фундаментальной целью науки, даже обязательством, то совершенно необходимо, чтобы мы поместили человеческие ценности в ее самую суть.
Самым известным представителем социальной науки, основанной на ценностях, веберианцем и наследником мысли Дьюея был Ч. Райт Миллс, чья собственная работа служит моделью того, как ценности придают жизненность, глубину и актуальность социальному исследованию. Миллс считал, что выражение и защита заветных ценностей, таких как демократия, свобода и разум, были необходимым условием для содержательной, критической и публичной социологии.У Миллса было двоякое понимание того, как это должно быть сделано. С одной стороны, он считал, что социологам следует задуматься о рисках, которые представляют для этих ценностей такие социальные силы, как бюрократия, массовая культура и концентрация власти. В соответствии с концепцией Дьюи Миллс считал, что социологи должны изучать социальные проблемы в общепринятом узком смысле этого слова, но также и в более широком смысле проблемных механизмов и влияния социальной структуры и культуры.Для него это был вопрос людей и политики: личные проблемы нужно было понимать и решать с точки зрения общественных бед. С другой стороны, Миллс считал, что социальные теоретики и исследователи должны открыто сформулировать свои собственные ценностные обязательства, используя ценности как основу для определения и характеристики изучаемых ими проблем. Наконец, Миллс проницательно осознал, что, помимо придания смысла исследованиям, такая открытость была необходимым условием объективности в работе.
Заключение
Дело не только в том, чтобы понять, что «свободная от ценностей» социальная наука — это невозможное стремление; это то, что ценности являются неотъемлемой частью изучения общества; они обусловливают, формируют и направляют научные исследования.Едва ли препятствие для научной работы, ценностные ориентации и оценочные суждения следует принимать и приветствовать как часть деятельности в области социальных наук. В конечном итоге они являются источником значения и актуальности этого предприятия.
Роберт Данн
Для дальнейшего чтения:
Роберт Дж. Данн, К прагматической социологии
К. Райт Миллс, Социологическое воображение
Гуннар Мюрдал, Объективность в социальных исследованиях
Хиллари Путнам, Крах Дихотомия факт / значение и другие эссе
Макс Вебер, «Объективность» в социальных науках и социальной политике, в Методологии социальных наук.
«Должен, должен, должен» — роль ученых в дискурсе об этических и социальных последствиях науки и технологий
График работы ученых в последние годы стал еще тяжелее. В дополнение к их деятельности в качестве профессиональных практиков с ключевыми компетенциями в четко определенных научных и академических нишах, теперь их просят сообщить о своей работе неспециалистам, рассмотреть этические и социальные последствия своей работы, в частности, и науки и технологии (S&T) в целом для продвижения и поддержки «устойчивости» (что бы это ни значило), а также для сотрудничества с регулирующими органами, социологами и специалистами по этике в сети экономических, социальных, культурных и экологических воздействий и интересов (Барри and Born, 2013).Сдвиг парадигмы в разработке политики, в понимании социальных аспектов человеческой деятельности (например, науки), а также в управлении и направлении прогресса вызвали изменение подхода общества к развитию науки и техники. Позитивистская идея модернизма, согласно которой результат будет оптимальным, когда эксперты работают параллельно в рамках своих соответствующих областей знаний (например, ученый проводит исследования, инженер разрабатывает артефакт, социолог изучает социальное воздействие, специалист по этике предоставляет нормативная база, регулирующий орган отвечает эффективным управлением и выработкой политики), заменяется прагматическим пониманием того, что только тесное сотрудничество (в прямом смысле этого слова) всех этих участников с самого начала цепочки развития и далее, имеет потенциал для обеспечения устойчивости и увеличения выгод.Это основано на конструктивистском представлении о прогрессе науки и техники как о влияющем, управляемом, возможном и на всех этапах спорном (обзор см. В Konrad et al., 2013). В последние десятилетия под широким термином «ТА» были разработаны разнообразные стратегии и методы, чтобы предоставить «лицам, принимающим решения» в экономике и политике полезный инструмент, способствующий социально обоснованному и устойчивому развитию науки и технологий посредством поддерживающего и эффективного управления и регулирование (Ely et al., 2014).ТА была институционализирована в Европейском союзе (ЕС) и Соединенных Штатах Америки в форме «парламентской ТА» (Ganzevles and van Est, 2012; Klüver et al., 2016). Каждый исследовательский проект, финансируемый ЕС, начиная с повестки дня «Рамочной программы 6», например, в обязательном порядке включает рабочий пакет по «Этическим, правовым и социальным последствиям (ELSI)» для проведения более «зрелого» анализа этих вопросов в качестве основы для Регулирующее управление и выработка политики в масштабах всего ЕС, с одной стороны, и содействие более демократичной процедуре управления и включение участия общественности для изучения вопросов риска, возникающих в результате инноваций в научно-технической политике, с другой (Hullmann, 2008).Концепция ELSI получила дальнейшее развитие в более позднем подходе, названном «Ответственные исследования и инновации» (Европейская комиссия, 2013, см. Также van den Hoven et al., 2014; Koops et al., 2015), и подхвачена последними видение «Открытая наука, открытые инновации, открытость миру» (Европейская комиссия, 2016). В принципе, все они разделяют одну и ту же идею: этически и социально значимый прогресс достигается за счет высокой степени междисциплинарности и трансдисциплинарности, интеграции этики и социологии в научно-исследовательскую деятельность и установления постоянного сопутствующего нормативного дискурса по вопросам науки и техники.Более того, степень интеграции участия общественности в процесс разработки политики и управления, связанных с наукой и технологией, значительно возросла. В частности, ученые сталкиваются с такими ситуациями, иногда добровольно, иногда обязательно:
Описание возможных областей применения, а также социальных и этических аспектов исследовательских проектов в заявках на гранты, даже для фундаментальных исследований;
Обмен результатами исследований и научных знаний с неспециалистами и непрофессионалами, например, в форме пресс-релизов, интервью с журналистами, общественных слушаний и информационных мероприятий;
Экспертиза в судебных делах или государственных комитетах;
Участие в рабочих группах исследовательских консорциумов ELSI, например, в исследовательских проектах, финансируемых ЕС, или в других платформах политических дебатов.
Очевидным процедурным препятствием для такого междисциплинарного дискурса является тот факт, что участники — заинтересованные стороны из различных областей, таких как наука, промышленность, политика, юриспруденция, социология и философия (этика) — говорят «на разных языках» и действуют за пределами привычных профессиональных сфер. (Хлопок, 2014). Обсуждается роль социологов (см., Например, Myskja et al., 2014; Viseu, 2015; Balmer et al., 2016).Однако исследователи и ученые в области естественных наук, инициаторы развития технологий и их научного обоснования, также испытывают трудности с определением своей роли в дебатах об ELSI и часто отказываются участвовать в них (Sollie and Düwell, 2009). Этот комментарий мотивирован опытом, собранным в рабочей группе ELSI в рамках проекта EU FP7, связанного с наночастицами для медицинских целей, и, следовательно, иллюстрирует представленные аргументы примерами из этой области. Он не предоставляет подробного качественного или даже количественного анализа этого практического опыта (как, например, предоставлено Forsberg, 2014; Balmer et al., 2015; Nydal et al., 2015). Вместо этого цель состоит в том, чтобы донести четкое сообщение: ученые не могут игнорировать этические и социальные аспекты своей профессиональной деятельности (или, другими словами: знать о них, см. Раздел 2), и их конкретный вклад, связанный с экспертными знаниями, в Этическая оценка науки и техники имеет важное процедурное и методологическое значение для достижения целей устойчивого развития, которые предусматривает управление наукой и технологией (Раздел 3).
Чтобы представить аргументы, представленные здесь, в более широкой перспективе, крайне важно четко определить, что подразумевается под «этикой».Написание его с большой буквы означает, что это должно пониматься как академическая дисциплина (например, «Философия», «Гуманитарные науки», «Химия» и т. Д.), Которая характеризуется и определяется конкретными методологиями, опытом и производством знаний. Как таковая, профессиональная и институциональная этика отличается от этики и здравого смысла непрофессионала: она требует этических компетенций и опыта, обычно приобретаемых в результате специального образования (например, изучения этики) и применяемых «специалистом по этике».Более того, этику (как английский термин в единственном числе) следует отличать от морали (этика как английский термин во множественном числе, синоним морали). Типичные области этического дискурса, требующие этических компетенций, — это политика в социальных сферах, право и — в последнее время — научно-технический прогресс и связанные с ними темы (например, генетика, нанотехнологии, развитие человека, ядерная энергия и т. Д.), Обсуждение и применение нормативно нагруженных вопросов, таких как в качестве принципов предосторожности, безопасности, справедливости распределения, ответственности, конфиденциальности и автономии и так далее.Следует отметить, что, говоря об «этике» и «этических аспектах» в контексте науки и техники, можно выделить два уровня или «области» этически значимых вопросов: область «внутренней ответственности», которая охватывает аспекты этики исследований. и профессиональная этика («надлежащая научная практика», вопросы публикаций и наставничества, безопасность труда и т. д.), а также область «внешней ответственности», которая касается проблем на стыке науки, технологий и общества, таких как социальное и экологическое воздействие. науки и техники, оценки и управления рисками, долгосрочной устойчивости и т. д.В первом случае большинство этических соображений в принципе ясны: каждый ученый знает (в идеале), каково этическое проведение исследования. Здесь от ученых в основном ожидается, что соблюдают этические нормы своей профессии () (см., Например, Loue, 2002; Smith Iltis, 2006; Spier, 2012). В последнем случае многие возникающие проблемы, так или иначе, являются новыми или связаны с будущим (в идеале: предполагаемые и ожидаемые, в худшем: спекулятивные). Следовательно, они требуют этического осмысления и оценки (см. Gonzalez, 2015), что требует этической компетентности и опыта.Разница между «морально здоровой наукой» (внутренние аспекты) и «этическими аспектами науки» (как «внешняя сфера») была признана Ниландом (2015), когда он спрашивал, «нужна ли ученым этика» или она нужна.
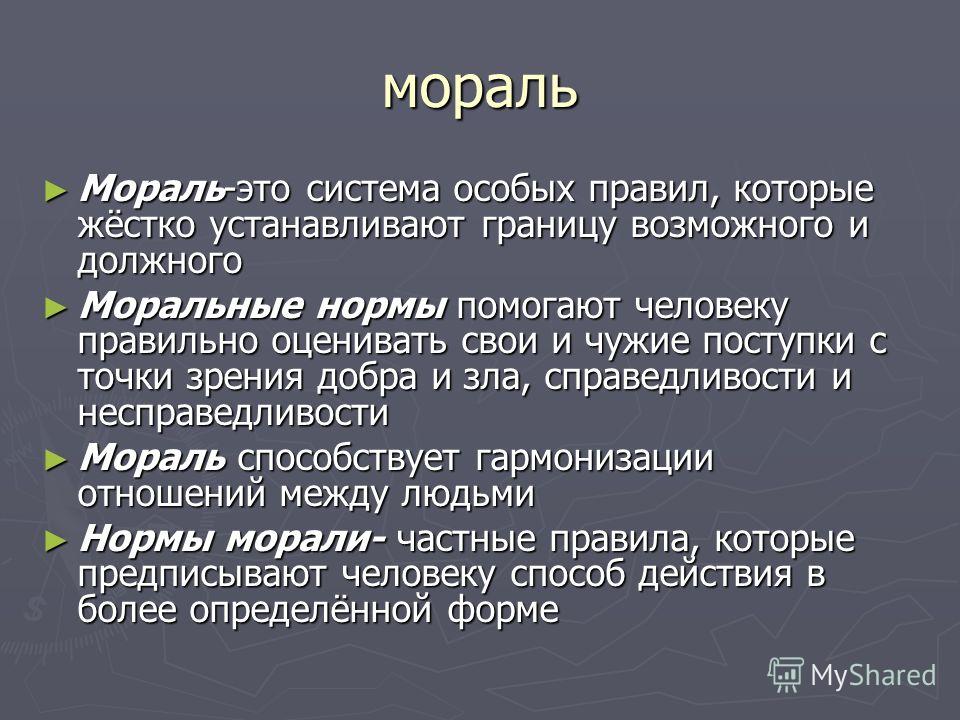 А. В. Опалева).
А. В. Опалева).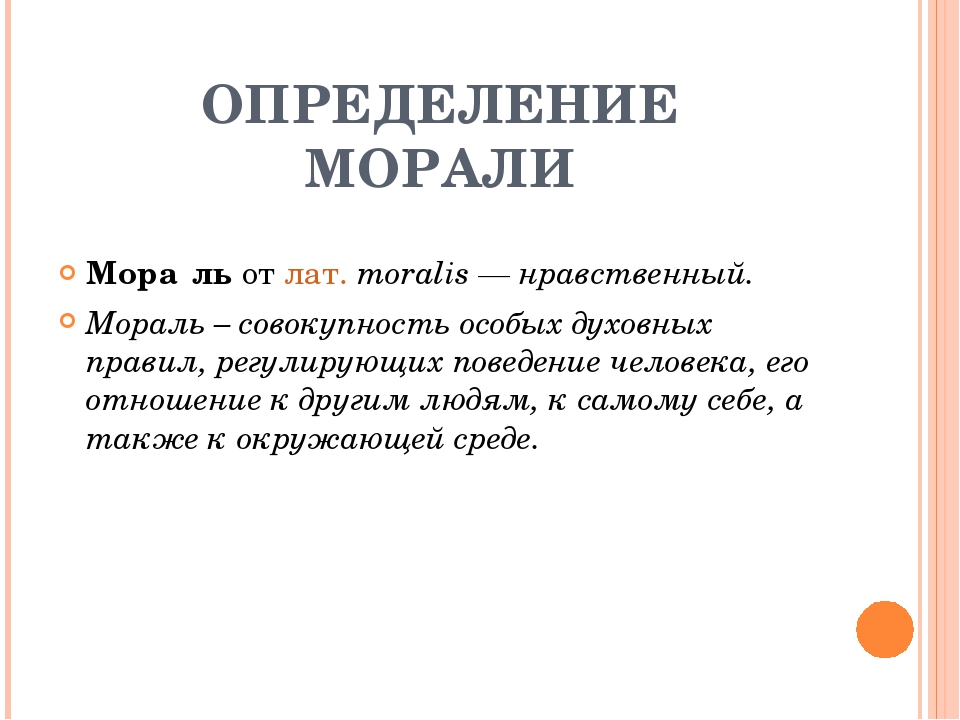
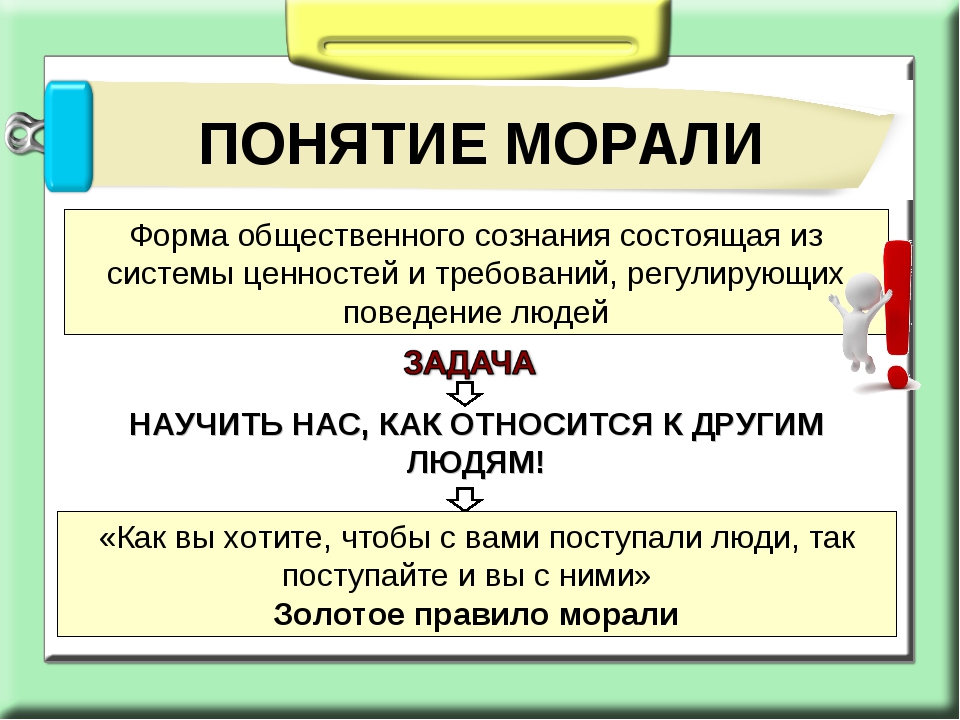 В обществознании их называют социальными нормами. Кроме морали к ним относят:
В обществознании их называют социальными нормами. Кроме морали к ним относят: 
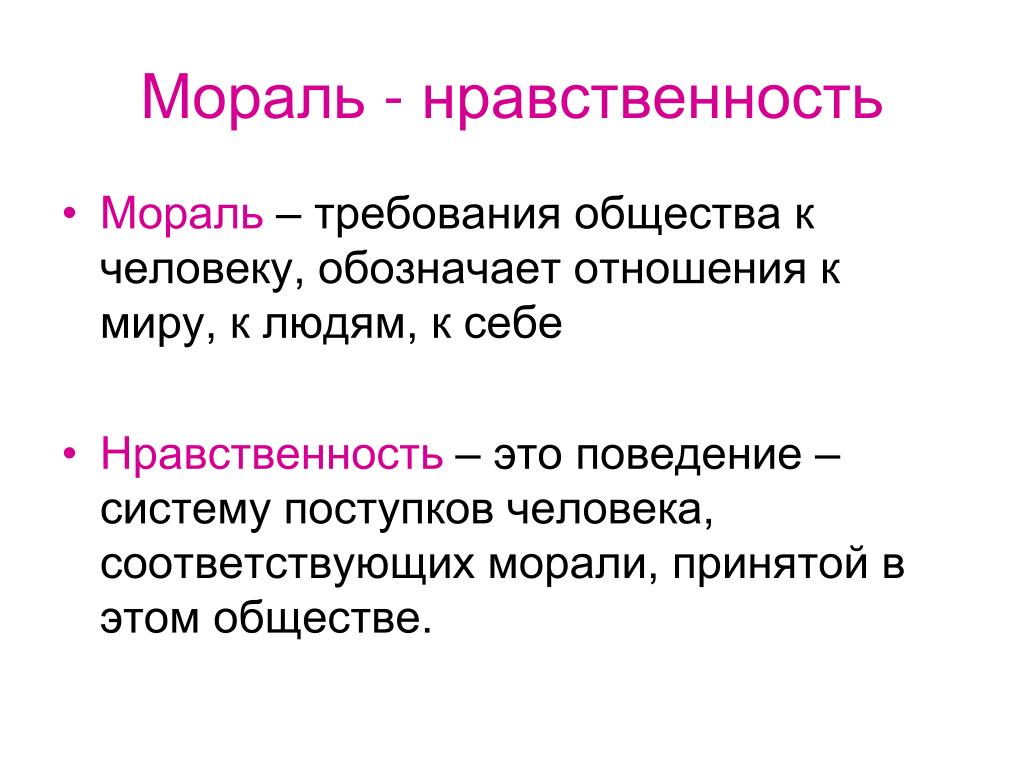 Разумеется, он будет таким же способом воспитывать собственных детей, потому что «обращайся с другим так, как хочешь, чтобы обращались с тобой». Но в действительности моральную норму он будет таким образом нарушать. Иными словами, мораль, как и любая другая форма мышления человека, весьма противоречива. И те или иные психические искажения человека влияют на трактовки моральных правил.
Разумеется, он будет таким же способом воспитывать собственных детей, потому что «обращайся с другим так, как хочешь, чтобы обращались с тобой». Но в действительности моральную норму он будет таким образом нарушать. Иными словами, мораль, как и любая другая форма мышления человека, весьма противоречива. И те или иные психические искажения человека влияют на трактовки моральных правил.  Общим для них
является то, что оба вида служат для регулирования и оценки поступков
индивида. К различному можно отнести:
Общим для них
является то, что оба вида служат для регулирования и оценки поступков
индивида. К различному можно отнести: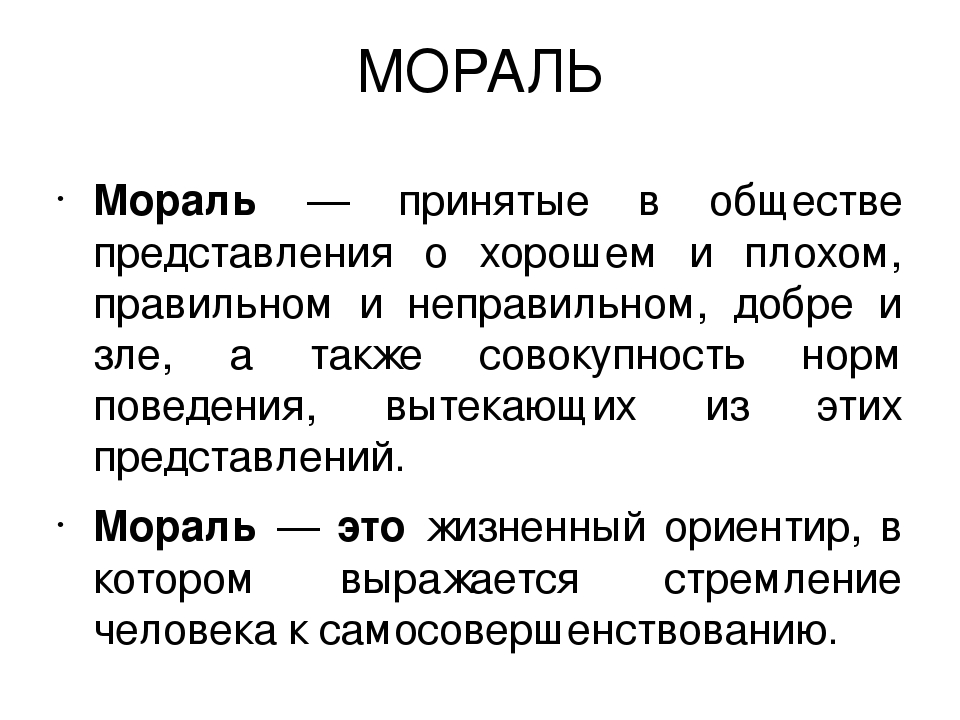

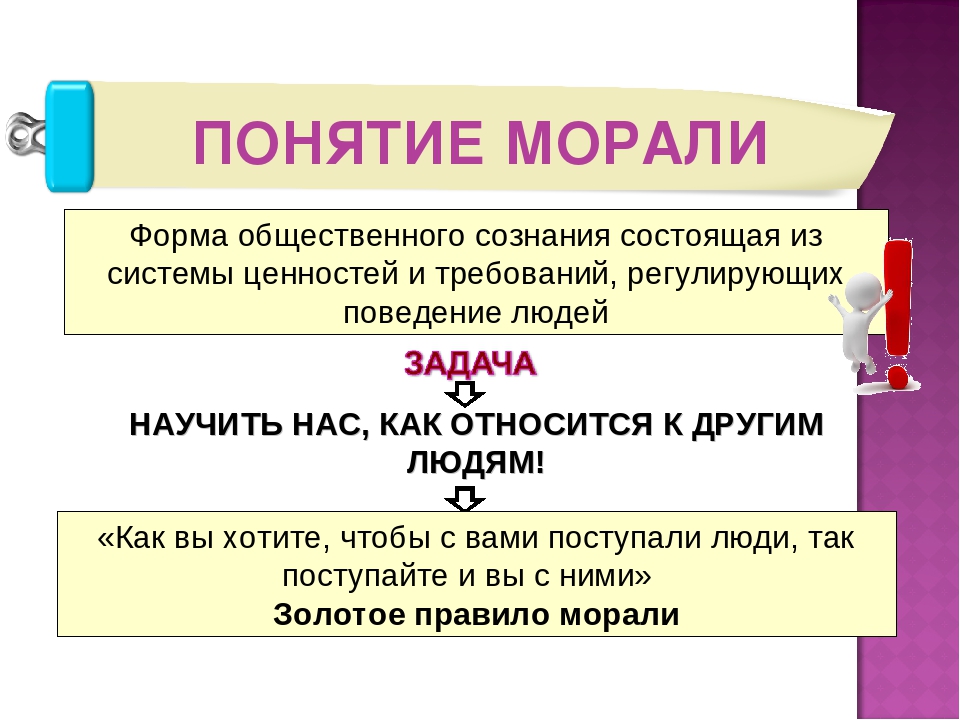




 Содержательные и формальные особенности этики как философской дисциплины заданы тремя константами:
Содержательные и формальные особенности этики как философской дисциплины заданы тремя константами: Их особенность состояла в том, что они в реальном опыте нравственной жизни чаще всего приобретали характер дилемм, свидетельствуя о многократной дисгармонии человеческого существования. В этом смысле этику можно определить как рефлексию над моральными основаниями человеческой жизни (понимая под рефлексией обращённость сознания на себя). Если мораль есть непосредственное сознание смысла жизни, вошедшее в язык самой практики, то этика есть сознание сознания жизни, то есть сознание жизни второго уровня. Решающая причина, определяющая необходимость такой вторичной рефлексии, состоит в том, что моральное сознание попадает в ситуацию, которую вслед за Кантом можно было бы назвать ситуацией двусмысленности притязаний. Речь идёт о конфликте (кризисе) ценностей, когда мораль теряет очевидность, не может поддерживаться силой традиции, и люди, раздираемые противоречивыми мотивами, перестают понимать, что есть добро и что есть зло. Такое, как правило, происходит при столкновении различных культур или культурных эпох, когда, например, новые поколения резко порывают с традиционными устоями.
Их особенность состояла в том, что они в реальном опыте нравственной жизни чаще всего приобретали характер дилемм, свидетельствуя о многократной дисгармонии человеческого существования. В этом смысле этику можно определить как рефлексию над моральными основаниями человеческой жизни (понимая под рефлексией обращённость сознания на себя). Если мораль есть непосредственное сознание смысла жизни, вошедшее в язык самой практики, то этика есть сознание сознания жизни, то есть сознание жизни второго уровня. Решающая причина, определяющая необходимость такой вторичной рефлексии, состоит в том, что моральное сознание попадает в ситуацию, которую вслед за Кантом можно было бы назвать ситуацией двусмысленности притязаний. Речь идёт о конфликте (кризисе) ценностей, когда мораль теряет очевидность, не может поддерживаться силой традиции, и люди, раздираемые противоречивыми мотивами, перестают понимать, что есть добро и что есть зло. Такое, как правило, происходит при столкновении различных культур или культурных эпох, когда, например, новые поколения резко порывают с традиционными устоями. Чтобы найти общий язык друг с другом, люди вынуждены заново ответить на вопрос, что такое мораль, — обратиться к познающему разуму, чтобы с его помощью восстановить порвавшиеся нити общественной коммуникации, обосновать необходимость морали и дать новое её понимание. Этика есть способ, каким мораль оправдывается перед разумом.
Чтобы найти общий язык друг с другом, люди вынуждены заново ответить на вопрос, что такое мораль, — обратиться к познающему разуму, чтобы с его помощью восстановить порвавшиеся нити общественной коммуникации, обосновать необходимость морали и дать новое её понимание. Этика есть способ, каким мораль оправдывается перед разумом. Отделяя этику как практическую философию от теоретической философии (физики, математики, учения о первопричинах), Аристотель имел в виду, что она задаёт предельную целевую основу человеческой деятельности, определяя, на что она в конечном счёте направлена и в чём состоит её совершенство (добродетельность). Таким образом, этику изучают не для того, чтобы знать, что такое добродетель (мораль), а для того, чтобы стать добродетельным (моральным). Она имеет дело с практикой в той мере, в какой эта последняя зависит от разумно аргументируемого выбора самого человека. Этика пересматривает (как бы заново структурирует) всю человеческую жизнедеятельность под углом зрения сознательного, индивидуально-ответственного выбора. Этим определяется понятийный аппарат этики, её идеально задаваемое проблемное поле. При всём доктринальном многообразии этических систем все они так или иначе имеют дело с тремя основными тематическими комплексами:
Отделяя этику как практическую философию от теоретической философии (физики, математики, учения о первопричинах), Аристотель имел в виду, что она задаёт предельную целевую основу человеческой деятельности, определяя, на что она в конечном счёте направлена и в чём состоит её совершенство (добродетельность). Таким образом, этику изучают не для того, чтобы знать, что такое добродетель (мораль), а для того, чтобы стать добродетельным (моральным). Она имеет дело с практикой в той мере, в какой эта последняя зависит от разумно аргументируемого выбора самого человека. Этика пересматривает (как бы заново структурирует) всю человеческую жизнедеятельность под углом зрения сознательного, индивидуально-ответственного выбора. Этим определяется понятийный аппарат этики, её идеально задаваемое проблемное поле. При всём доктринальном многообразии этических систем все они так или иначе имеют дело с тремя основными тематическими комплексами: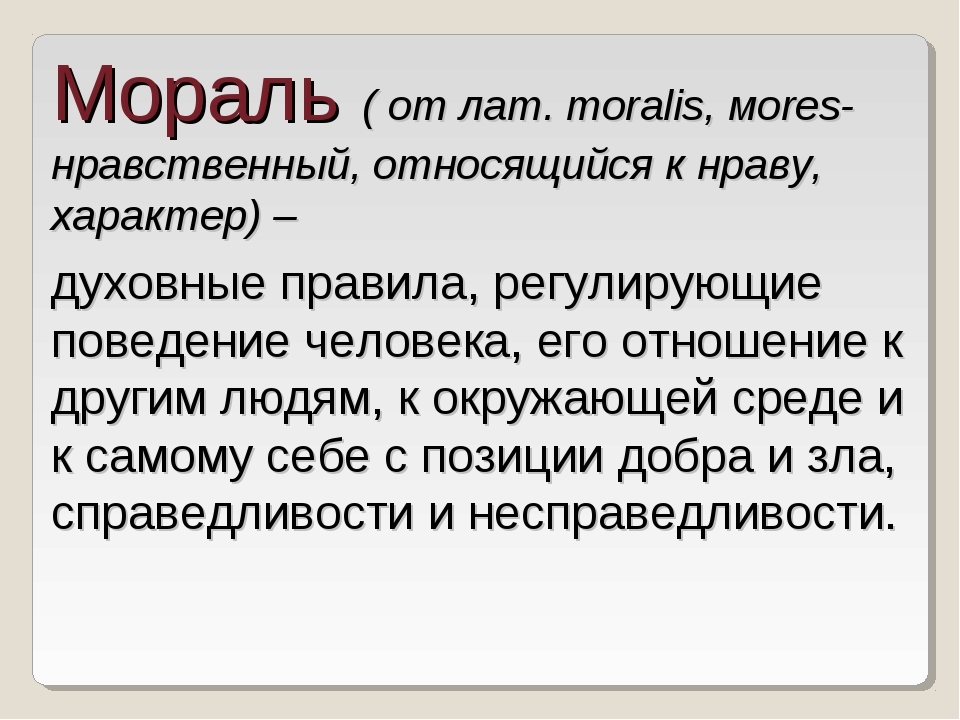
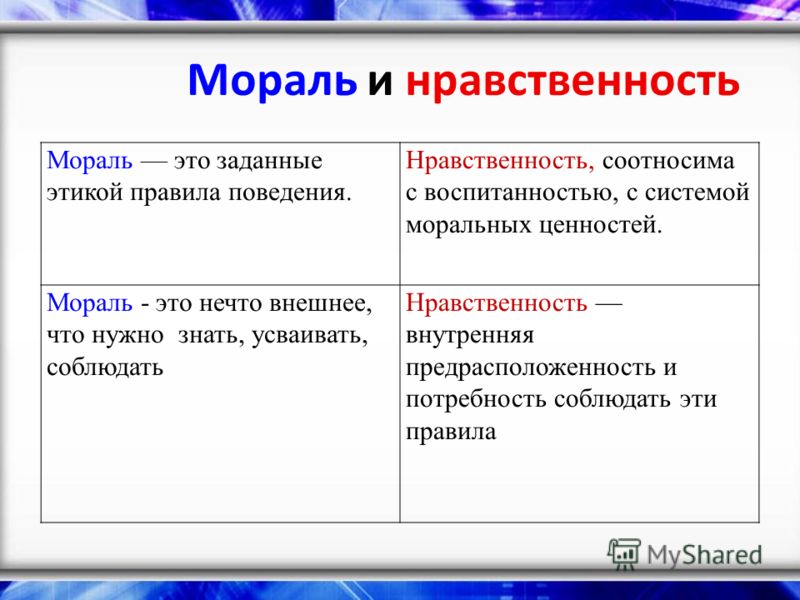 Нормативная определённость этих программ — один из важных признаков их классификации. По этому критерию можно выделить такие разновидности этики, как этика гедонизма, евдемонизма, внутренней стойкости, сентиментализма, созерцания, утилитаризма, скептицизма и другие.
Нормативная определённость этих программ — один из важных признаков их классификации. По этому критерию можно выделить такие разновидности этики, как этика гедонизма, евдемонизма, внутренней стойкости, сентиментализма, созерцания, утилитаризма, скептицизма и другие.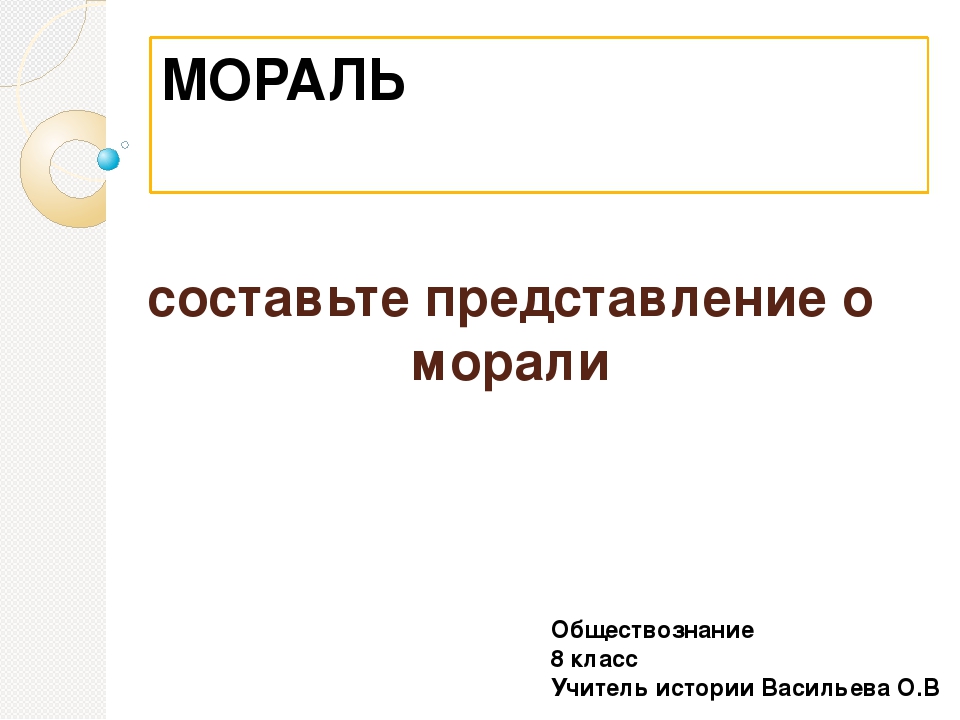 Основополагающее этическое знание представлено в древнеиндийских памятниках литературы «Ведах» (в особенности, в «Ригведе») и «Упанишадах» (комментариях к «Ведам»). Тезис о единстве Брахмана как мировой души, абсолютного духовного начала, и Атмана как самосознания этого Абсолюта предписывает человеку освобождение от страстей и самосовершенствование, самопознание как путь к высшей реальности. В послеведический период моральные представления сконцентрированы прежде всего в буддизме. В основе этики буддизма — теория о двух родах бытия: сансаре как бытии проявленном, колесе перевоплощений в жизни как страдании, и нирване — вечном успокоении, искомом конечном состоянии, в котором индивидуальность растворяется. В древнекитайской философии этические идеи представлены наиболее полновесно в даосизме и конфуцианстве. Основатель даосизма Лао-цзы рассуждал о Дао («пути») как всеобщем законе природы, побуждающем человека к уходу от суеты и страстей, к достижению простоты, чистоты помыслов, к смирению и состраданию путём не-деяния, не насилия над миром.
Основополагающее этическое знание представлено в древнеиндийских памятниках литературы «Ведах» (в особенности, в «Ригведе») и «Упанишадах» (комментариях к «Ведам»). Тезис о единстве Брахмана как мировой души, абсолютного духовного начала, и Атмана как самосознания этого Абсолюта предписывает человеку освобождение от страстей и самосовершенствование, самопознание как путь к высшей реальности. В послеведический период моральные представления сконцентрированы прежде всего в буддизме. В основе этики буддизма — теория о двух родах бытия: сансаре как бытии проявленном, колесе перевоплощений в жизни как страдании, и нирване — вечном успокоении, искомом конечном состоянии, в котором индивидуальность растворяется. В древнекитайской философии этические идеи представлены наиболее полновесно в даосизме и конфуцианстве. Основатель даосизма Лао-цзы рассуждал о Дао («пути») как всеобщем законе природы, побуждающем человека к уходу от суеты и страстей, к достижению простоты, чистоты помыслов, к смирению и состраданию путём не-деяния, не насилия над миром. Конфуций учил о пяти добродетелях: гуманности-милосердии, долге-справедливости, послушании, почтительности, мудрости. Подобное понимание этики как «практической философии» является исходным и в европейской теории морали, что демонстрирует общегуманитарные ценности каждой уникальной человеческой жизни при сохранении своеобразия породившей их культуры.
Конфуций учил о пяти добродетелях: гуманности-милосердии, долге-справедливости, послушании, почтительности, мудрости. Подобное понимание этики как «практической философии» является исходным и в европейской теории морали, что демонстрирует общегуманитарные ценности каждой уникальной человеческой жизни при сохранении своеобразия породившей их культуры. ; Аристотель. «Политика», книга 2, 5, 1261а; Аристотель. «Большая этика», книга 1, 1, 1181в.; Аристотель. «Риторика», 1356а). Понятие «этический», от которого происходит этика, образовано Аристотелем на основе слова ἠϑος (Этос), обозначавшего некогда привычное место обитания, а потом уже просто привычки, нрав, характер, темперамент, обычай. Оно выделяло тот особый срез человеческой реальности (определённый класс индивидуальных качеств, соотнесённых с определёнными привычными формами общественного поведения), который составляет предметную область этики. На основе дифференциации добродетелей человека на «этические» как добродетели нрава и «дианоэтические» как добродетели разума, Аристотель конституирует понятие этики как фиксирующее теоретическое осмысление проблемного поля, центрированного вопросом о том, какой «этос» выступает в качестве совершенного. Исследуя природу морали, Аристотель показывает её социальный смысл через взаимосвязь с политикой, учением о государстве, в котором реализуется высшая добродетель — справедливость, и учением об общественном благе, подчёркивает практическое значение этики, состоящее в воспитании добродетельного гражданина.
; Аристотель. «Политика», книга 2, 5, 1261а; Аристотель. «Большая этика», книга 1, 1, 1181в.; Аристотель. «Риторика», 1356а). Понятие «этический», от которого происходит этика, образовано Аристотелем на основе слова ἠϑος (Этос), обозначавшего некогда привычное место обитания, а потом уже просто привычки, нрав, характер, темперамент, обычай. Оно выделяло тот особый срез человеческой реальности (определённый класс индивидуальных качеств, соотнесённых с определёнными привычными формами общественного поведения), который составляет предметную область этики. На основе дифференциации добродетелей человека на «этические» как добродетели нрава и «дианоэтические» как добродетели разума, Аристотель конституирует понятие этики как фиксирующее теоретическое осмысление проблемного поля, центрированного вопросом о том, какой «этос» выступает в качестве совершенного. Исследуя природу морали, Аристотель показывает её социальный смысл через взаимосвязь с политикой, учением о государстве, в котором реализуется высшая добродетель — справедливость, и учением об общественном благе, подчёркивает практическое значение этики, состоящее в воспитании добродетельного гражданина.
 Целью этики являются не знания, а поступки, она имеет дело не с благом самим по себе, а с осуществимым благом. Тем самым этика как практическая философия была отделена от теоретической философии (метафизики). Исходным пунктом этики являются не принципы, а опыт общественной жизни, в ней поэтому нельзя достичь той степени точности, которая свойственна, например, математике; истина в ней устанавливается «приблизительно и в общих чертах».
Целью этики являются не знания, а поступки, она имеет дело не с благом самим по себе, а с осуществимым благом. Тем самым этика как практическая философия была отделена от теоретической философии (метафизики). Исходным пунктом этики являются не принципы, а опыт общественной жизни, в ней поэтому нельзя достичь той степени точности, которая свойственна, например, математике; истина в ней устанавливается «приблизительно и в общих чертах». Существенно новым по сравнению с Платоном и Аристотелем в такой постановке вопроса было то, что этика эмансипировалась от политики и нравственное совершенство человека не ставилось в связь и зависимость от совершенства общественной жизни. Посредствующую роль между индивидом и добродетелью, которую играл полис, в рамках нового понимания предмета этики стала играть философия. Отсутствие душевных тревог и телесных страданий, составляющих цель этики Эпикура, достигается через правильное понимание удовольствий и разумное просвещение, освобождающее от страхов. Философия — вот единственный путь к счастью, открытый и молодым, и старым. Путь к стоической апатии и скептической атараксии также лежит через философию, знания. Где философия — там мудрец. Мудрец, образ которого наиболее полно разработан в стоической этике, предстаёт как воплощённая добродетель. Прецедент мудреца является обоснованием морали (как говорили стоики, доказательством существования добродетели являются успехи, сделанные в ней Сократом, Диогеном, Антисфеном) — и этика выступает не в безличной строгости логических формул, а в образцовых примерах, утешениях и увещеваниях, обращённых к отдельному человеку.
Существенно новым по сравнению с Платоном и Аристотелем в такой постановке вопроса было то, что этика эмансипировалась от политики и нравственное совершенство человека не ставилось в связь и зависимость от совершенства общественной жизни. Посредствующую роль между индивидом и добродетелью, которую играл полис, в рамках нового понимания предмета этики стала играть философия. Отсутствие душевных тревог и телесных страданий, составляющих цель этики Эпикура, достигается через правильное понимание удовольствий и разумное просвещение, освобождающее от страхов. Философия — вот единственный путь к счастью, открытый и молодым, и старым. Путь к стоической апатии и скептической атараксии также лежит через философию, знания. Где философия — там мудрец. Мудрец, образ которого наиболее полно разработан в стоической этике, предстаёт как воплощённая добродетель. Прецедент мудреца является обоснованием морали (как говорили стоики, доказательством существования добродетели являются успехи, сделанные в ней Сократом, Диогеном, Антисфеном) — и этика выступает не в безличной строгости логических формул, а в образцовых примерах, утешениях и увещеваниях, обращённых к отдельному человеку. Мудрец умеет быть выше страданий, судьбы и обстоятельств, живёт во внутреннем согласии с собой и природой в целом. Его домом и полисом является космос в целом, он — космополит. «Город и отечество мне, Антонину, — Рим, а мне, человеку, — мир», — говорил Марк Аврелий Антонин (Размышления, книга VI, 44, 1985, с. 34). Мудрец ориентирован на благой промысел мирового разума.
Мудрец умеет быть выше страданий, судьбы и обстоятельств, живёт во внутреннем согласии с собой и природой в целом. Его домом и полисом является космос в целом, он — космополит. «Город и отечество мне, Антонину, — Рим, а мне, человеку, — мир», — говорил Марк Аврелий Антонин (Размышления, книга VI, 44, 1985, с. 34). Мудрец ориентирован на благой промысел мирового разума. Существенным считалось внутреннее единство всех частей философии, которое осмысливалось как единство, заданное Богом. Бог, который является создателем мира, считает Августин, является также и его учителем. Языческие авторы (и в этом состояла их коренная ошибка) хотели в себе найти и собственным разумом обосновать то, что даётся Богом и только в нём находит своё оправдание: они постигали божественный порядок, не понимая, что он — божественный. Отсюда — задача переосмысления их творений в свете учения Христа. Для Абеляра Евангелие представляет собой реформирование и улучшение естественного закона философов. Поэтому необходимо вписать этику в отношение человека к Богу и понять, что она не может претендовать на роль первой дисциплины. Первой остаётся теология. Один Бог есть высшее благо, и отношением к нему (правильным, когда он признается и почитается в качестве высшего блага, неправильным, когда нет безусловного уважения к нему) в конечном счёте определяются нравы, добродетели и пороки души, добрые и злые дела человека.
Существенным считалось внутреннее единство всех частей философии, которое осмысливалось как единство, заданное Богом. Бог, который является создателем мира, считает Августин, является также и его учителем. Языческие авторы (и в этом состояла их коренная ошибка) хотели в себе найти и собственным разумом обосновать то, что даётся Богом и только в нём находит своё оправдание: они постигали божественный порядок, не понимая, что он — божественный. Отсюда — задача переосмысления их творений в свете учения Христа. Для Абеляра Евангелие представляет собой реформирование и улучшение естественного закона философов. Поэтому необходимо вписать этику в отношение человека к Богу и понять, что она не может претендовать на роль первой дисциплины. Первой остаётся теология. Один Бог есть высшее благо, и отношением к нему (правильным, когда он признается и почитается в качестве высшего блага, неправильным, когда нет безусловного уважения к нему) в конечном счёте определяются нравы, добродетели и пороки души, добрые и злые дела человека.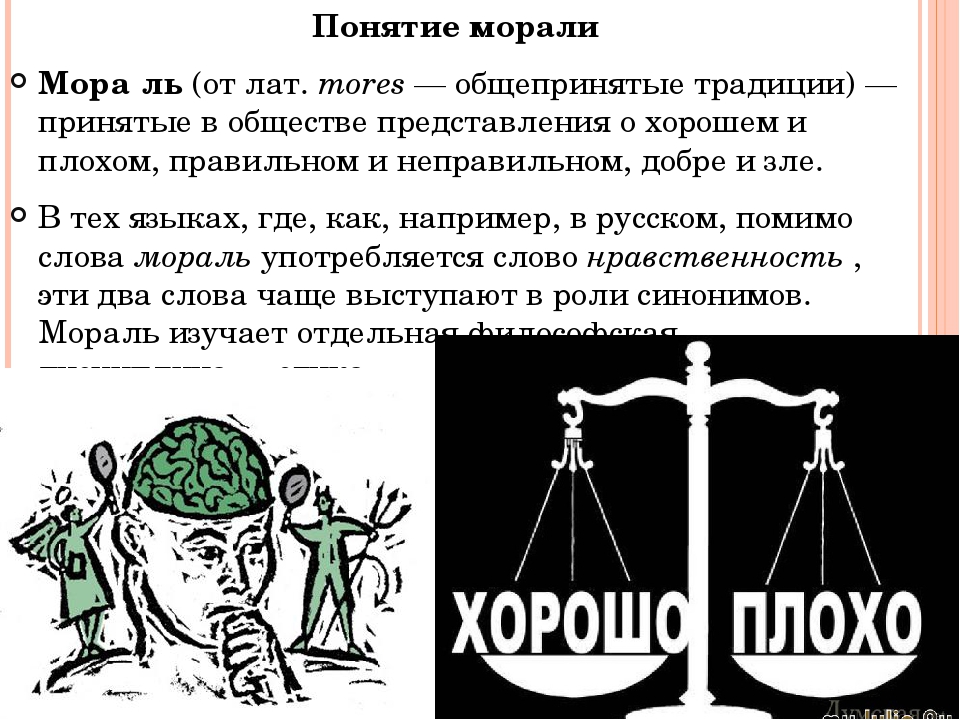 Христианская мысль Средневековья исходит из убеждения, что этика (или мораль) не содержит свои основания в себе, только в соотнесённости с теологией она может очерчивать границы между хорошим и плохим. Однако наряду с этой установкой была представлена и интеллектуальная традиция (например, пелагианство), рассматривавшая этику как исчерпывающее основание человеческой эмансипации.
Христианская мысль Средневековья исходит из убеждения, что этика (или мораль) не содержит свои основания в себе, только в соотнесённости с теологией она может очерчивать границы между хорошим и плохим. Однако наряду с этой установкой была представлена и интеллектуальная традиция (например, пелагианство), рассматривавшая этику как исчерпывающее основание человеческой эмансипации.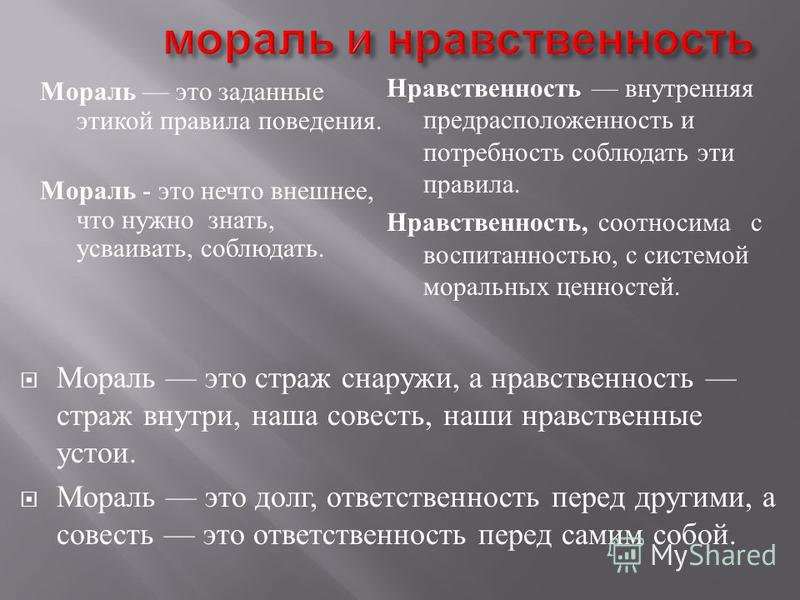 Согласно его концепции, основой упорядочения философского знания является категория порядка. Порядок вещей рассматривает натурфилософия или метафизика, порядок собственных понятий разума — рациональная философия, порядок волевых действий — моральная философия, порядок созданных человеческой разумной деятельностью предметов — механика. В моральную философию включаются только волевые и разумные действия, организованные единством целей. Она подразделяется на монастику (от латинского слова: monos — один), рассматривающую действия отдельного человека, экономику и политику. Единство этих частей обеспечивается их нацеленностью на единое высшее благо и причастностью к нему. Рассмотрение высшего человеческого блага и путей к нему, освещение божественных заповедей светом разума, — такова задача философской этики этого периода.
Согласно его концепции, основой упорядочения философского знания является категория порядка. Порядок вещей рассматривает натурфилософия или метафизика, порядок собственных понятий разума — рациональная философия, порядок волевых действий — моральная философия, порядок созданных человеческой разумной деятельностью предметов — механика. В моральную философию включаются только волевые и разумные действия, организованные единством целей. Она подразделяется на монастику (от латинского слова: monos — один), рассматривающую действия отдельного человека, экономику и политику. Единство этих частей обеспечивается их нацеленностью на единое высшее благо и причастностью к нему. Рассмотрение высшего человеческого блага и путей к нему, освещение божественных заповедей светом разума, — такова задача философской этики этого периода.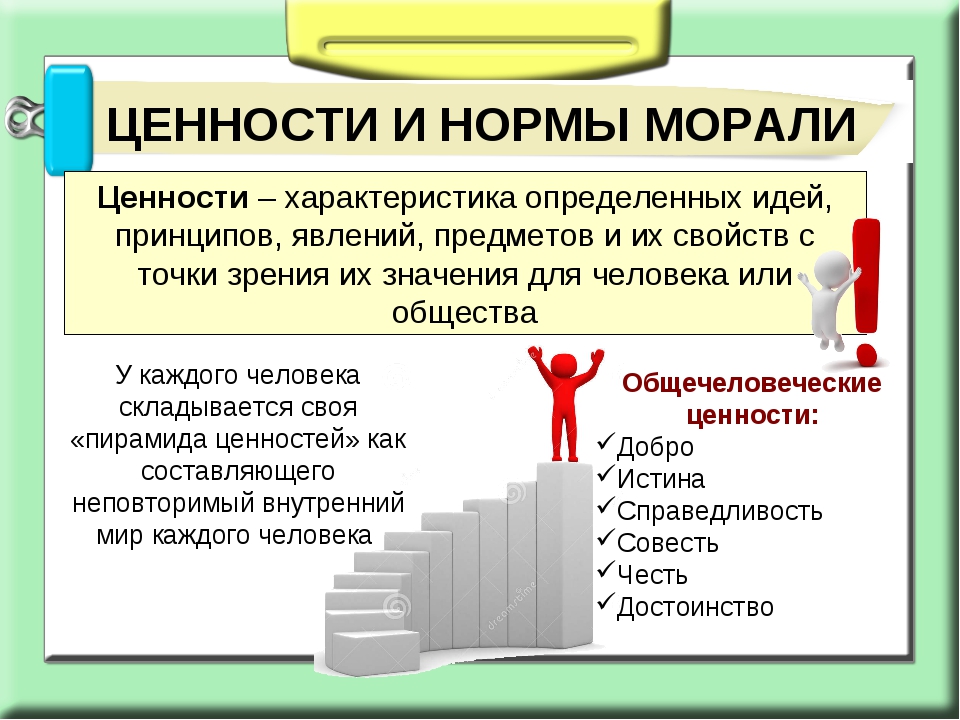 В отличие от средневековой ориентации на платоновско-аристотелевский круг идей она начинает с преимущественной апелляции к стоицизму, эпикуреизму и скептицизму. В методологическом плане она претендует на то, чтобы стать математически строгой наукой. Основоположники философии Нового времени Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс не создали собственных этических систем, ограничившись общими эскизами, но методологически, а в значительной мере и содержательно они предопределили дальнейшее развитие этики.
В отличие от средневековой ориентации на платоновско-аристотелевский круг идей она начинает с преимущественной апелляции к стоицизму, эпикуреизму и скептицизму. В методологическом плане она претендует на то, чтобы стать математически строгой наукой. Основоположники философии Нового времени Ф. Бэкон, Р. Декарт, Т. Гоббс не создали собственных этических систем, ограничившись общими эскизами, но методологически, а в значительной мере и содержательно они предопределили дальнейшее развитие этики.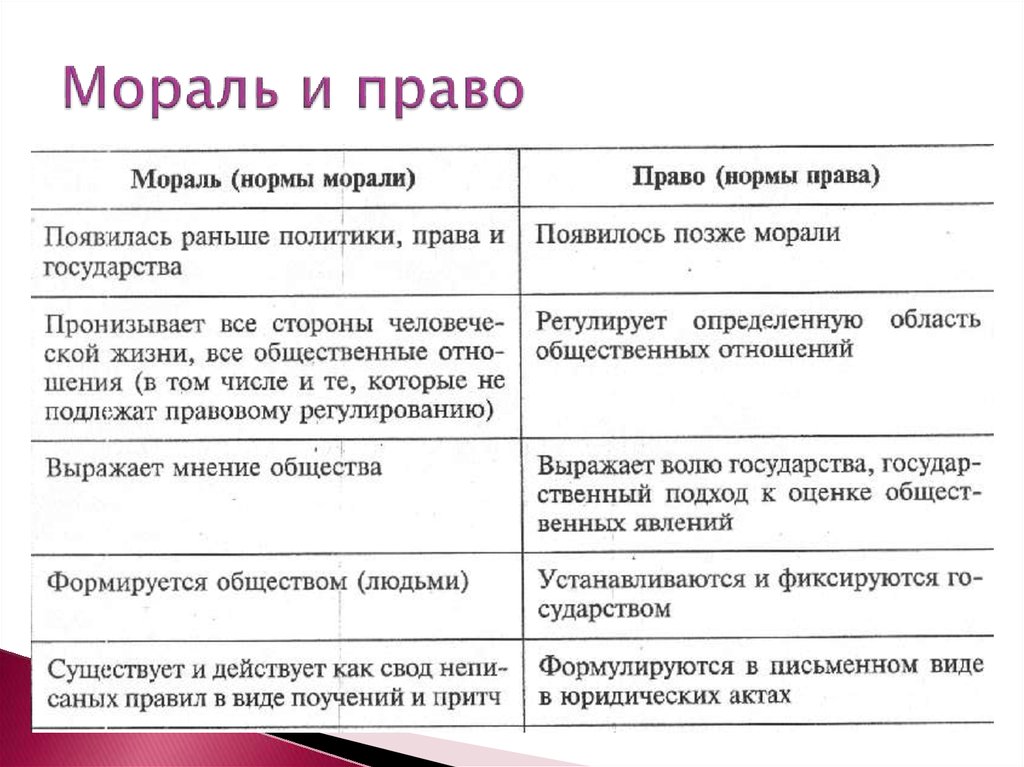 Поскольку этика венчает философию и её незыблемо-истинные правила не могут быть найдены раньше, чем будет достигнуто полное знание других наук, Декарт ограничивается несовершенной этикой и предлагает временные правила морали (Декарт Р. «Рассуждение о методе», ч. III), первое из которых обязывает жить в соответствии с законами и обычаями своей страны, а третье — стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу.
Поскольку этика венчает философию и её незыблемо-истинные правила не могут быть найдены раньше, чем будет достигнуто полное знание других наук, Декарт ограничивается несовершенной этикой и предлагает временные правила морали (Декарт Р. «Рассуждение о методе», ч. III), первое из которых обязывает жить в соответствии с законами и обычаями своей страны, а третье — стремиться побеждать скорее себя, чем судьбу.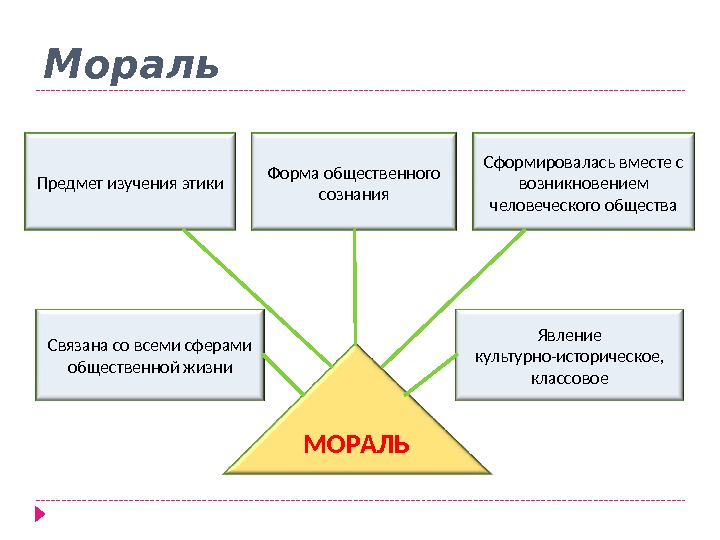 Левиафан, гл. XIII. Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1965, с. 154). Естественное состояние делает невозможным сохранение жизни в течение продолжительного времени, что противоречит первоначальным импульсам, порождающим это состояние. К выходу из него толкают отчасти страсти (прежде всего страх смерти), а отчасти разум, открывающий естественные законы, позволяющие людям прийти к согласию. Основной из них гласит, что следует искать мира и следовать ему, отсюда вытекает следующий — человек должен «довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, какую он допустил бы по отношению к себе» (Гоббс Т. Левиафан, гл. ХIѴ. Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1965, с. 156–157). Основное правило нравственности, названное впоследствии «золотым правилом нравственности», — общедоступное резюме многочисленных естественных законов. По Гоббсу, не может быть науки о морали вне государства. Мораль имеет договорное происхождение; она, как и государство, вырастает из эгоизма и недоверия людей друг к другу.
Левиафан, гл. XIII. Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1965, с. 154). Естественное состояние делает невозможным сохранение жизни в течение продолжительного времени, что противоречит первоначальным импульсам, порождающим это состояние. К выходу из него толкают отчасти страсти (прежде всего страх смерти), а отчасти разум, открывающий естественные законы, позволяющие людям прийти к согласию. Основной из них гласит, что следует искать мира и следовать ему, отсюда вытекает следующий — человек должен «довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другим людям, какую он допустил бы по отношению к себе» (Гоббс Т. Левиафан, гл. ХIѴ. Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1965, с. 156–157). Основное правило нравственности, названное впоследствии «золотым правилом нравственности», — общедоступное резюме многочисленных естественных законов. По Гоббсу, не может быть науки о морали вне государства. Мораль имеет договорное происхождение; она, как и государство, вырастает из эгоизма и недоверия людей друг к другу.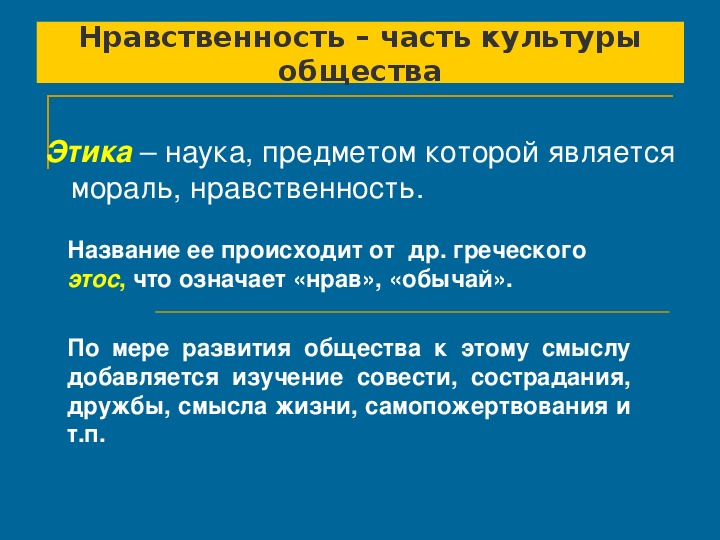 Всеобщим мерилом добра и зла являются законы данного государства, а нравственным судьёй — его законодатель.
Всеобщим мерилом добра и зла являются законы данного государства, а нравственным судьёй — его законодатель. Его этика, находящаяся в органическом единстве с онтологией и гносеологией (из последних она выводится в такой же мере, в какой является их оправданием), в то же время независима от логики, социальных наук и медицины. Особо следует отметить независимость этики Спинозы от его политической концепции.
Его этика, находящаяся в органическом единстве с онтологией и гносеологией (из последних она выводится в такой же мере, в какой является их оправданием), в то же время независима от логики, социальных наук и медицины. Особо следует отметить независимость этики Спинозы от его политической концепции. Хатчесон считал, что естественный закон находит в моральном чувстве свою основу и гарантию. Пантеистически окрашенная идея, сводящая всеобщность морали к конкретности непосредственного чувства, ещё более отчётливо, чем у Хатчесона, была представлена у его учителя Э.-К. Э. Шефтсбери. Согласно Д. Юму, человеку свойственны социальные чувства и его моральные суждения связаны с чувствами человеколюбия, симпатии. Вместе с тем ему присуще стремление к личному интересу, пользе. Юм со скептической осторожностью соединяет эти два начала, полагая, что соображения полезности всегда присутствуют в моральных оценках. А. Смит выводит мораль из чувства симпатии, отводя большую роль механизму уподобления, который позволяет человеку поставить себя на место другого и брать за образец то, что он любит в других. И. Бентам выходит за рамки субъективной этики морального чувства, считая основой этики принцип пользы. Возведение пользы в этический принцип было необходимо для обоснования обязанностей человека не только в рамках малого круга общения, но и как гражданина государства.
Хатчесон считал, что естественный закон находит в моральном чувстве свою основу и гарантию. Пантеистически окрашенная идея, сводящая всеобщность морали к конкретности непосредственного чувства, ещё более отчётливо, чем у Хатчесона, была представлена у его учителя Э.-К. Э. Шефтсбери. Согласно Д. Юму, человеку свойственны социальные чувства и его моральные суждения связаны с чувствами человеколюбия, симпатии. Вместе с тем ему присуще стремление к личному интересу, пользе. Юм со скептической осторожностью соединяет эти два начала, полагая, что соображения полезности всегда присутствуют в моральных оценках. А. Смит выводит мораль из чувства симпатии, отводя большую роль механизму уподобления, который позволяет человеку поставить себя на место другого и брать за образец то, что он любит в других. И. Бентам выходит за рамки субъективной этики морального чувства, считая основой этики принцип пользы. Возведение пользы в этический принцип было необходимо для обоснования обязанностей человека не только в рамках малого круга общения, но и как гражданина государства.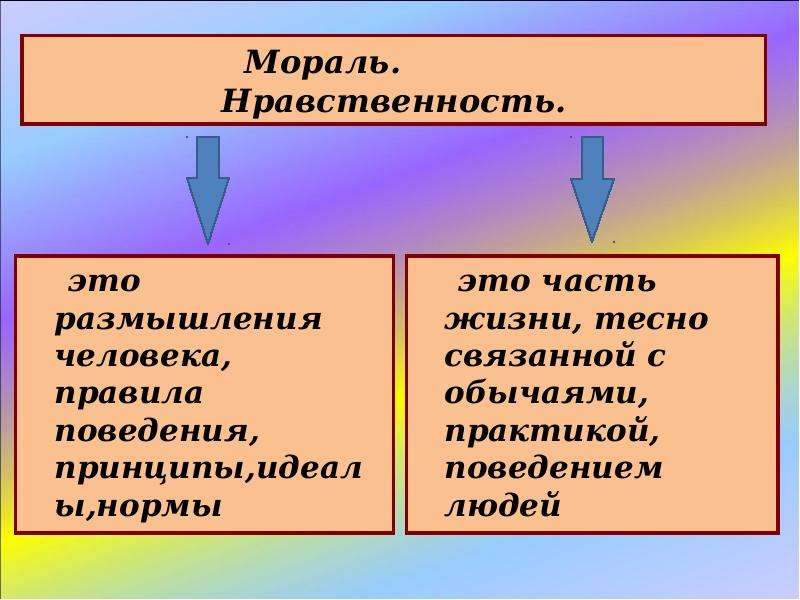
 Исходя из общепризнанных представлений о моральном законе как законе, обладающем абсолютной необходимостью, Кант сугубо аналитическим путём приходит к выводам, согласно которым моральный закон тождествен чистой (доброй) воле, выступает как долг, совпадает со всеобщей формой законодательства, безусловно ограничивающего максимы поведения условием их общезначимости, самоцельности человечества в лице каждого индивида и автономности воли. Категорический императив есть закон чистого практического разума; говоря по-другому, только став нравственным, практическим, чистый разум обнаруживает свою чистоту, не связанную ни с каким опытом изначальность. Объяснение того, как чистый разум становится практическим, по Канту, находится за пределами возможностей человеческого разума. Стремление обосновать истинность нравственного закона завершается постулатом свободы, предположением о существовании ноуменального мира, который является выводом разума, обозначающим его собственный предел: «Свобода и безусловный практический закон ссылаются друг на друга» (Кант И.
Исходя из общепризнанных представлений о моральном законе как законе, обладающем абсолютной необходимостью, Кант сугубо аналитическим путём приходит к выводам, согласно которым моральный закон тождествен чистой (доброй) воле, выступает как долг, совпадает со всеобщей формой законодательства, безусловно ограничивающего максимы поведения условием их общезначимости, самоцельности человечества в лице каждого индивида и автономности воли. Категорический императив есть закон чистого практического разума; говоря по-другому, только став нравственным, практическим, чистый разум обнаруживает свою чистоту, не связанную ни с каким опытом изначальность. Объяснение того, как чистый разум становится практическим, по Канту, находится за пределами возможностей человеческого разума. Стремление обосновать истинность нравственного закона завершается постулатом свободы, предположением о существовании ноуменального мира, который является выводом разума, обозначающим его собственный предел: «Свобода и безусловный практический закон ссылаются друг на друга» (Кант И. «Критика практического разума», § 6, примечание. — «Основоположение к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. — М., 1965, с. 345). Свобода человеческих поступков не отменяет их необходимости, они существуют в разных отношениях, в разных не пересекающихся между собой плоскостях. Понятия свободы и умопостигаемого мира есть «только точка зрения, которую разум вынужден принять вне явлений, для того, чтобы мыслить себя практическим» (Кант И. «Основоположение к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. — М., 1965, с. 304). Это означает, что нравственность дана человеку постольку, поскольку он является разумным существом и принадлежит также ноуменальному миру свободы и что она обнаруживает свою безусловность только в качестве внутреннего убеждения, образа мыслей. Несмотря на то что Кант много сделал для этического обоснования права, напряжение между моральностью и легальностью составляет характерную особенность его учения. Соединение свободы с необходимостью, долга со склонностями, переход от нравственного закона к конкретным нравственным обязанностям — самый напряжённый и, быть может, слабый пункт этики Канта.
«Критика практического разума», § 6, примечание. — «Основоположение к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. — М., 1965, с. 345). Свобода человеческих поступков не отменяет их необходимости, они существуют в разных отношениях, в разных не пересекающихся между собой плоскостях. Понятия свободы и умопостигаемого мира есть «только точка зрения, которую разум вынужден принять вне явлений, для того, чтобы мыслить себя практическим» (Кант И. «Основоположение к метафизике нравов», разд. 2. Сочинения в 6 тт., т. 4. — М., 1965, с. 304). Это означает, что нравственность дана человеку постольку, поскольку он является разумным существом и принадлежит также ноуменальному миру свободы и что она обнаруживает свою безусловность только в качестве внутреннего убеждения, образа мыслей. Несмотря на то что Кант много сделал для этического обоснования права, напряжение между моральностью и легальностью составляет характерную особенность его учения. Соединение свободы с необходимостью, долга со склонностями, переход от нравственного закона к конкретным нравственным обязанностям — самый напряжённый и, быть может, слабый пункт этики Канта.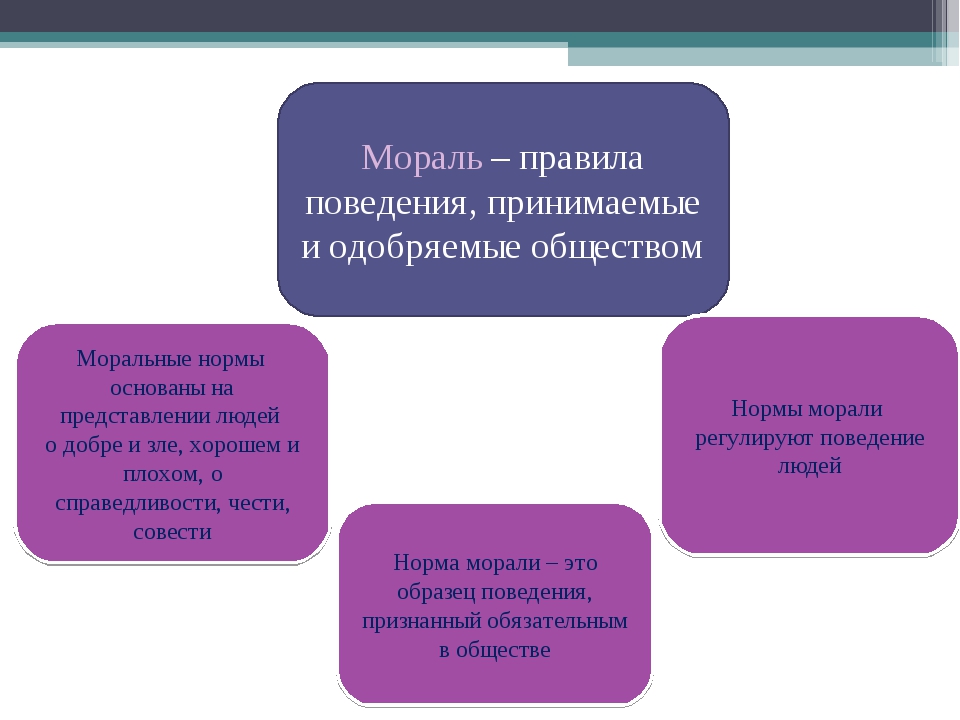 Для того, чтобы можно было нравственность мыслить осуществлённой, Кант вводит постулаты бессмертия души и существования Бога.
Для того, чтобы можно было нравственность мыслить осуществлённой, Кант вводит постулаты бессмертия души и существования Бога.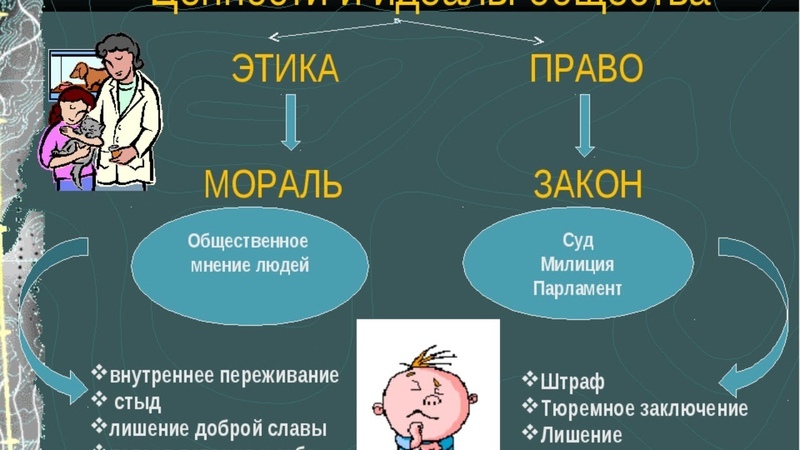 286). Обозначая новый этап, когда нравственное приобретает институциональный характер и утверждает себя как действительное отношение, а не только как принцип долженствования, Гегель разводит понятия морали и нравственности. Моральная воля обнаруживает собственную бесконечность в качестве субъективного принципа, утверждает лицо в качестве субъекта; это — «для себя сущая свобода». Нравственность есть действительность морали, она представляет собой всеобщий образ действий индивидов, в ней свобода, не переставая быть субъективным принципом моральности, возвышается до действительного отношения. Если категориями морали являются «умысел», «вина», «намерение», «благо», «добро», «совесть», то категории нравственности иного рода — «семья», «гражданское общество», «государство». Философия Гегеля фактически устраняет этику как особую дисциплину, так как в ней нравственность совпадает с государством и оставляет открытым вопрос о границах индивидуально ответственного поведения, поскольку нравственность включена в процесс движения абсолютной идеи к самой себе и сама выступает как идея государства.
286). Обозначая новый этап, когда нравственное приобретает институциональный характер и утверждает себя как действительное отношение, а не только как принцип долженствования, Гегель разводит понятия морали и нравственности. Моральная воля обнаруживает собственную бесконечность в качестве субъективного принципа, утверждает лицо в качестве субъекта; это — «для себя сущая свобода». Нравственность есть действительность морали, она представляет собой всеобщий образ действий индивидов, в ней свобода, не переставая быть субъективным принципом моральности, возвышается до действительного отношения. Если категориями морали являются «умысел», «вина», «намерение», «благо», «добро», «совесть», то категории нравственности иного рода — «семья», «гражданское общество», «государство». Философия Гегеля фактически устраняет этику как особую дисциплину, так как в ней нравственность совпадает с государством и оставляет открытым вопрос о границах индивидуально ответственного поведения, поскольку нравственность включена в процесс движения абсолютной идеи к самой себе и сама выступает как идея государства.
 Считалось, что революционное действие снимает мораль, делает её излишней. Мораль была сведена к задачам классовой борьбы пролетариата, к революционной стратегии и тактике, что получило наиболее последовательное выражение в работах В. И. Ленина «Задачи союзов молодёжи» и Л. Д. Троцкого «Их мораль и наша», а также в практике большевизма, прежде всего в практике советского государства 1920–1930-х годов. Тем самым этика в её традиционном значении лишалась собственного предмета; Ленин соглашался с утверждением, что «в марксизме от начала до конца нет ни грана этики» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 1, с. 440). Последующие опыты создания марксистской этики (например, Каутским) были попытками прививки на марксистский ствол побегов старого этического дерева. Это относится также к советской этике в том виде, как она развивалась начиная с 1960-х годов; основная позитивная задача, которую она решала, состояла в том, чтобы «реабилитировать» мораль, обосновать её как относительно самостоятельный, незаменимый (не сводимый к политике и политической идеологии) пласт культуры.
Считалось, что революционное действие снимает мораль, делает её излишней. Мораль была сведена к задачам классовой борьбы пролетариата, к революционной стратегии и тактике, что получило наиболее последовательное выражение в работах В. И. Ленина «Задачи союзов молодёжи» и Л. Д. Троцкого «Их мораль и наша», а также в практике большевизма, прежде всего в практике советского государства 1920–1930-х годов. Тем самым этика в её традиционном значении лишалась собственного предмета; Ленин соглашался с утверждением, что «в марксизме от начала до конца нет ни грана этики» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 1, с. 440). Последующие опыты создания марксистской этики (например, Каутским) были попытками прививки на марксистский ствол побегов старого этического дерева. Это относится также к советской этике в том виде, как она развивалась начиная с 1960-х годов; основная позитивная задача, которую она решала, состояла в том, чтобы «реабилитировать» мораль, обосновать её как относительно самостоятельный, незаменимый (не сводимый к политике и политической идеологии) пласт культуры.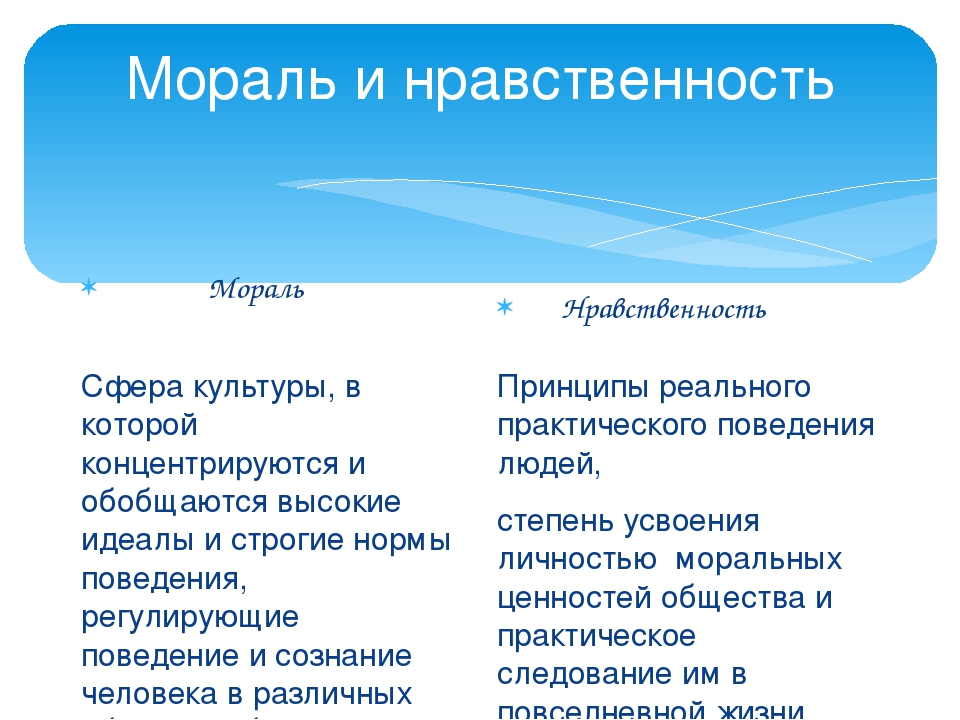
 Понимая бытие как деятельность и считая, что, в частности, не существует вовсе никаких моральных фактов, никакого «бытия», скрытого за поступком, Ницше решительно выступает против европейской морали в её христианской и социалистической формах, которые для него идентичны. Мораль в её исторически сложившемся виде, считает он, убивает волю к становлению, творчеству, совершенствованию, она стала сплошной маской, лицемерной апологией слабости, стадности. Сами понятия добра и зла являются, по мнению Ницше, порождениями плебейства, мертвящего духа рабской зависти, для обозначения и разоблачения которой он вводит единственное в своём роде понятие: ressentiment. Разоблачение внутренней фальши, ухищрений морального сознания обнаруживает в Ницше глубокого психолога и составляет его величайшую заслугу. Однако позицию Ницше нельзя характеризовать только как моральный нигилизм. Он отрицает не всю, а «только один вид человеческой морали, до которого и после которого возможны или должны быть возможны многие другие, прежде всего высшие, «морали» (Ницше Ф.
Понимая бытие как деятельность и считая, что, в частности, не существует вовсе никаких моральных фактов, никакого «бытия», скрытого за поступком, Ницше решительно выступает против европейской морали в её христианской и социалистической формах, которые для него идентичны. Мораль в её исторически сложившемся виде, считает он, убивает волю к становлению, творчеству, совершенствованию, она стала сплошной маской, лицемерной апологией слабости, стадности. Сами понятия добра и зла являются, по мнению Ницше, порождениями плебейства, мертвящего духа рабской зависти, для обозначения и разоблачения которой он вводит единственное в своём роде понятие: ressentiment. Разоблачение внутренней фальши, ухищрений морального сознания обнаруживает в Ницше глубокого психолога и составляет его величайшую заслугу. Однако позицию Ницше нельзя характеризовать только как моральный нигилизм. Он отрицает не всю, а «только один вид человеческой морали, до которого и после которого возможны или должны быть возможны многие другие, прежде всего высшие, «морали» (Ницше Ф.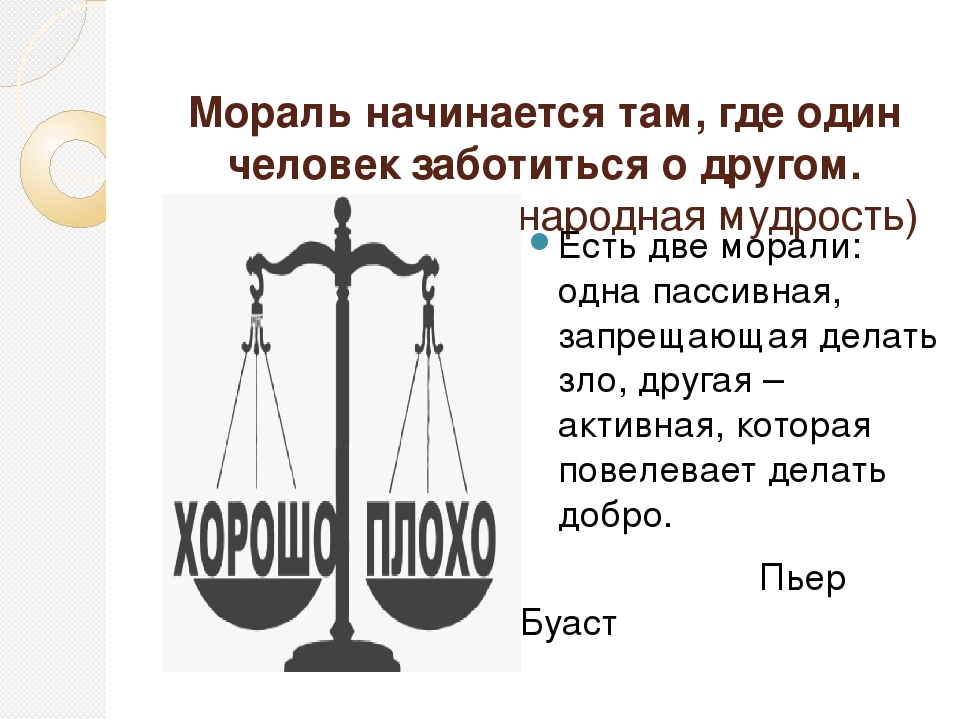 «По ту сторону добра и зла». — Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1990, § 202, с. 321). Ницше ставит задачу переоценки ценностей, суть которой состоит не в том, чтобы сузить, ограничить ценностные притязания философии, а, напротив, максимально расширить их. Он утверждает примат морали перед бытием, ценностей перед знаниями. Нравственные (или безнравственные) цели, считает он, составляют жизненное зерно, из которого вырастает дерево философии; создавать ценности — такова собственная задача философии, всё остальное является предусловием этого (Ницше Ф. «По ту сторону добра и зла». — Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1990, § 3, 6). В рамках такой методологии этика как особая дисциплина невозможна, она совпадает с философией. Этические произведения Ницше являются в то же время его основными философскими произведениями. Расширительное понимание морали и этики, совпадающее с онтологией и предопределяющее все строение философии, в XX веке получило развитие в экзистенциализме. Изменение диспозиции этики в отношении своего предмета, когда её задача сводится к критике морали (нравственности), а не прояснению и обоснованию её содержания, ведёт к исчезновению этики в качестве самостоятельной дисциплины, о чём свидетельствует и марксистский опыт, и опыт Ницше.
«По ту сторону добра и зла». — Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1990, § 202, с. 321). Ницше ставит задачу переоценки ценностей, суть которой состоит не в том, чтобы сузить, ограничить ценностные притязания философии, а, напротив, максимально расширить их. Он утверждает примат морали перед бытием, ценностей перед знаниями. Нравственные (или безнравственные) цели, считает он, составляют жизненное зерно, из которого вырастает дерево философии; создавать ценности — такова собственная задача философии, всё остальное является предусловием этого (Ницше Ф. «По ту сторону добра и зла». — Сочинения в 2-х тт., т. 2. — М., 1990, § 3, 6). В рамках такой методологии этика как особая дисциплина невозможна, она совпадает с философией. Этические произведения Ницше являются в то же время его основными философскими произведениями. Расширительное понимание морали и этики, совпадающее с онтологией и предопределяющее все строение философии, в XX веке получило развитие в экзистенциализме. Изменение диспозиции этики в отношении своего предмета, когда её задача сводится к критике морали (нравственности), а не прояснению и обоснованию её содержания, ведёт к исчезновению этики в качестве самостоятельной дисциплины, о чём свидетельствует и марксистский опыт, и опыт Ницше.
 Эволюционная этика, связанная прежде всего с именем Г. Спенсера и его трудом «Основания этики» (1892–1893), рассматривает нравственность как стадию универсального эволюционного процесса. Нравственность совпадает с социальными действиями, направленными на выравнивание эгоизма и альтруизма. Приспособление человеческой природы к потребностям общественной жизни, по мнению Спенсера, может быть настолько полным, что общественно полезная деятельность всегда будет вызывать радость, а общественно вредная — неприятные чувства. Разница между удовольствиями и страданиями интерпретируется как непосредственная мера добродетельности поведения. При этом предполагается, что эволюционный потенциал общества может достичь такой высокой ступени, когда мотивы и действия, служащие общественной необходимости, непременно будут сопровождаться радостными ощущениями.
Эволюционная этика, связанная прежде всего с именем Г. Спенсера и его трудом «Основания этики» (1892–1893), рассматривает нравственность как стадию универсального эволюционного процесса. Нравственность совпадает с социальными действиями, направленными на выравнивание эгоизма и альтруизма. Приспособление человеческой природы к потребностям общественной жизни, по мнению Спенсера, может быть настолько полным, что общественно полезная деятельность всегда будет вызывать радость, а общественно вредная — неприятные чувства. Разница между удовольствиями и страданиями интерпретируется как непосредственная мера добродетельности поведения. При этом предполагается, что эволюционный потенциал общества может достичь такой высокой ступени, когда мотивы и действия, служащие общественной необходимости, непременно будут сопровождаться радостными ощущениями.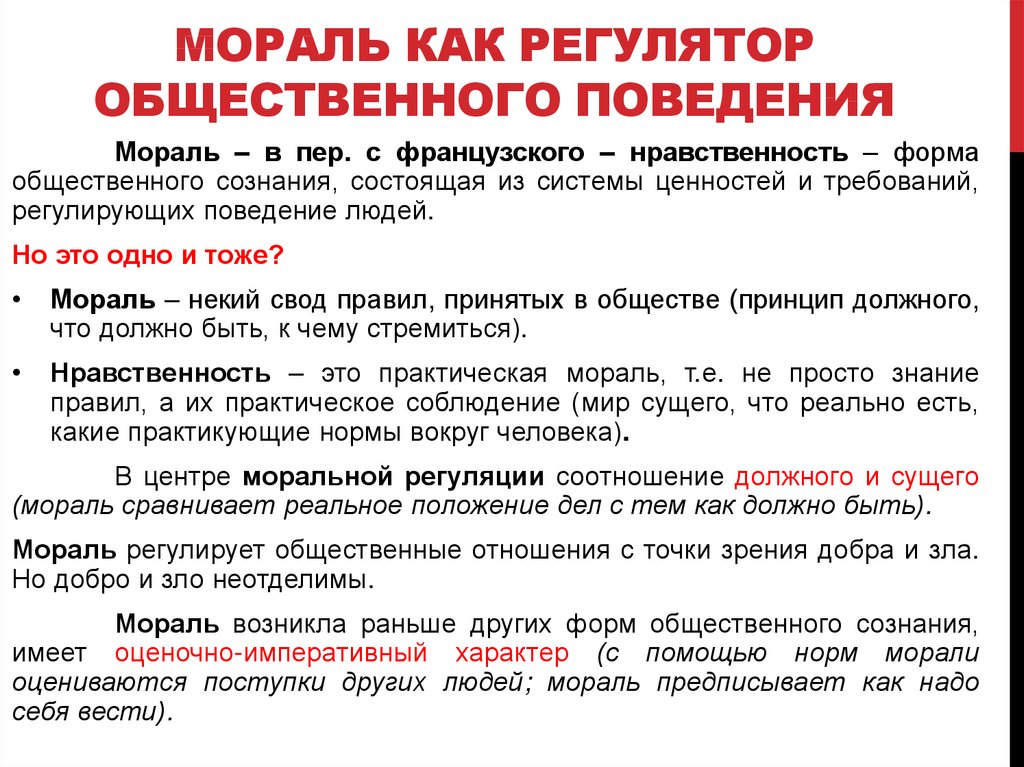 Наиболее характерными с этой точки зрения являются аналитическая этика и феноменологическая этика, первая продолжает эмпирическую, а вторая пытается оживить метафизическую традицию в понимании морали. Аналитическая этика возникла в рамках аналитической философии (см. Аналитическая философия) и идентифицировала себя как метаэтика, имеющая своим содержанием критический анализ языковых форм моральных высказываний. Предмет этики при таком понимании с анализа моральных принципов поведения, норм и добродетелей смещается на прояснение верифицированного значения моральных понятий и предложений. Все сторонники аналитической этики исходят из признания качественного отличия моральных суждений как суждений прескриптивных от дескриптивных суждений, с которыми имеет дело познание. Аналитический метод, направленный на уточнение меры научной строгости этики, имеет важный духовно-эмансипирующий подтекст — он направлен против моральной демагогии и других форм манипулирования общественным сознанием, спекулирующих на непрояснённой многозначности ценностных понятий и суждений.
Наиболее характерными с этой точки зрения являются аналитическая этика и феноменологическая этика, первая продолжает эмпирическую, а вторая пытается оживить метафизическую традицию в понимании морали. Аналитическая этика возникла в рамках аналитической философии (см. Аналитическая философия) и идентифицировала себя как метаэтика, имеющая своим содержанием критический анализ языковых форм моральных высказываний. Предмет этики при таком понимании с анализа моральных принципов поведения, норм и добродетелей смещается на прояснение верифицированного значения моральных понятий и предложений. Все сторонники аналитической этики исходят из признания качественного отличия моральных суждений как суждений прескриптивных от дескриптивных суждений, с которыми имеет дело познание. Аналитический метод, направленный на уточнение меры научной строгости этики, имеет важный духовно-эмансипирующий подтекст — он направлен против моральной демагогии и других форм манипулирования общественным сознанием, спекулирующих на непрояснённой многозначности ценностных понятий и суждений.
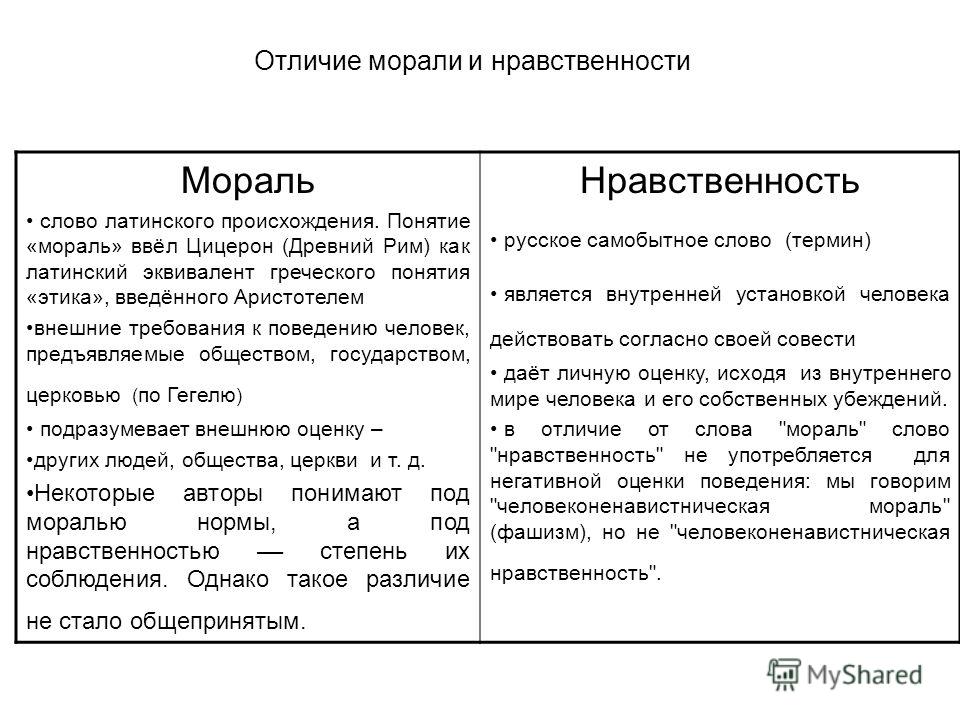 По мнению М. Шелера, труд которого «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (т. 1–2, 1913–1916) развёртывает феноменологические идеи в продуманную этическую систему, ценности образуют иерархию, состоящую из четырёх основных ступеней: гедонистические, витальные, духовные и религиозные. Речь идёт не об исторических стадиях, а о вневременной структуре. Различие между абсолютными ценностями и их исторически обусловленным существованием в форме человеческих целей имеет для феноменологической этики особое значение, что стало одной из центральных идей в книге Н. Гартмана «Этика» (1925). Задача морали и этики состоит в направлении человеческого поведения «вверх» — в соответствии с объективным порядком ценностей. Феноменологическая этика преобразовала метафизические традиции в понимании морали таким образом, что её в равной мере можно считать как этикой конкретной личности, так и этикой абстрактных принципов.
По мнению М. Шелера, труд которого «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (т. 1–2, 1913–1916) развёртывает феноменологические идеи в продуманную этическую систему, ценности образуют иерархию, состоящую из четырёх основных ступеней: гедонистические, витальные, духовные и религиозные. Речь идёт не об исторических стадиях, а о вневременной структуре. Различие между абсолютными ценностями и их исторически обусловленным существованием в форме человеческих целей имеет для феноменологической этики особое значение, что стало одной из центральных идей в книге Н. Гартмана «Этика» (1925). Задача морали и этики состоит в направлении человеческого поведения «вверх» — в соответствии с объективным порядком ценностей. Феноменологическая этика преобразовала метафизические традиции в понимании морали таким образом, что её в равной мере можно считать как этикой конкретной личности, так и этикой абстрактных принципов.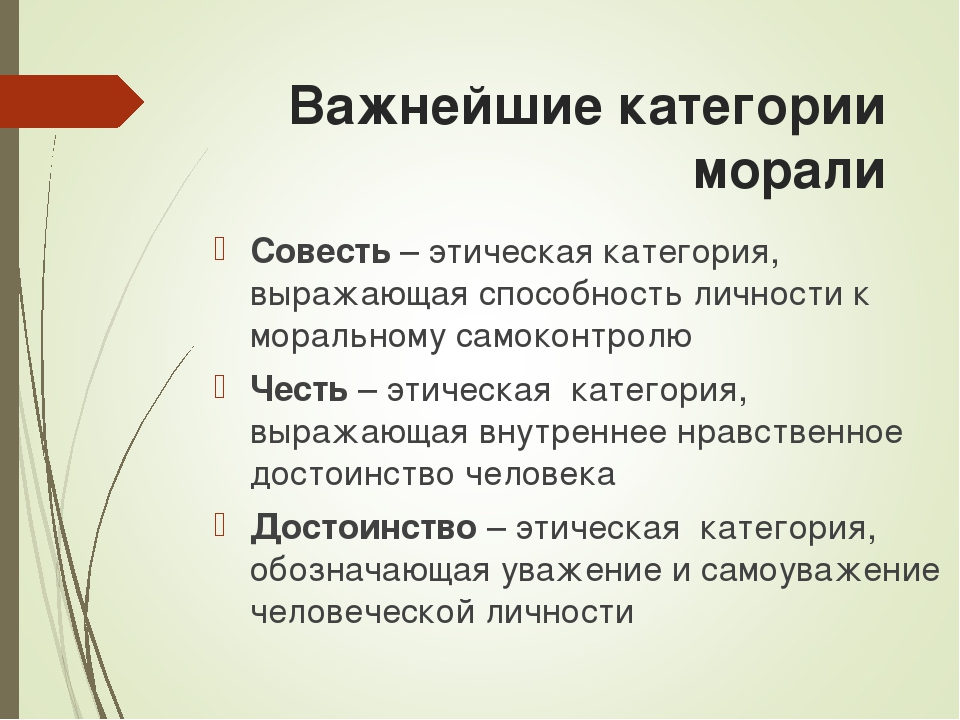 Джеймс, Дж. Дьюи и другие) и русской религиозной философии (В. С. Соловьёв, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и другие). Прагматизм связывает моральные понятия с интересами, потребностями, успешностью поведения, придаёт им ситуативный характер. Мораль демистифицируется до такой степени, что она, рассматривавшаяся традиционно как источник внутреннего недовольства, начинает интерпретироваться как средство на пути к душевному комфорту и довольству жизнью. Русская религиозно-философская этика рубежа XIX–XX веков, так же как и вся западная этика Нового времени, вдохновлена идеей морально суверенной личности, но здесь её отличие состоит в том, что она стремится обосновать эту идею без отказа от метафизики морали и от идеи изначальной коллективности человеческого существования. И то и другое приобретает в ней религиозно-мистические формы: основания морали усматриваются в божественном абсолюте, коллективность интерпретируется как религиозно-духовная всечеловеческая соборность. В этой парадигме морального теоретизирования наиболее значимы этические открытия, представленные в философии «всеединства», экзистенциальной философии и теософии, оформленных с позиций православия и так называемой «русской идеи».
Джеймс, Дж. Дьюи и другие) и русской религиозной философии (В. С. Соловьёв, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и другие). Прагматизм связывает моральные понятия с интересами, потребностями, успешностью поведения, придаёт им ситуативный характер. Мораль демистифицируется до такой степени, что она, рассматривавшаяся традиционно как источник внутреннего недовольства, начинает интерпретироваться как средство на пути к душевному комфорту и довольству жизнью. Русская религиозно-философская этика рубежа XIX–XX веков, так же как и вся западная этика Нового времени, вдохновлена идеей морально суверенной личности, но здесь её отличие состоит в том, что она стремится обосновать эту идею без отказа от метафизики морали и от идеи изначальной коллективности человеческого существования. И то и другое приобретает в ней религиозно-мистические формы: основания морали усматриваются в божественном абсолюте, коллективность интерпретируется как религиозно-духовная всечеловеческая соборность. В этой парадигме морального теоретизирования наиболее значимы этические открытия, представленные в философии «всеединства», экзистенциальной философии и теософии, оформленных с позиций православия и так называемой «русской идеи».
 Её можно интерпретировать как особого рода теоретизирование — теоретизирование в терминах жизни.
Её можно интерпретировать как особого рода теоретизирование — теоретизирование в терминах жизни.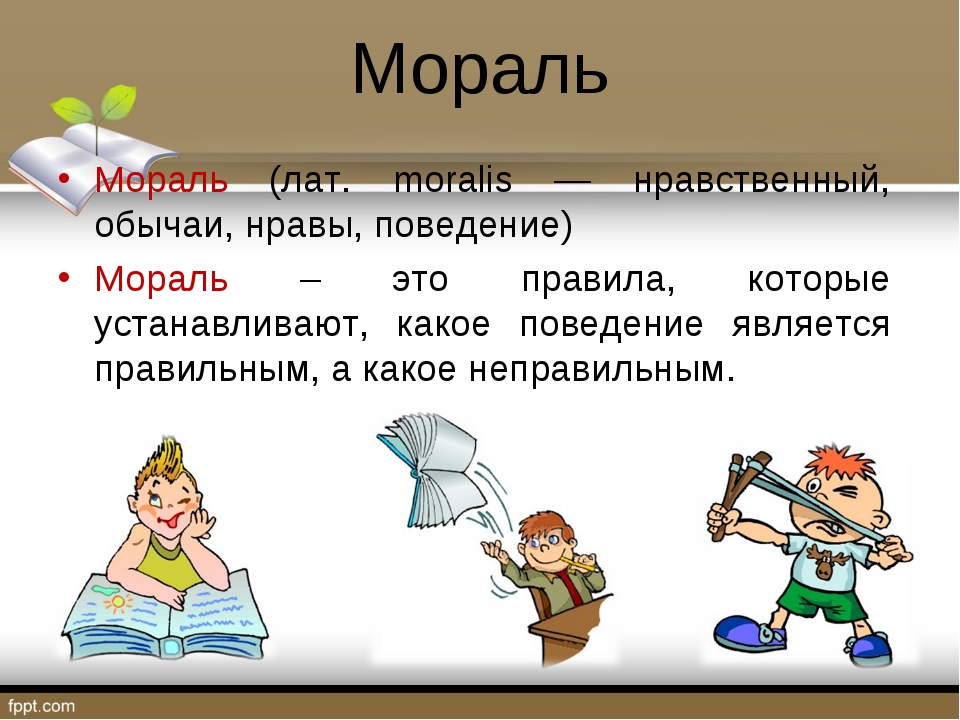 Он исходит из убеждения, что не существует морали, отделённой от индивида и вознесённой над ним. Более того, в семантико-аксиологическом пространстве постмодернизма этика в традиционном её понимании вообще не может быть конституирована как таковая. Тому имеется несколько причин:
Он исходит из убеждения, что не существует морали, отделённой от индивида и вознесённой над ним. Более того, в семантико-аксиологическом пространстве постмодернизма этика в традиционном её понимании вообще не может быть конституирована как таковая. Тому имеется несколько причин: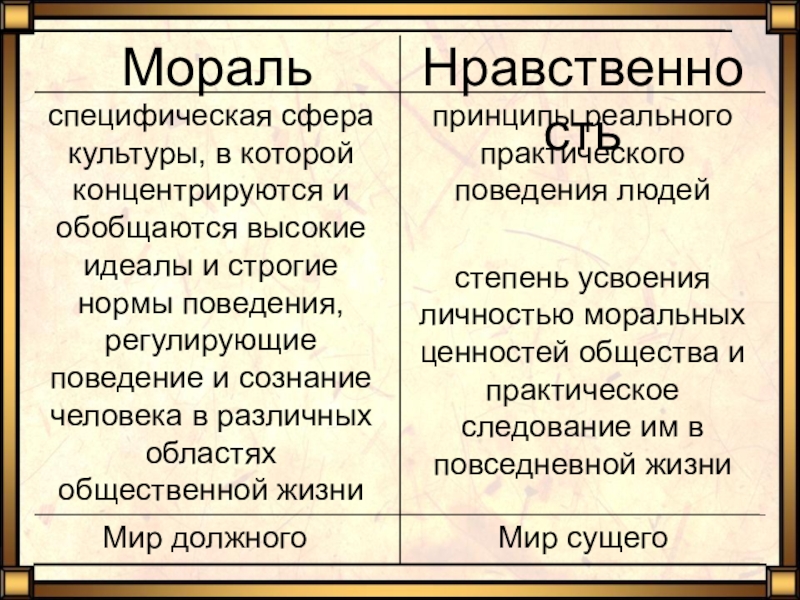 В подобной системе отсчёта этика, неизменно предполагающая подведение частного поступка под общее правило и его оценку, исходя из общезначимой нормы, не может конституировать своё содержание.
В подобной системе отсчёта этика, неизменно предполагающая подведение частного поступка под общее правило и его оценку, исходя из общезначимой нормы, не может конституировать своё содержание.
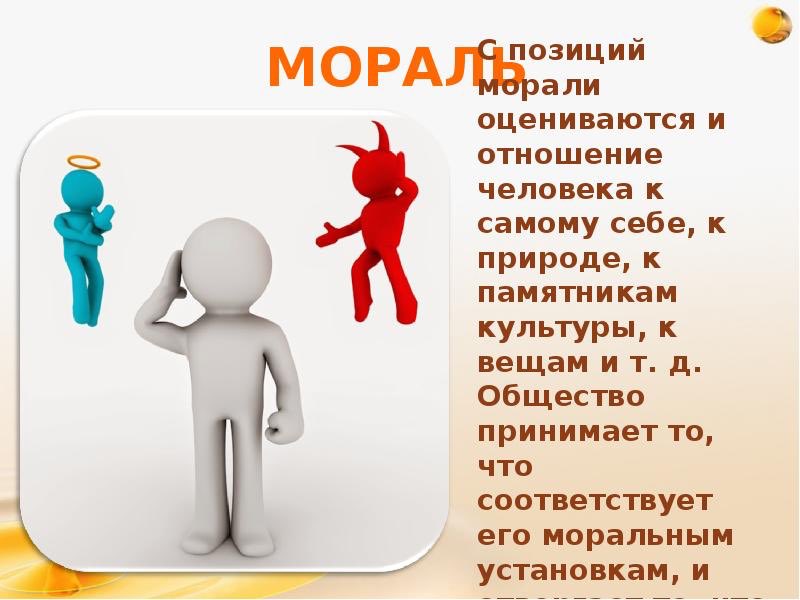 «Не-совозможные миры, несмотря на их не-совозможность, всё же имеют нечто общее — нечто объективно общее, что представляет собой двусмысленный знак генетического элемента, в отношении которого несколько миров являются решениями одной и той же проблемы» (Ж. Делёз). Поворот вектора эволюции в сторону оформления того или иного «мира» объективно случаен, и в этом отношении предшествовавшие настоящему моменту (и определившие его событийную специфику) бифуркации снимают с индивида ответственность за совершенные в этот момент поступки (так, по Делёзу, «нет больше Адама-грешника, а есть мир, где Адам согрешил»), но налагают на него ответственность за определяемое его поступками здесь и сейчас будущее. Подобные выводы постмодернизма практически изоморфны формулируемым синергетикой (см. Синергетика) выводам о «новых отношениях между человеком и природой и между человеком и человеком» (И. Р. Пригожин, И. Стенгерс), когда человек вновь оказывается в центре мироздания и наделяется новой мерой ответственности за последнее.
«Не-совозможные миры, несмотря на их не-совозможность, всё же имеют нечто общее — нечто объективно общее, что представляет собой двусмысленный знак генетического элемента, в отношении которого несколько миров являются решениями одной и той же проблемы» (Ж. Делёз). Поворот вектора эволюции в сторону оформления того или иного «мира» объективно случаен, и в этом отношении предшествовавшие настоящему моменту (и определившие его событийную специфику) бифуркации снимают с индивида ответственность за совершенные в этот момент поступки (так, по Делёзу, «нет больше Адама-грешника, а есть мир, где Адам согрешил»), но налагают на него ответственность за определяемое его поступками здесь и сейчас будущее. Подобные выводы постмодернизма практически изоморфны формулируемым синергетикой (см. Синергетика) выводам о «новых отношениях между человеком и природой и между человеком и человеком» (И. Р. Пригожин, И. Стенгерс), когда человек вновь оказывается в центре мироздания и наделяется новой мерой ответственности за последнее.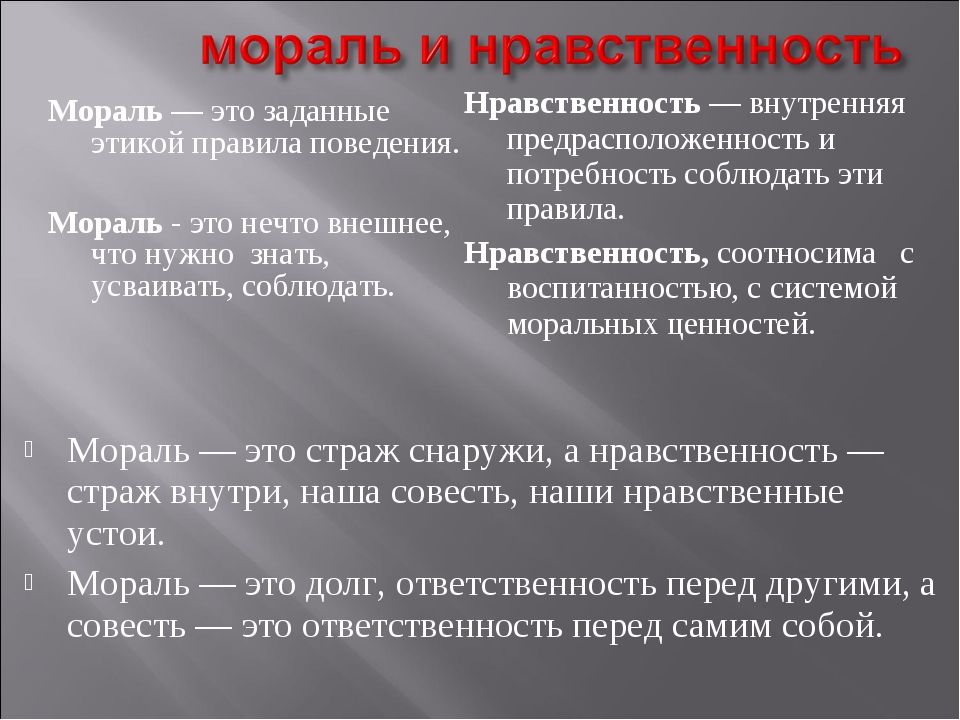
 Фуко). По оценке Ю. Кристевой, в настоящее время «в этике неожиданно возникает вопрос, какие коды (нравы, конвенции, социальные соглашения) должны быть разрушены, чтобы, пусть на время и с ясным осознанием того, что сюда привлекается, дать простор свободной игре отрицательности».
Фуко). По оценке Ю. Кристевой, в настоящее время «в этике неожиданно возникает вопрос, какие коды (нравы, конвенции, социальные соглашения) должны быть разрушены, чтобы, пусть на время и с ясным осознанием того, что сюда привлекается, дать простор свободной игре отрицательности». Фуко). Аналогично Э. Джердайн делает акцент не на выполнении общего предписания, а на сугубо ситуативном «человеческом управлении собой» посредством абсолютно неуниверсальных механизмов.
Фуко). Аналогично Э. Джердайн делает акцент не на выполнении общего предписания, а на сугубо ситуативном «человеческом управлении собой» посредством абсолютно неуниверсальных механизмов. Д. Мак-Кенс постулирует в этом контексте возможность этики лишь в смысле «открытой» или «множественной», если понимать под «множественностью», в соответствии со сформулированной Р. Бартом презумпцией, не простой количественный плюрализм, но принципиальный отказ от возможности конституирования канона, то есть «множественность».
Д. Мак-Кенс постулирует в этом контексте возможность этики лишь в смысле «открытой» или «множественной», если понимать под «множественностью», в соответствии со сформулированной Р. Бартом презумпцией, не простой количественный плюрализм, но принципиальный отказ от возможности конституирования канона, то есть «множественность». Д.)
Д.)