Лекция №1
%PDF-1.5 % 1 0 obj > /Metadata 2 0 R /PageLayout /OneColumn /Pages 3 0 R /StructTreeRoot 4 0 R /Type /Catalog >> endobj 5 0 obj /CreationDate (D:20150527100300+03’00’) /Creator /Keywords () /ModDate (D:20150527100308+03’00’) /Producer (Adobe PDF Library 10.0) /SourceModified (D:20150527070258) /Subject () /Title >> endobj 2 0 obj > stream 2015-05-27T10:03:08+03:002015-05-27T10:03+03:002015-05-27T10:03:08+03:00Acrobat PDFMaker 10.1 для Worduuid:ccdee46b-1988-4554-be63-899830e447a3uuid:370225fe-1074-4ef1-9d5b-5a5bf13f035f
 z
`H/hbbq.ƌ4_-p8ԢjȂð%uD+\p*]dCOQyM\L@T(_1~ls ;{fS
z
`H/hbbq.ƌ4_-p8ԢjȂð%uD+\p*]dCOQyM\L@T(_1~ls ;{fSДобра и зла не существует. Как жить в мире без морали — Нож
Современные рассуждения о морали часто начинаются так: нам свойственно ошибаться, а раз так, может, мы заблуждаемся про то, что такое добро? Может быть, все наши рассуждения о морали такие же неправильные, как теория Птолемея о том, что Солнце вращается вокруг Земли? Такой взгляд может показаться абсурдным и даже опасным (ведь как можно выжить в обществе, где все поступают, как хотят, забыв про добрые поступки?), но философы любят думать о том, что кажется невозможным, и сомневаться в очевидном, так что давайте представим мир без морали.
С чего всё началосьСтавить под вопрос мораль — давняя традиция философии. Еще в Античности древнегреческий философ Пиррон, основатель школы скептицизма, предположил, что нет никакой рациональной причины предпочитать одни моральные принципы другим. Например, то, что мы считаем, будто бы равноправие — это хорошо и ко всем нужно относиться толерантно, определяется местом и временем, где мы живем, нашей общей культурой.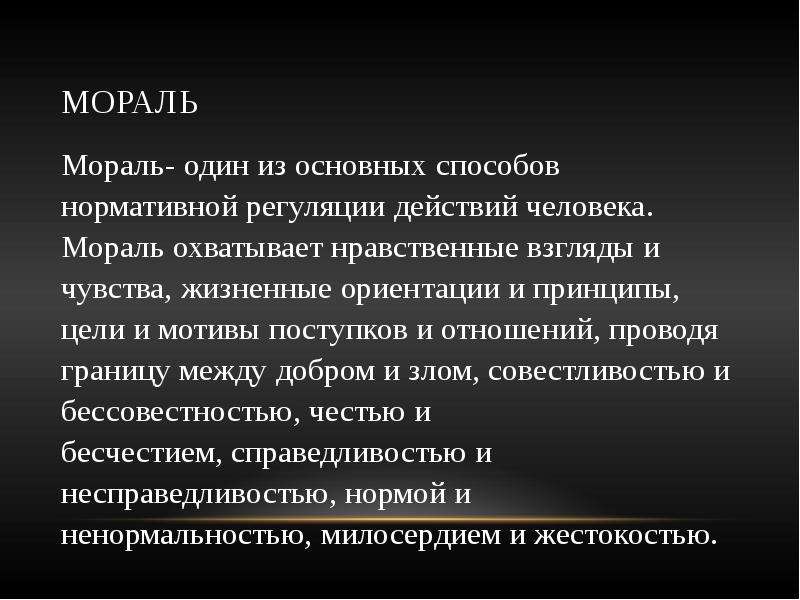
Фридрих Ницще первым приходит на ум, когда вспоминают, кто из известных философов плохо относился к морали: он тоже моральный релятивист.
Ницше заявил, что те, в руках кого сосредоточена вся власть, навязывают свои моральные ценности и принципы всему обществу, а все остальные вынуждены им подчиниться: оценивать свои поступки как правильные или неправильные согласно той самой «морали господ». Часто «рабам» такое положение не нравится, и они принимаются очернять своих «хозяев», создавая собственную мораль.Христианство, по мнению Ницше, как раз и является той самой «рабской моралью», которая возникла как реакция на господствующие нравы.
Не стоит отказываться от морали вообще, но стоит помнить, что нет абсолютных ценностей — вот о чем напоминают нам релятивисты (и с ними, конечно же, спорят).
Однако в середине XX века появились философы, которые шагнули дальше в критике абсолютной морали: они предположили, что мораль не просто зависит от культуры и времени, а ее попросту не существует.
Нет никакого добра и зла, правильного и неправильного, все наши рассуждения о них — всего лишь выдумки, чтобы нам было проще жить в обществе. А раз так, то зачем жить, веря в сказки? Пора от них отказаться.
Такой взгляд на мораль называют теорией моральных ошибок (moral error theory), и в современном научном мире он становится всё более популярным.
Что говорит теория моральных ошибокЧтобы проще объяснить, что такое теория моральных ошибок, ее часто сравнивают с атеизмом. Как атеисты утверждают, что Бога не существует и, соответственно, перестают верить, что мир им создан, — так и философы, которые поддерживают теорию моральных ошибок, говорят, что морали нет, а потому отказываются описывать мир как добрый или злой, а свои и чужие поступки как правильные или неправильные.
Основателем теории моральных ошибок считается австралийский философ Джон Мэки. В 1977 году он издал книгу под названием «Этика: изобретение правильного и неправильного» (Ethics: Inventing Right and Wrong), которая начиналась с того, что нет никаких объективных ценностей, и философам приходится изобретать добро, а не открывать его как уже существующее в этом мире.
По мнению Мэки, в этом и заключается главное отличие этики от других наук, и о нем пора серьезно поговорить.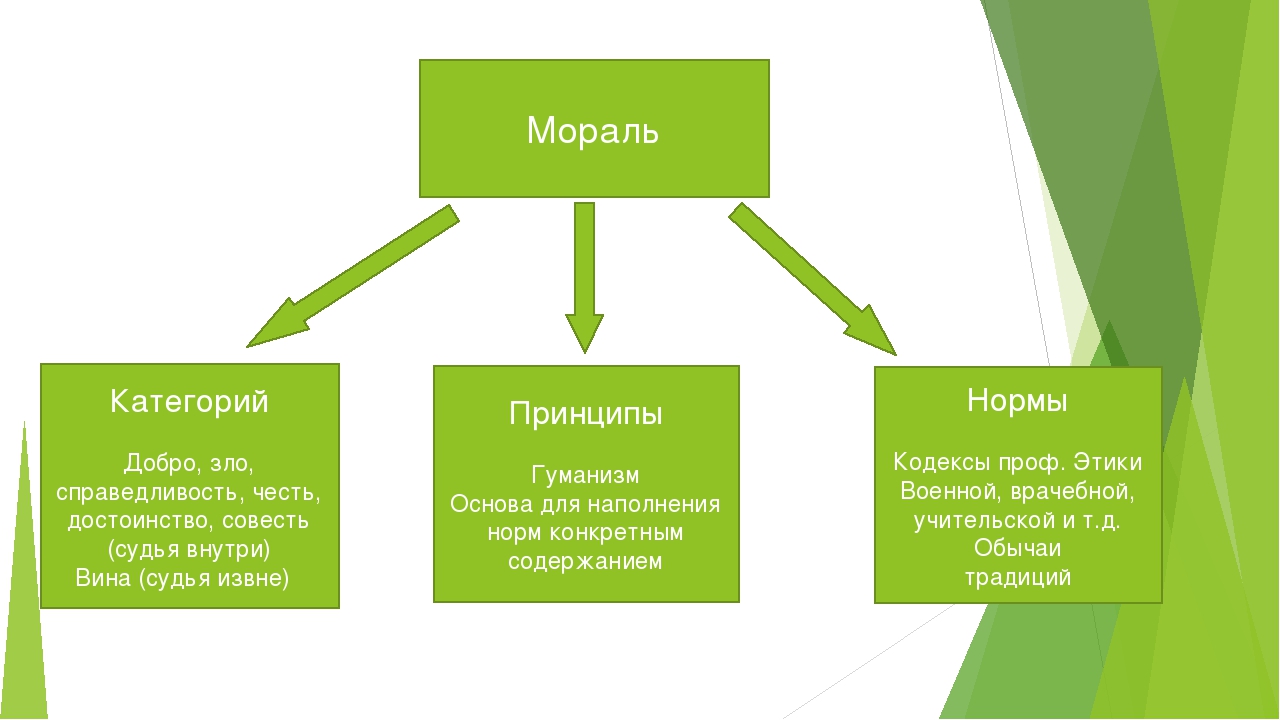 В то время как, например, атом всегда существовал в мире и просто ждал момента, когда наши технологии достигнут необходимого уровня, чтобы его открыть, добра и зла попросту никогда не существовало, а все наши рассуждения о них — только фантазии.
В то время как, например, атом всегда существовал в мире и просто ждал момента, когда наши технологии достигнут необходимого уровня, чтобы его открыть, добра и зла попросту никогда не существовало, а все наши рассуждения о них — только фантазии.
Такой резонансный тезис, конечно же, не остался без внимания, и на теорию Мэки посыпались горы критики. Многие сомневались: неужели совсем никаких объективных ценностей не существует? А как же те случаи, когда всё человечество уверено, что перед ним однозначное добро или зло: например, тоталитарный режим Гитлера, бомбардировки атомными бомбами и убийство невинных людей. Большая часть людей (если вообще не все люди) согласятся с тем, что всё это зло, и вряд ли это когда-либо изменится.
Мэки с этим не спорил: конечно, мы вряд ли поменяем свое мнение относительно всего вышеперечисленного, но «зло» — всего лишь ярлык, который мы навешиваем на все эти события, чтобы их проще было себе объяснить.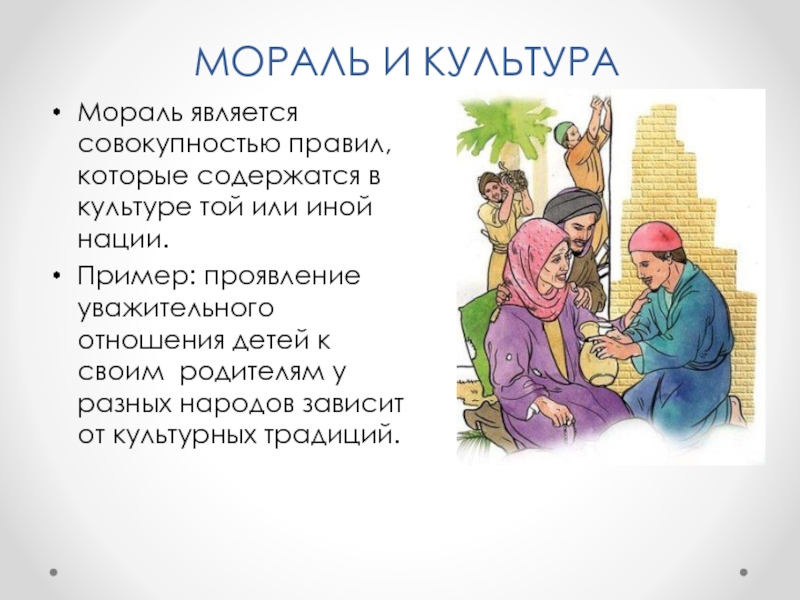 Если бы мы жили в Средневековье, то, скорее всего, говорили бы, что Вторая мировая война или атомные бомбардировки — это «божья кара» или «дьявольские происки», и винили бы Гитлера в первую очередь не в том, что он аморален, а в том, что ослушался Бога.
Если бы мы жили в Средневековье, то, скорее всего, говорили бы, что Вторая мировая война или атомные бомбардировки — это «божья кара» или «дьявольские происки», и винили бы Гитлера в первую очередь не в том, что он аморален, а в том, что ослушался Бога.
Человеческий мозг всегда ищет легкие и простые пути для того, чтобы что-то объяснить и систематизировать, и сейчас ученые всё внимательнее изучают когнитивные искажения.
Что, если мораль — тоже своего рода когнитивное искажение? Что, если это просто ярлык, который нам удобно наклеить на то или иное событие, чтобы объяснить для себя, почему мы так или иначе поступаем, но за яркой наклейкой скрывается пустота?Кроме того, преступники редко соглашаются с тем, что поступают плохо: так же, как и мы, они верят, что их действия принесут добро, а те, кто пытаются им помешать (то есть мы), — главные злодеи. Как тут не запутаться и понять, кто же действительно на стороне добра, а кто — на стороне зла, и вообще, что скрывается за этими понятиями — этот неудобный вопрос задают философы.
Подобная двойственность морали показывает, что мир гораздо сложнее и многообразнее, чем просто черное и белое, моральное и аморальное, а потому пора отказаться от старой системы, которая загоняет нас в эти рамки.
В целом философы, развивающие теорию моральных ошибок, пытаются совершить похожую революцию в обществе, которую уже когда-то совершили ученые, освободив науку от мифологии и религии. В древности гром объяснили гневом богов, а еще несколько столетий назад Декарт и другие ученые Нового времени верили, что конечное объяснение для многих явлений — их божественное происхождение. Любые размышления начинались и заканчивались с утверждения, что Бог существует, и его нельзя было оспорить. Когда же философы и ученые стали в этом сомневаться, наука шагнула вперед и нашла другие объяснения многим феноменам, которым раньше приписывались только сверхъественные причины.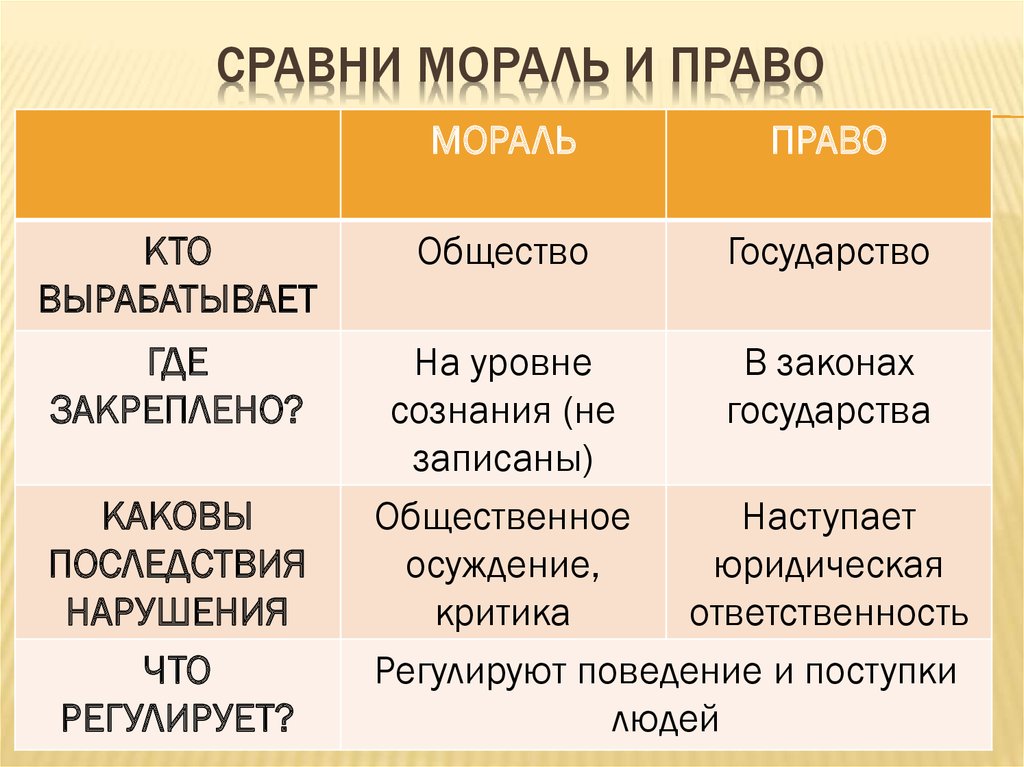 Может, теперь настало время перестать прикрываться моралью и поискать другую мотивацию для наших поступков?
Может, теперь настало время перестать прикрываться моралью и поискать другую мотивацию для наших поступков?
Предположим, теория моральных ошибок верна: мораль — и правда яркая обертка, за которой нет никакого объективного добра и зла. Мы и вправду их выдумали и на протяжении тысячелетий рассказывали сказки про мораль. Что делать дальше? Как отказаться от сказок? Чем руководствоваться? Что придет на смену морали?
Все эти вопросы — главная тема для споров всех тех философов, которые поддерживают теорию моральных ошибок, и, как это часто у философов бывает, к единому ответу они так и не пришли. А потому вот три варианта возможного будущего, в котором больше нет ни добра, ни зла.
Вариант первый. Забываем про мораль совсемЕсли мораль — ошибка, то давайте перестанем ее совершать и совсем откажемся от идеи добра и зла. К такому выводу пришли философы, поддерживающие теорию морального аболиционизма. Они рассуждают по такой аналогии: когда ученые понимают, что теория ошибочна, то обычно насовсем от этой теории отказываются. Например, когда мы доказали, что флогистона не существует, химики перестали использовать эту теорию для объяснения процессов горения. Логично применить этот же подход к морали: добра и зла нет, а значит, хватит называть одни поступки моральными и правильными, а другие — плохими.
Они рассуждают по такой аналогии: когда ученые понимают, что теория ошибочна, то обычно насовсем от этой теории отказываются. Например, когда мы доказали, что флогистона не существует, химики перестали использовать эту теорию для объяснения процессов горения. Логично применить этот же подход к морали: добра и зла нет, а значит, хватит называть одни поступки моральными и правильными, а другие — плохими.
Такой подход, как считает австралийский философ Ян Хинкфусс, освободит нас от моральной диктатуры элит и научит критическому мышлению. Ведь сейчас, по сути, те, кто имеют власть и влияние в обществе, определяют, что хорошо, а что плохо, какие ценности поддерживать, а от каких отказываться. Они формируют общество, удобное для них, будто бы их убеждения имеют под собой объективную и рациональную основу, ведь вера в то, что ценности вечны и абсолютны, убивает любые критические замечания и размышления.
«В нашем обществе большинство детей вознаграждаются улыбками, объятиями, сладостями и другими подарками вместе с такими словами, как „хорошо“, и его аналогами за многие их действия.
Им говорят, что они хорошие или что они поступили правильно. […] В результате такого воспитания получается человек, который хочет быть хорошим и боится быть плохим. […] Важно то, что такие люди теперь подвержены моральной пропаганде со стороны тех людей, которых они считают „лучшими“, то есть тех, кто знает больше, чем они, о том, что же правильно, а что нет». — Ian Hinckfuss, The Moral Society: Its Structure and Effects
Кроме того, мораль и вера в ее объективность усложняет любые споры, превращая их не в конфликт частных интересов, а в поле битвы мировоззрений и в попытки доказать, на чьей стороне вечность и объективность. Вырежьте из споров про аборты морализаторство, и сразу станет проще докопаться до сути (по крайней мере, так считает американский философ Ричард Гарнер).
И он же напоминает, что в мире без морали не будет царить анархия, как это себе обычно представляют:
«Уберите моральные права, и останутся юридические права, гражданские права, обычные права и бесчисленные права и свободы, которые мы регулярно предоставляем друг другу и требуем их соблюдения.
Вам ведь не нужно право на неприкосновенность частной жизни, если у других есть привычка уважать вашу потребность в неприкосновенности частной жизни или если законы ее защищают. Легко придумать способы мотивировать людей более серьезно относиться к потребностям и интересам других, не используя для этого мораль. Мы могли бы усерднее работать над обучением и продвижением коммуникативных навыков, терпимости и эмпатии».— Richard Garner, Abolishing Morality
В целом философы-аболиционисты верят, что как только мы перестанем верить в мораль и оценивать поступки друг друга как «правильные» и «моральные», мы станем жить честнее. Наконец можно будет сосредоточиться на других (более истинных, как считают аболиционисты) причинах, почему мы действуем так, а не иначе:
Вариант второй. Продолжаем использовать мораль как ни в чем ни бывало«Избавление от морали не решит всех проблем в мире, и ни один моральный аболиционист не станет утверждать, что это произойдет, но это позволит нам увидеть конфликт интересов таким, какой он есть на самом деле, а также других людей такими, какие они есть, и это само по себе подорвет демагогию и фанатизм».
— Richard Garner, Abolishing Morality
Впрочем, не все философы, поддерживающие теорию моральных ошибок, верят, что мораль несет в себе только зло и от нее нужно поскорее избавиться. Среди них есть и те, кто развивает моральный консерватизм, то есть теорию, которая предлагает повременить с отказом от морали, даже если это массовое заблуждение.
Консерваторам не нравится, что аболиционисты так однобоко оценивают мораль: она уж точно не самое главное зло в мире. Австралийская философиня Джессика Иссероу в своей прошлогодней статье пытается оправдать мораль, напоминая, что часто не одна только мораль повинна в наших плохих поступках.
Религия, политические режимы, а также научные заблуждения тоже виноваты в том, что в прошлом мы поступали несправедливо. Например, люди поддерживали рабство не только потому, что это «морально» и «хорошо», а еще и потому, что «так установил Бог» и на тот момент такие были написаны законы.
Не одна только мораль виновата в наших спорах, фанатизме и демагогии, не только она помогла установить и поддерживать тоталитарные режимы. Как сами философы и напоминают, мир гораздо сложнее, и на наши поступки влияет множество факторов, один среди которых — это наша вера в объективность добра и зла.
Однако не стоит думать, будто Иссероу и вместе с ней все моральные консерваторы считают, что мораль как теория на самом деле истинна. Нет, они по-прежнему утверждают, что мораль ошибается, а добро и зло — всего лишь наши выдумки. Но эти выдумки не такие опасные и вредные, как считают аболиционисты.
И раз мы на протяжении уже стольких тысячелетий рассказываем сказки про добро и зло, то, может, они даже полезны? Ведь, в конце концов, они мотивируют нас совершать хорошие поступки и развиваться в лучшую сторону (по крайней мере, иногда).Кроме того, консерваторы напоминают, что отказаться от морали будет не так-то и просто. Мы постоянно употребляем такие слова, как «хорошо», «правильно» и «справедливо», и даже если объективно нет никакого добра, как по-другому оценить свои и чужие действия как желанные и социально одобряемые?
Поэтому консерваторы предлагают не придавать широкой огласке то, что обсуждают философы.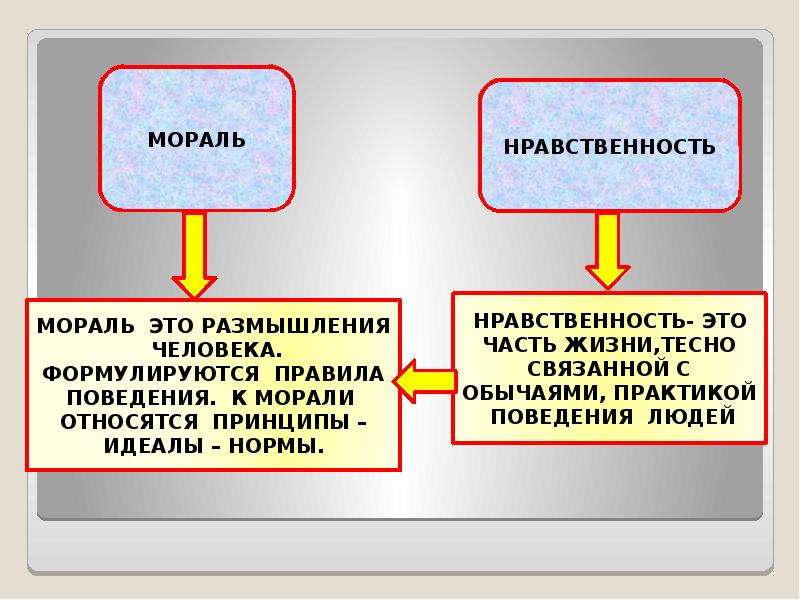 Пускай теория моральных ошибок так и останется уделом ученых, которые, несомненно, будут знать про истинное положение дел (мораль — всего лишь наша выдумка), но общество продолжит жить так, будто добро всё-таки есть, ведь нам так привычнее, да и должна же быть хоть какая-то надежда.
Пускай теория моральных ошибок так и останется уделом ученых, которые, несомненно, будут знать про истинное положение дел (мораль — всего лишь наша выдумка), но общество продолжит жить так, будто добро всё-таки есть, ведь нам так привычнее, да и должна же быть хоть какая-то надежда.
Но даже если нам и впрямь привычнее с моралью, чем без нее, а теория морали даже иногда полезна, обманывать людей в то время, как одни только ученые будут знать про истинное положение дел, — так себе перспектива. По крайней мере, так думают те философы, которые поддерживают теорию морального фикционализма. Именно они сравнивают моральный консерватизм с оруэлловской эпистемологией, ведь только малая часть общества (в данном случае философы) будет знать об истинном положении вещей и, таким образом, манипулировать остальными людьми, чтобы от них это скрыть.
«Так как моральные суждения, как мы сейчас предполагаем, являются ложными, дальнейшее их использование будет конфликтовать с реальностью, а потому для того, чтобы всё-таки сохранить мораль, нам придется обманывать, уклоняться и прибегать к софистике.
[…] Утверждения, что мораль правдива, в то время как она таковой не является, может привести к доксатической катастрофе, оруэлловской эпистемологии и, возможно, нервному срыву».
— Richard Joyce, Moral Fictionalism. How to have your cake and eat it too
Получается противоречие: с одной стороны, теория морали ошибается, но с другой, мораль всё еще может нам пригодиться. Это противоречие и пытаются разрешить моральные фикционалисты.
Они предлагают рассказывать людям, что добро и зло — всего лишь наши выдумки, но выдумки полезные, а потому стоит продолжить их использовать, просто относиться к ним соответствующе.Однако фикционалистам остается решить другую проблему: если мораль — всего лишь сказка, почему тогда мы должны ей следовать?
Наша вера в моральные принципы часто подкреплена знанием (пускай даже ошибочным), что за ними стоит объективная истина. Потому в сложной ситуации мы готовы пожертвовать личными интересами и вместо этого поступить морально и справедливо, даже если нам это невыгодно и тяжело.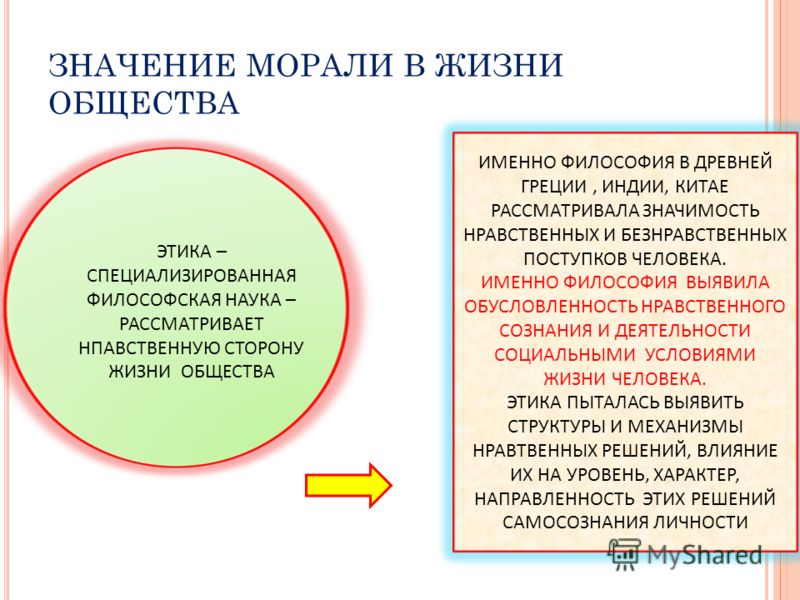 Если же мы все дружно будем знать, что нет никакого добра и зла, то мораль потеряет свою мотивирующую силу и лишится всех тех полезных качеств, про которые напоминают консерваторы.
Если же мы все дружно будем знать, что нет никакого добра и зла, то мораль потеряет свою мотивирующую силу и лишится всех тех полезных качеств, про которые напоминают консерваторы.
Впрочем, фикционалисты считают, что это не так. Так же, как художественная литература, фильмы и произведения искусства могут порой вызывать в нас более сильные чувства, чем реальная жизнь (когда мы плачем над смертью любимого персонажа или же радуемся вместе с ним его успехам), так и моральные принципы по-прежнему могут оказывать на нас похожий эффект, даже если «на самом деле» они не существуют.
Британско-австралийский философ Ричард Джойс предлагает относиться к морали как к метафоре. Например, во времена Аристотеля люди верили, что любовь — это в буквальном смысле продукт сердечной активности, и фраза «я люблю тебя всем сердцем» воспринималась буквально.Сейчас же никому и в голову не приходит так полагать, а потому фактически мы врем, когда признаемся в любви, используя эту метафору: наша любовь не находится буквально в сердце. Тем не менее мы все прекрасно понимаем, что хотим сказать, и более того, предпочтем в разговорах о любви метафоры буквальным выражениям.
Тем не менее мы все прекрасно понимаем, что хотим сказать, и более того, предпочтем в разговорах о любви метафоры буквальным выражениям.
Джойс полагает, что то же самое применимо к морали: мы по-прежнему можем рассуждать про добро и зло, даже если знаем, что буквально их не существует, однако по определенным причинам эти моральные метафоры лучше передают то, что мы хотим сказать.
«Короче говоря, мы уже умеем говорить и думать о ложных вещах для того, чтобы на самом деле сообщить правду».
— Richard Joyce, Moral Fictionalism. How to have your cake and eat it too
Теория моральных ошибок может показаться всего лишь разговором философов о каких-то слишком отдаленных и абстрактных вещах. В отличие от естественных наук этика и философия вряд ли когда-нибудь точно установят, существует ли объективное добро. В конце концов, вечные вопросы философии тем и интересны, что о них можно рассуждать бесконечно.
Однако теория моральных ошибок не бесполезна: она напоминает нам о том, что нужно сомневаться даже в тех истинах, которые кажутся нам безошибочными и вечными. Только так и возможен прогресс.
Только так и возможен прогресс. Еще пару веков назад представить мир без религии было невозможно и страшно, множество голосов твердило, что если мы лишимся религии и Бога, то всё общество развалится, но время показало, что это не так. Возможно, нас ждет то же самое с моралью? Отказавшись от нее или по крайней мере осознав, что добро и зло не так уж нерушимы и объективны, мы сможем честнее друг к другу относиться и проще встречать перемены?
Вот в будущем и увидим, а пока теория моральных ошибок служит напоминанием, что не стоит обращаться с моралью абстрактно. Австрийский философ Томас Пельцлер, поддерживающий теорию моральных ошибок, заметил:
«По моему мнению, рассуждать о полезности морали в целом — сомнительное предприятие. Мораль вездесуща и многогранна. Она включает в себя рассуждения о действиях, людях и состояниях; она также касается таких разных вопросов, как забота, справедливость, свобода, авторитет и неприкосновенность. Моральные утверждения могут быть результатом быстрой, автоматической реакции на происходящее вокруг, а могут быть результатом долгого и медленного размышления.
Именно потому я считаю, что практическое применение теории моральных ошибок должно зависеть от конкретных примеров».
— Thomas Pölzler, The effects of morality on acting against climate change
Пельцлер предлагает миксовать возможные варианты нашего будущего без морали: в одних ситуациях выбирать аболиционизм и вообще отказываться от моральных суждений, в других — становиться на сторону консерваторов и вспоминать о полезных свойствах морали мотивировать нас поступать правильно.
В конце концов, это заставит нас не бездумно следовать по одному протоптанному пути, который придумал кто-то за нас, а сомневаться, критически мыслить и решать, что важно конкретно для нас и какое будущее именно мы хотим видеть.
Человечеству необходим новый нравственный порядок — Российская газета
Проблема человека во все времена существования человеческой цивилизации занимала умы людей.
По существу, человеческое измерение всего — цивилизаций, культур, смыслов и ценностей, — всего того, что было и есть на Земле, присутствовало в историческом и культурном наследии поколений в китайской и индийской культуре, в античной философской традиции, в эпохе Ренессанса, в русской литературе.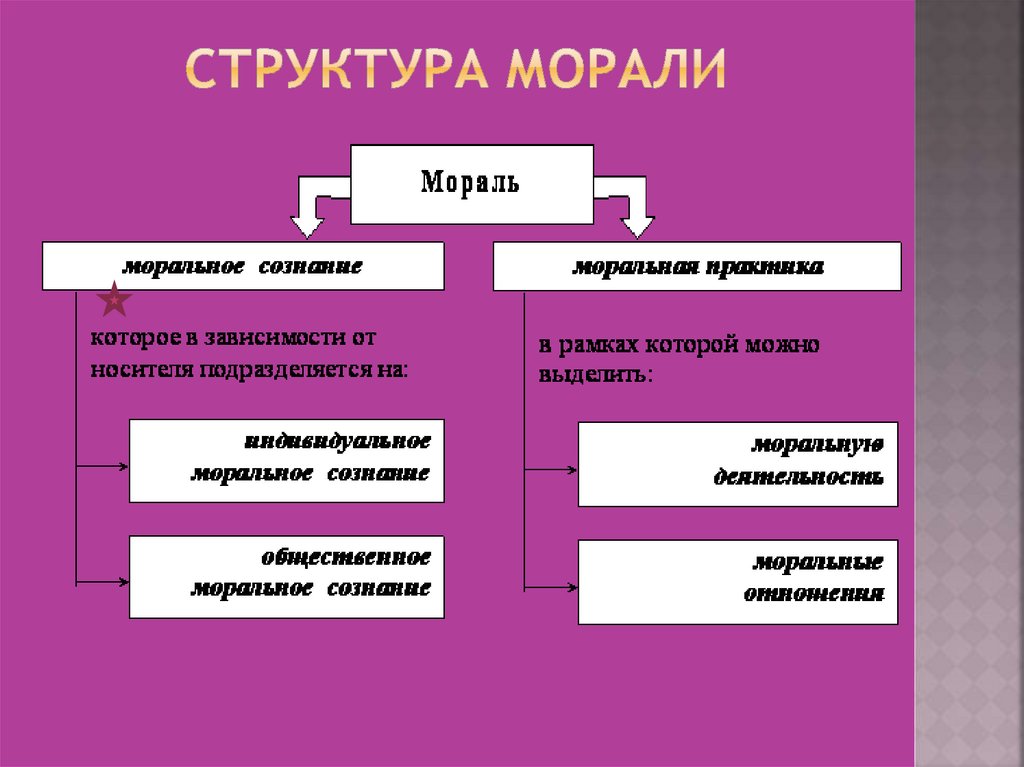 Этот вечный вопрос: «Что такое человек?» — существовал всегда, в колебаниях добра и зла, любви и ненависти, войны и мира, возрождений и упадка культур и цивилизаций, рождений и смертей миллионов людей.
Этот вечный вопрос: «Что такое человек?» — существовал всегда, в колебаниях добра и зла, любви и ненависти, войны и мира, возрождений и упадка культур и цивилизаций, рождений и смертей миллионов людей.
В современном мире человек несет в себе все возможности и все риски развития, вплоть до самоуничтожения. Встает вопрос: насколько совпадают особенности современного мира с программой самого человека, и возможно ли сегодня предусмотреть формирование таких регламентов взаимодействия, которые бы обеспечили устойчивое развитие будущей человеческой цивилизации? Стратегический ресурс человечества, сложное взаимодействие всех его сторон, всегда определяло существо мирового порядка, что на страновом уровне всегда было связано в первую очередь с проблемами национальной безопасности.
Сегодня борьба за этот мировой порядок происходит не только на экономико-техническом, военном или финансовом рынках, но и в общественной сфере, где формируются, сохраняются или отвергаются те или иные духовные и нравственные ценности, общечеловеческие нормы и стандарты, создающие мотивацию и целеполагание деятельности человека, народа и человечества. В этой связи следует отметить, что нравственный и социокультурный ресурс, как и потенциал гражданского общества в целом, используется сегодня не в полной мере, и судьбоносные решения принимаются нередко в обход демократических процедур и волеизъявления народов. К сожалению, в современном мире тому много трагических примеров.
Востребованность сегодняшнего дня — новые формы управления глобальным миром, который сегодня развивается почти бесконтрольно, и в связи с этим очень актуально формирование новых регламентов взаимодействия как на страновом, так и на международном уровнях. Если посмотреть исторически на развитие цивилизации, на путь человека внутри исторического процесса — от духовной пустоты до высочайшего уровня развития науки и культуры, то можно отметить, что каждый раз новое знание, новое достижение, новое понимание мира всегда было связано с внутренним миром и личностным потенциалом человека. Не потерял своей значимости и по сей день базовый принцип, выработанный в античной философии: «Познай самого себя».
Вспомним также, что все захватнические войны в истории человечества были направлены не только на оккупацию и передел территорий и национальных богатств, но главное — имели задачу переделывания под себя других культур и народов, разрушения их самосознания и идентичности. История свидетельствует о том, что разрушение смыслов всегда приводило к уничтожению цивилизаций, к нравственной деградации и саморазрушению человеческой личности.
Как известно, в мире сегодня сформировались проблемы, которые имеют глобальный характер и беспрецедентную сложность, подвергая мощному воздействию сами основы цивилизации. Все это требует реформирования общечеловеческой стратегической повестки дня, в которой необходимо предусмотреть не только вопросы экономического, социального и научного развития, но и обострившиеся в последнее время проблемы духовно-нравственного кризиса, смысла жизни и общечеловеческих ценностей, т.е. обеспечить устойчивое развитие цивилизации и сбережение народов.
Еще античная философия, пытаясь ответить на предельно общие вопросы мира и человека, сформулировала подходы, определившие гармонию личности как важнейшее условие поддержания космического миропорядка. В свое время известный социолог и мыслитель П. Сорокин подчеркивал, что концепция развития человеческого потенциала шире модели экономического развития, и судьба любого общества зависит от качества его членов. Выгодность и целесообразность этой формулы доказали экономисты — нобелевские лауреаты. К сожалению, казалось бы, эти самые естественные и актуальные для сегодняшнего мира вопросы сегодня отошли на второй план, и самосознание человека постепенно начинает угасать, а смыслы рушатся, и нравственный ресурс человечества сегодня не используется в полной мере. С этой точки зрения кризис смысла в современном обществе требует изменения подходов по созданию моделей преодоления гуманитарной опасности, стрессовых и рисковых для человечества ситуаций, приобретающих глобальные масштабы.
Смысл — самое устойчивое и главное в человеке, он — всегда связующее звено между человеком и его деятельностью. И в этой связи проблема человека — главная в решении обеспечения его гуманитарной безопасности, не только в связи с потребностью решать его внутренние вопросы, но и долгосрочные перспективы его планетарного существования: демографические и экономические, войны и мира, безопасности и ответственности. Историческая память показывает, что противовесом положительному вектору социально-культурного развития всегда выступала деградация нравственности в обществах и государствах. Сегодня параметры этого дефицита достигли глобальных масштабов. И для человечества важно осознать эти гибельные риски, преодоление которых является средством их превращения в возможности развития и нахождения императива и целевых установок дальнейшего существования цивилизации. С пониманием того, что только человек нравственный — гарант существования и развития будущего человечества.
Как писал Л. Толстой, «вся жизнь человечества, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности деятельностями — и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеет другой цели, как больше и больше уяснение, утверждение и общедоступность нравственной истины». Об этом же говорил русский философ В. Соловьев: «Самостоятельный и безусловный закон для человека как такового один — нравственный и необходимость одна — нравственность».
И если мир хочет сохраниться и развиваться дальше, то должен быть найден достойный императив этого развития, которое не должно зависеть от нерешенных проблем и вызовов отдельных стран и политических лидеров, не учитывающих естественное и политическое многообразие мира. Должны быть сформированы такие регламенты взаимодействия и императивы развития, где гуманизм и нравственность стали бы подлинными принципами развития личности человека, сбережение всех культур и народов и бесценной человеческой жизни на Земле.
Как показывает практика, общие цели для человечества сегодня должны пониматься не только как задачи удовлетворения первых материальных жизненных потребностей человека в той или иной стране, но при всей важности этого вопроса необходимо учитывать сложившиеся глобальные проблемы и риски взаимосвязанного мира. Осознание новых подходов к прогнозированию будущего в условиях обострения духовно-нравственной культуры сегодня связано с пониманием статуса «общего блага» и «самоценности человеческой жизни». Именно это есть основа идентичности для всех, желающих сохранить человеческую цивилизацию.
Если принять как аксиому, что нравственность есть безусловный и необходимый закон для человечества, и если поверить в неотвратимость нового нравственного порядка, то тогда возникает вопрос, как будет осуществляться переход от информационно-технологического этапа развития человечества к культурно-нравственной необходимости изменения правил сосуществования. К сожалению, в современном мире нравственный ресурс человечества не используется в полной мере, а выработка стратегических основ развития цивилизации, что есть на сегодняшний день главная задача для человечества, исследуется лишь фрагментарно. Именно потому сегодня во весь рост стоит задача осмысления таких системообразующих предельно общих понятий, как «бытие», «человек», «смысл жизни», «самоценность человеческой жизни», «безопасность», «ответственность».
Содержательный анализ этих ключевых категорий человеческой цивилизации должен наполнить принимаемые решения, связанные с гуманитарной безопасностью и императивом развития будущего развития, скоординировать грандиозные противоречия глобальных систем и повернуть многомерный мир к единству и развитию.
Человек и развитие его потенциала, смысл и самоценность его жизни, гуманитарная и социальная безопасность человечества сегодня должны определяться не только особенностями существующих культур и народов, но и внутренней потребностью самих людей, самого человека, с пониманием того, что нравственные ценности — это особый инструмент формирования и устойчивого развития всего человечества, а «духовная, гуманистическая самоидентификация» — самый существенный фактор развития человечества.
Осознание места человека в мире и «человеколюбие», заложенное в историческом и культурном прошлом человечества, сегодня должны быть восприняты и развиты в сторону понимания хрупкости мира и приоритетности духовно-нравственного развития как главного условия обретения устойчивости человеческой цивилизации. И в этом — наша мера ответственности за человеческую цивилизацию, за формирование «смыслового порядка» системного понимания Мира, человека и жизни как главных понятий безопасности человечества.
Закон или моральные нормы? | Правозащитный центр «Мемориал»
С удивлением обнаружил в публичном пространстве в связи с блокировкой Телеграма позицию, утверждающую, что-то в духе «закон суров, но это закон», «нарушая законы, правовое государство не построишь», а то и что «нарушение закона ведет к разрушению правового государства». Практическое резюме этих сентенций — отказ обходить блокировки.
Разумеется, каждый волен обходить или не обходить блокировки, но приведенные аргументы, конечно, являются совершенно ложными. Понятно, когда их использует казенная пропаганда, но когда их приводит сторонник правового демократического государства, это очень странно.
Мало того, что никакой закон на самом деле не запрещает гражданам пользоваться заблокированными ресурсами и обходить блокировки (даже и чтение запрещенных экстремистскимх материалов не нарушает закона).
Но, даже и будь это запрещено, у граждан, конечно, нет никакого морального долга соблюдать идиотские запреты.
Понятно, что в любом, даже самом правовом и демократическом обществе каждый человек сам принимает решение о том, соблюдать ли ему закон. Общество посредством государства требует соблюдения каких-то норм, а человек решает, соблюдать ли их или подвергнуться риску наказания за неисполнение.
Но в демократическом обществе есть механизмы согласования воли и интересов граждан на разных уровнях, власть, пусть и с неизбежными оговорками, формируется обществом и зависит от него. Поэтому установленные общие правила предполагают максимизацию общественной пользы, а требование их соблюдения подкрепляется не только угрозой наказания, но и моралью.
В ситуации же диктатуры (подобной нашей) говорить об абстрактной моральности соблюдения закона не приходится. Понятно, что есть общеловеческие моральные нормы, которые зафиксированы и в российских законах (не убий, не укради и т.п.), но «не нарушь предписания Роскомнадзора» — в число этих норм, конечно, не входит.
Никакой моральной оправданности в добровольном соблюдении правил, которые в своих корыстных целях установили захватившие власть жулики и воры, нет. Есть лишь рациональная оценка личных рисков, связанных с нарушением этих правил. И, конечно же, соблюдение законов и правил, установленных жуликами и ворами, не приближает установление правового государства, а наоборот, закрепляет и продлевает ситуацию его отсутствия. Так что моральная оправданность в общем случае, скорее, за нарушением установленных не нами и не в наших интересах правил.
Чем ценности молодых отличаются от ценностей старших поколений
Российская молодежь из Москвы и Санкт-Петербурга сохраняет общее ценностное ядро со старшими поколениями, имеющими опыт жизни при СССР, но в остальном молодые россияне больше ценят то, что не слишком востребовано у старших поколений и что сейчас получить не так-то просто: возможность реализовать себя, достойный заработок и свободу высказываний, следует из работы «Динамика ценностных ориентаций современной молодежи» Института социологии РАН.
Ядро терминальных ценностей (те, что относятся к смыслу жизни) у молодежи (18–29 лет) и старших поколений (30+) общее, совпадают и главные ценности – это семья и хорошие дети, отмечает автор исследования Марина Яковлева. Но дальше они расходятся: у молодежи на 2-м месте в 2016 г. самореализация (около 50%), на третьем – хороший заработок, чтобы достойно жить (около 42%). У старших поколений на 2-м месте хорошие заработки (38%), на третьем – уверенность в завтрашнем дне (около 38%). Разрыв поколений наглядно демонстрирует, например, разное отношение к мнению окружающих: для молодежи его значение уменьшается (в 2008 г. оно было значимо для 30,1% опрошенных, в 2016 г. – для 19,4%), для старших – увеличивается (в 2008 г. – 26%, в 2016 г. – 32,6%).
Ценность моральных ориентиров – «жить по правде, совести», «стремление к Богу» – у молодежи в целом падает, отмечает Яковлева. Для молодежи в 1,5 раза важнее, чем для старшего поколения, свобода в высказываниях и действиях (авторы маркировали ее в вопросе как «полную, неограниченную»). В целом, полагает Яковлева, ответы молодых свидетельствуют «о достаточно прагматическом отношении к жизни». Так, в рейтинге того, что важно для достижения успеха в современной России, у молодежи в 2008 и 2016 гг. устойчиво лидируют «связи» и «деньги», но снижается значение «трудолюбия», «таланта», «честности и принципиальности». У старших поколений также падает значимость этических представлений о путях достижения успеха, только в меньшем масштабе (надежд, видимо, меньше, чем у молодежи). Авторы объясняют это «нецивилизованным характером» социально-трудовых отношений, но проблема, очевидно, глубже: неработающие социальные лифты, напряжение в социуме, отсутствие значимых перемен, поступательного движения вперед. Остановившееся время – это действительно примета социального самочувствия не только молодежи, но и всех россиян, отмечает руководитель Центра молодежных исследований ВШЭ Елена Омельченко. Неудивительно, что желающих эмигрировать из России в развитые страны становится больше. Без колебаний и навсегда, будь там работа и жилье, в 2008 г. уехало бы 14,6% молодежи, в 2016 г. – 30,8%. Реально уезжает меньше, отмечает Яковлева, но делают это наиболее активные и способные.
Мораль как источник права: оговорка Мартенса и автономные системы вооружений
Taranis UAV. QuinetQ Group
Мораль развивается, право меняется. Так происходит прогрессивное развитие морали. Однако характер связи между этими процессами вызывает споры и недостаточно изучен. И если мы не хотим, чтобы люди, которые должны соблюдать нормы права, считали их «устаревшими» или «неприменимыми», надо признать, что развитие права может отставать от развития морали и право надо иногда изменять, если мораль его опередила.
Это должны иметь в виду и те, кто устанавливает правовые нормы, и те, кто ими руководствуется. Оговорка Мартенса, включенная в несколько важнейших договоров международного гуманитарного права (МГП), может быть в этом отношении очень полезной. Сегодня многие обеспокоены тем, что в условиях быстрого развития новых военных технологий, в том числе роботизированных и автономных систем вооружений, МГП может оказаться неспособно эффективно их регулировать. В связи с этим, сегодня было бы очень полезно обсудить оговорку Мартенса и соотношение морали и права в целом.
***
Эта статья — одна из мини-серии по теме «Автономные системы вооружений». Оригинал статьи опубликован в блоге Humanitarian Law and Policy.
Оговорка Мартенса
Впервые оговорка Мартенса была изложена в преамбуле к Гаагской Конвенции II 1899 г. и Гаагской Конвенции IV 1907 г. Разные ее варианты вошли в ряд принятых впоследствии важнейших международных договоров по праву вооруженных конфликтов, в том числе в Женевские конвенции 1949 г. (ЖК) (ст. 63 ЖК I, ст. 62 ЖК II, ст. 142 ЖК III, ст. 158 ЖК IV) и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. (ст. 1 ДП I; преамбула ДП II). В разных вариантах она сформулирована не совсем одинаково. Я буду использовать тот вариант, который содержится в Дополнительном протоколе I 1977 г.:
В случаях, не предусмотренных настоящим Протоколом или другими международными соглашениями, гражданские лица и комбатанты остаются под защитой и действием принципов международного права, проистекающих из установившихся обычаев, принципов гуманности и требований общественного сознания.
Различные трактовки
Смысл и значение оговорки Мартенса неизбежно вызывают разногласия. Грубо говоря, все трактовки можно разделить на три категории.
Сильные государства обычно предпочитают «узкую» трактовку оговорки, которая делает ее малозначительной или даже бесполезной. В этом случае государства, подписавшие договоры, в которых есть эта оговорка, обязаны просто соблюдать обычное международное право.
«Широкая» трактовка, которую часто предпочитают правозащитные организации и которую защищают некоторые другие комментаторы, утверждает, что сама оговорка может быть источником права. То есть на основании указанных в оговорке источников — «установившихся обычаев», «принципов гуманности» и «требований общественного сознания» — можно утверждать, что какие-либо средства и методы ведения войны запрещены МГП, даже если они не упоминаются конкретно ни в одном договоре. Очевидно, что именно такой трактовки придерживается правозащитная организация «Хьюман Райтс Вотч», которая в своем влиятельном докладе «Мы теряем гуманность» (Losing Humanity, на англ. яз.), утверждает, что оговорка Мартенса может быть использована как довод за запрещение автономных систем вооружений.
Есть и третья, «умеренная» трактовка, которую выдвигают некоторые авторитетные специалисты. В соответствии с ней оговорка Мартенса может помочь в истолковании существующих договоров или использоваться в поддержку их конкретных интерпретаций, но не может служить доводом в пользу конкретных запретов.
Не смею надеяться, что здесь мне удастся решить вопрос о том, какая интерпретация оговорки Мартенса правильна. Тем более, что я не юрист и не историк МГП, а философ. Я могу только поделиться некоторыми наблюдениями о том, какую роль могут играть ссылки на «требования общественного сознания» и в меньшей степени на «принципы гуманности» в рамках более общей дискуссии и ведущихся сейчас споров о моральной и правовой стороне использования автономных систем вооружений.
Определение требований общественного сознания
Согласно узкой трактовке оговорки Мартенса, требования общественного сознания содержатся в обычном международном праве, и нет никакой необходимости искать их где-то еще. Но тут возникает противоречие: из оговорки вполне очевидно следует, что требования общественного сознания сами представляют собой один из источников такого права.
В соответствии с широкой и, возможно, с умеренной трактовками, требования общественного сознания являются независимым источником международного права. Если мы хотим принять одну из двух последних трактовок, то совершенно необходимо разобраться в том, каковы эти требования. И именно трудность этой задачи рассматривалась многими как решающий довод против широкой интерпретации оговорки Мартенса.
Опрос общественного мнения
Один из способов определить, что такое требования общественного сознания, — это провести опрос общественного мнения. Недавно ряд организаций и частных лиц проводили такие опросы, чтобы узнать, что думают люди о применении автономных систем вооружений. При этом они иногда открыто говорили, что результаты опроса имеют значение для дискуссий о законности этих систем в свете оговорки Мартенса. Эти опросы показали, что большинство респондентов глубоко обеспокоены перспективой применения автономных систем вооружений.
…у нас пока нет надежной методики, которая бы позволила выяснить, что думает большинство землян по какой бы то ни было теме.
Однако такой подход грешит рядом недостатков. Самое главное, постольку поскольку нас интересует мнение большинства, опрашивать надо весь мир. Но у нас пока нет надежной методики, которая бы позволила выяснить, что думает большинство землян по какой бы то ни было теме. Предположим, мы всё же как-то сумели опросить действительно представительную выборку населения планеты. Но и тогда мы никуда не денемся от одной серьезной проблемы: на результаты таких опросов, как известно, влияет эффект воздействия рамок восприятия. То есть ответы обычно зависят от точной формулировки вопроса. Далее, представляется маловероятным чтобы достаточное число людей достаточно хорошо разбиралось в природе автономных систем вооружений и в том, каким может быть их применение (пока что, в основном, гипотетическое), чтобы результаты такого опроса можно было принимать всерьез при установлении правовой нормы. Наконец, общественное мнение по таким вопросам порой меняется, иногда радикально, что может сделать смысл выражения «принципы международного права» неопределенным на каждый конкретный момент времени.
Мнение экспертов
Еще один способ попытаться узнать, каковы требования общественного сознания — познакомиться с тем, что думают на этот счет судьи, пользующиеся большим уважением, общественные деятели и ученые. Такой подход, конечно, больше устраивает юристов, которые склонны к консерватизму, и у них для этого есть (более или менее) основательные причины. В то же время, если мы согласимся принять мнение «авторитетных лиц», у нас возникнут примерно те же проблемы, что и с опросами общественного мнения. В частности, люди, имеющие серьезные основания претендовать на необходимые экспертные знания в области применения новых видов оружия, в большинстве своем — граждане сильных стран, которые эти виды оружия разрабатывают. Кроме того, такие эксперты нередко бывают связаны в силу своей профессиональной деятельности или по политическим причинам с военными. И то, и другое заставляет усомниться в объективности заключений, которые они делают, если рассматривать их как группу.
Общественные дискуссии
Предположу, что существует способ преодоления различий между этими методиками, который позволяет получить более ясное представление о требованиях общественного сознания. Теоретики «совещательной демократии» говорят о серьезном потенциале общественной дискуссии в открытом обществе. С ее помощью можно прийти к выводам, имеющим нормативную силу. Их главная идея такова: необходимость аргументировать свои выводы (а без этого не убедишь других), может заставить участников общественной дискуссии не руководствоваться узко личными интересами, а заботиться об общем благе. Чем больше людей с разными взглядами будет участвовать в общественной дискуссии, тем больше мы можем быть уверены, что сделанные в ходе дискуссии выводы основаны на разумных соображениях, а не представляют собой сумму идей, продиктованных фракционными интересами.
…мы можем провести различие между понятиями «сознание общественности» и «общественное сознание».
Соответственно, мы можем провести различие между понятиями «сознание общественности» и «общественное сознание». И различие это очень существенное: первое — просто сумма мнений, тогда как второе представляет собой выводы, сделанные в процессе дискуссии. Такие дискуссии проходят на различных площадках, в том числе в юридических и академических кругах. Именно потому, что в этом случае основное внимание уделяется результатам обсуждения, а не просто суммируются интересы, мы считаем, что мнению экспертов следует часто придавать особое значение. Однако признав, что обсуждение должно включать в себя различные точки зрения и что укоренившиеся материальные интересы могут искажать процессы общественной дискуссии, мы понимаем, почему нужно относиться к мнениям «авторитетных лиц» с осторожностью и проверять их и (или) вместо этого проводить обсуждения с участием более широкой общественности.
Поэтому я считаю, что мы должны понимать под требованиями общественного сознания выводы открытого, учитывающего все мнения процесса обсуждения, проводимого среди как можно более широкой общественности на разных уровнях.
Принципы гуманности
Для меня как философа очень заманчиво трактовать отсылки к «принципам гуманности» подобным же образом. То есть понимать эти принципы, как восходящие к общим нравственным принципам, раскрываемым посредством коллективной реализации способности мыслить, которая является отличительной чертой человека. При этом важно признавать, что выражение «принципы гуманности» имеет особое значение в контексте МГП, где оно связано с идеей о том, что методы и средства ведения военных действий, доступные воюющим сторонам, не являются неограниченными.
…принципы гуманности требуют, чтобы применение силы регулировалось принципами, содержащимися в доктрине jus in bello, основанной на теории справедливой войны…
Грубо говоря, принципы гуманности требуют, чтобы применение силы регулировалось принципами, содержащимися в доктрине jus in bello, основанной на теории справедливой войны, а именно, принципами проведения различия, соразмерности и неприменения жестоких средств ведения войны. В то же время ссылки на «принципы гуманности» и (или) «гуманитарные принципы» также часто встречаются в дискуссиях о нравственных и правовых основах МГП. Более того, ограничения, налагаемые на воюющие стороны самими принципами jus in bello, убедительны с нормативно-правовой точки зрения в той степени, в какой они отражают выводы, сделанные в ходе исторического процесса обсуждения и нравственного осмысления того, каковы моральные обязательства людей друг перед другом даже в военное время.
Дальнейшие шаги
Понимание требований общественного сознания, достигнутое в ходе дискуссий, и принципов гуманности потенциально может сделать содержание обоих выражений более определенным и объяснить, почему они на самом деле могут служить особым источником международного права. Собственно, это довод в пользу «широкой» трактовки оговорки Мартенса. В той мере, в какой можно продемонстрировать, что требования общественного сознания и принципы гуманности несовместимы с применением автономных систем вооружений, широкая интерпретация оговорки Мартенса может сделать такое применение незаконным согласно существующему МГП.
Тем не менее, в этой работе я не пытался показать, что требования общественного сознания — или принципы гуманности — исключают разработку и применение автономных систем вооружений. В других своих работах я доказывал, что развертывание таких систем представляет серьезный риск для международного мира и безопасности, поскольку оно создает угрозу случайного начала войны, и поскольку их применение нарушало бы права человека, которыми обладают комбатанты. Однако доводы, приводимые одним человеком, могут внести лишь незначительный вклад в процесс обсуждений, если мы хотим, чтобы такой процесс раскрыл суть требований общественного сознания и охватил множество различных точек зрения людей по всему миру. Но я все же надеюсь, что мне удалось показать, почему перед лицом возможности применения автономных систем вооружений этот проект можно считать жизненно важным.
***
Роберт Спэрроу — преподаватель философии, главный эксперт Центра передового опыта по изучению электроматериалов Австралийского совета по научно-исследовательским работам и внештатный преподаватель Центра биоэтики университета Монаша, где он работает над этическими проблемами, возникающими в связи новыми технологиями. Роберт Спэрроу опубликовал множество работ на такие темы, как этика военной робототехники, теория справедливой войны, расширение возможностей человека и нанотехнологии. Он является сопредседателем Технического комитета по этике робототехники Института инженеров электротехники и электроники. Также он был одним из основателей Международного комитета по контролю над роботизированным оружием.
***
Благодарности
Спасибо Саше Радин, Франку Зауэру, Хитер Рофф и еще двум рецензентам, не пожелавшим раскрывать свои имена, за вклад в мои размышления о вышеназванных вопросах.
***
Дополнительные материалы:
Carpenter, Charli. 2013. How do Americans feel about fully autonomous weapons? Duck of Minerva, 10 June.
Evans, Tyler D. 2012. At war with the robots: Autonomous weapon systems and the Martens clause. Hofstra Law Review 41: 697-733.
Horowitz, Michael C. 2016. Public opinion and the politics of the killer robots debate. Research & Politics 3(1): 2053168015627183.
IPSOS 2017. Three in ten Americans support using autonomous weapons. 7 February 2017.
Meron, Theodor. 2000. The Martens clause, Principles of humanity, and dictates of public conscience. American Journal of International Law 94(1): 78-89.
Open Roboethics Initiative. 2015. The ethics and governance of lethal autonomous weapons systems: An international public opinion poll. 9 November, Vancouver, Canada.
Sparrow, Robert. 2016. Robots and respect: Assessing the case against autonomous weapon systems. Ethics and International Affairs 30(1): 93-116.
Sparrow, Robert. 2009. Predators or plowshares? Arms control of robotic weapons. IEEE Technology and Society 28(1): 25-29.
Ticehurst, Rupert. 1997. The Martens clause and the laws of armed conflict. International Committee of the Red Cross, 317. 125-134.
Развитие нравственности. Прогресс морали и этики
Что такое прогресс нравственности?
Многие люди считают, что в отличие от технического прогресса «прогресса нравственности» не существует. Более того, зачастую можно услышать, что в «добрые старые времена» люди были «чище и добрее». Ответ на вопрос о наличии или отсутствии прогресса нравственности зависит от определения понятия нравственность. Если под нравственностью понимать повседневное жесткое следование всем без исключения библейским заповедям либо нормам шариата, то, несомненно, ни о каком прогрессе говорить не приходится. Если же под нравственностью понимать сознательный отказ человека от насилия, терпимость к другим людям, гуманное отношение людей друг к другу, то прогресс имеет место. Кроме того, в понятие прогресса нравственности входит расширение свободы человека, что в ряде случаев может вступать в противоречие с традиционными моральными нормами (например, свобода совести противоречит как ряду христианских библейских заповедей, так и установкам других религий).
Как показывают исследования, в течение человеческой истории уровень насилия (доля людей, умерших насильственной смертью) сокращался. Специфической особенностью человека (в отличие от животных) является то, что рост плотности населения сопровождался снижением уровня насилия. В животном мире увеличение плотности популяции, как правило, приводит к усилению внутривидовой конкуренции, росту агрессивности животных по отношению друг к другу и соответствующему увеличению смертности. В человеческом обществе именно прогресс нравственности позволяет достичь противоположных результатов, несмотря на стремительный рост убойной силы оружия.
Насилие в первобытном обществе
Наибольший уровень насилия отмечается в первобытном обществе. Согласно исследованию авторитетного этнографа, профессора Кембриджского университета Д.Даймонда (Jared Diamond), наблюдавшего жизнь первобытных племен многие годы, «в обществах с племенным укладом… большинство людей умирают не своей смертью, а в результате преднамеренных убийств». Исследователь австралийских аборигенов Д.Блэйни (Geoffrey Blainey) оценивал уровень насильственной смертности среди них в 2% от общей численности в год (это примерно соответствует смертности в СССР в период Великой отечественной войны). Имеется любопытный факт из жизни общества Новой Гвинеи: при опросе гвинейских туземок выяснилось, что большинство опрошенных женщин не живет со своим первым мужем, т.к. их мужья были убиты в то или иное время.
Те ученые, которые высоко оценивают качества первобытных людей (например Mark Cohen), также признают, что даже в мирных племенах «обычное количество убийств на душу населения удивительно велико». Как отмечает П.Кластр (Pierre Clastres), «война является неотъемлемой частью первобытного общества…, а не результатом невозможности договориться». По его данным, «стратегия первобытного общества построена на максимизации насилия с целью отъема ресурсов и минимизации добровольного обмена».
В примитивных обществах повсеместно распространен инфантицид (убийство нежеланных младенцев), причем это воспринимается как норма, а не как отклонение от нее. В большинстве первобытных племен практикуется людоедство. «Читая изредка в газетах про опустившуюся алкоголичку, угробившую собственного младенца, про маньяка-людоеда или про действия агрессивной толпы, мы видим в таких фактах симптомы предельной человеческой деградации. Нашему современнику, не изучавшему специально этнографию и историю бытовых отношений, трудно представить себе, что эпизодические ныне случаи детоубийства, людоедства и прочих проявлений животной жестокости нормативны для иных культурно-исторических эпох», пишет академик РАЕН А.Назаретян. Африканские вожди, продавая соплеменников европейским работорговцам, были уверены, что отдают их на съедение, и недоумевали, узнав, что белые людей не едят: «зачем вам рабы, если вы их не едите?». В государстве ацтеков самые изысканные блюда для высшей знати готовились исключительно из человеческого мяса.
В диких первобытных племенах первая реакция на появление незнакомца — бегство или убийство. Там, как правило, не принято «знакомиться». Как пишет Александр Никонов в книге «Апгрейд обезьяны»:
Дикарей-паинек никогда не было, а если и случались такие на историческое мгновение, их моментально стирали с лица планеты более агрессивные соседи. Сегодня исследователи и многочисленные киногруппы снимают фильмы про те дикие племена, куда их пускают, то есть в племена, чуть-чуть попривыкшие к белым людям. Племена присмиревшие, убедившиеся в инструментальном могуществе и полезности белого человека, которого трудно безнаказанно убить, но у которого зато можно клянчить железные ножи и стеклянные бусы… Даже пигмеи, которые ныне всеми умилительно описываются как добродушные обитатели гевеи (африканского леса), когда-то убивали первых английских экспедиционеров пачками при помощи своих отравленных стрел.
В то же время, все это вовсе не свидетельствует о примитивности регулирования общественной жизни первобытных людей. Общества с племенным укладом подчинены сложной системе традиций и табу, разобраться в которой бывает непросто даже после многолетних наблюдений и исследований. Просто первобытный уровень общественных отношений не требует гуманистической нравственности. Для выживания стаи (в окружении таких же стай) гуманизм не нужен, он необходим для успешного функционирования более крупных обществ.
Нравственность в историческую эпоху
Для раннеисторической эпохи характерно снижение уровня насилия внутри общества. Образовались государства, «большие общества». Незнакомец перестал восприниматься как враг.
В то же время, сохранялся высокий уровень насилия во время военных действий (а войны шли практически непрерывно) и внутренних конфликтов. Количество убитых врагов было мерилом успеха; сохранились хвастливые надписи правителей, где с садистскими подробностями рассказывается сколько «врагов» (преимущественно мирных жителей) было убито и обращено в рабство, сколько городов разрушено и сожжено. Геноцид был распространенным явлением (например, после падения Ассирии ассирийский народ был почти полностью уничтожен всего за несколько лет). При взятии города нередко все его население предавалось смерти или обращалось в рабство (один из примеров — зафиксированное в Библии уничтожение жителей Ханаана еврейскими племенами под руководством Иисуса Навина).
Радикально снизить уровень насилия позволил «нравственный переворот Осевого времени» (этот термин был введен Карлом Ясперсом).
Примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры на огромном пространстве от Европы до Китая появились новые этические доктрины. Тогда были созданы крупнейшие религиозные и философские учения, на которых сегодня стоит многомиллионный мир буддизма и индуизма; была заложена античная традиция, являющаяся фундаментом современной философии; появился иранский дуализм, который оказал огромное воздействие на всю средневековую мысль, в частности через манихейство; возникли классические китайские доктрины — конфуцианство, даосизм и другие. Тогда же проповедовали библейские ветхозаветные пророки.
В результате, как пишет академик РАЕН А.Назаретян:
…авторитарное мифологическое мышление впервые стало вытесняться мышлением критическим, оформились общие представления о добре и зле, о личности как суверенном носителе морального выбора, сформировалась высшая инстанция индивидуального самоконтроля — совесть как альтернатива безраздельно доминировавшей прежде богобоязни.
Изменились цели и методы ведения войны: количество жертв перестало служить мерилом боевого мастерства и предметом похвальбы, примитивное насилие и террор частично уступили место политическим и административным методам… Мерилом военного успеха и доблестью стало считаться достижение предметной цели, а не количество жертв… Складывалась традиция «опеки» царей-победителей над местными богами и жрецами и деклараций о «сожалении» по поводу пролитой крови. В 539 году до н.э. персидский царь Кир из династии Ахеменидов, захватив Вавилон, обнародовал манифест, в котором сообщалось, что он пришел освободить вавилонян и их богов от их плохого царя Набонида. Гениальное изобретение хитроумного перса скоро приобрело популярность… Во врагах впервые увидели людей, «таких же, как мы». Трагедия Эсхила «Персы» стала первым произведением мировой литературы, где война описывается глазами противников.
Главным результатом нравственного переворота стало то, что изменились нормы применения насилия. Если раньше отказ от насилия мог диктоваться лишь страхом наказания или сиюминутной выгодой, то теперь он основывался на постоянно действующих всеобщих принципах и внутреннем самоконтроле — совести.
Общества с развитыми нравственными системами обладали преимуществом в борьбе за выживание, т.к. позволяли снизить уровень насилия внутри себя и направить энергию людей на более конструктивные задачи. Согласно одной из гипотез, переворот Осевого времени был вызван переходом от бронзового века к железному (см. ниже).
По мнению некоторых ученых, американские индейцы к моменту открытия Америки европейцами почти подошли к «своему Осевому времени». Однако индейцы еще не успели вступить в эту эпоху и их жестокость поражала даже конкистадоров.
Дальнейшее развитие нравственности связано с возникновением и распространением христианства и ислама. Если философские доктрины Осевого времени изначально обращались к разуму, а не к эмоциям, то великие религии дали сильную эмоциональную окраску моральным установкам.
По мнению ряда исследователей, это привело к росту фанатизма, но зато способствовало распространению новых моральных ценностей в необразованных широких слоях общества. Результаты оказались неоднозначными: уровень насилия в обществе снизился, но возросла интенсивность конфликтов на религиозной основе. А.Назаретян в книге «Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории» пишет об этом так:
Фанатизм и неограниченная жестокость к иноверцам в раннем Средневековье отражает регресс нравственных ценностей в учениях Христа и Магомета по сравнению с великими моралистами Ближнего Востока, Греции, Индии и Китая в апогее Осевого времени. Разрушение храмов («языческих капищ»), избиение камнями статуй, нападения агрессивной толпы на философов — все это не случайно приняло массовый характер в раннехристианскую эпоху [Гаев Г.И., 1986]. Греки называли христиан словом «атеой» (безбожник) не только потому, что те игнорировали Пантеон, но и потому, что происходила реанимация первобытных схем мышления и поведения. «Военный фанатизм христианских и исламских завоеваний, вероятно, не имел прецедентов со времени образования вождеств и особенно государств» [Diamond J., 1999]. Соответственно, и обеспеченное новыми религиями феодальное общество «характеризовалось кардинальным отступлением почти от всех элементов развитого римского общества к более архаичным формам» [Парсонс Т., 1997, с.55].
Но, признавая снижение уровня нравственного сознания в христианском и исламском вероучениях, я всегда отмечал [Назаретян А.П., 1994, 1996] и повторю здесь существенный момент. Переход от рациональных к сугубо эмоциональным аргументам, апелляция к примитивным чувствам страха и ожидания награды лишили идею морали исключительной элитарности, сделав ее доступной, хотя и в ущербном виде, массам рабов и варваров, выступивших на историческую сцену, но неспособных представить себе мир без конкретного Хозяина или Отца. Таким образом, спад первой волны Осевого времени способствовал растеканию ее вширь — распространению профанированных достижений гуманитарной мысли и расширению масштаба социальной идентификации: племенное размежевание уступало место Христову «мечу», разделившему людей по конфессиональному признаку.
Еще одним великим нравственным завоеванием христианства и ислама стало религиозное обоснование концепции равенства всех людей. Равенства не в гражданском понимании, но равенства перед Богом. Это позволило в будущем придти и к идее равенства прав и недопустимости рабства и иных форм зависимости (впрочем, аналогичные идеи высказывались и в Древнем Риме, но не получили широкого распространения).
С наступлением эры Современного общества с его всеобщим образованием мораль, апеллирующая к разуму, снова получает все большее распространение. Такая мораль более эффективна: как показывает статистика, в большинстве стран наиболее образованные слои общества в среднем менее религиозны, но, несмотря на это, меньше склонны к совершению преступлений и других насильственных действий. (Данный факт не означает, что секуляризация всегда приводит к уменьшению криминала: снижение религиозности в малообразованных слоях общества дает противоположные результаты). В настоящее время даже религиозные идеологи подчеркивают рациональный характер религиозных установок. В прежние эпохи подобная аргументация не имела важного значения: основанием нравственных норм считалось исключительно божественное откровение, а не прагматические преимущества.
Нравственность в последние столетия
В последние столетия уровень насилия постепенно снижается и лишь рост убойной силы оружия и улучшение технологии уничтожения не позволил сделать это снижение обвально быстрым.
То, что еще несколько поколений назад считалось нормальным и допустимым, сегодня воспринимается крайне негативно. К примеру, пытки вплоть до XIX века были официально признанным методом допроса в большинстве стран, но сейчас это совершенно морально неприемлемо. Публичные казни ныне воспринимаются как варварство, хотя еще в начале XIX века они были распространены по всей Европе.
Вплоть до XX века большие и малые геноциды случались регулярно, но только в XX веке мир начал ужасаться по этому поводу (достаточно посмотреть по историческим картам, как изменялось расселение народов: мориски, берберы, армяне и множество других народов резко сократили область своего расселения или даже прекратили существование).
Характерный пример — геноцид армян, осуществлявшийся в Османской империи. События 1915г. — лишь один из наиболее крупных и известных эпизодов. Имеются свидетельства о резне, которая проводилась то в одной, то в другой области, на протяжении всего XIX века. О масштабах уничтожения армян в предшествующие столетия можно судить по тому, что ареал их расселения когда-то доходил до Средиземного моря. Однако все это не воспринималось современниками как нечто необычное. Подобные методы ассимиляции и уничтожения покоренных народов были широко распространены, а растянутость этих процессов во времени объясняется чисто техническим причинами — потому что у тогдашних правителей не было, к примеру, газовых камер. Сегодня мы помним о геноциде армян только потому, что турки продолжали делать это в XX веке — когда представления о допустимости уничтожения людей уже изменились.
Примеры геноцидов можно множить и множить. Во времена Средневековья крестоносцы в ходе Альбигойских войн вырезали большую часть населения Южной Франции. Более крупные по масштабам геноциды осуществлялись на Ближнем Востоке и в средневековом Китае.
Само понятие гуманизма и идея гуманного отношения к человеку зародились лишь в эпоху Просвещения, а общепризнанными эти понятия стали только в XIX веке (и только в странах европейской культуры).
Мы воспринимаем XX век, как время чудовищных мировых войн и кровожадных тоталитарных режимов. Но в действительности в XX веке погибло не больше людей, чем в XIX или XVIII, и меньше, чем в предшествующие столетия. Оценки количества жертв насилия приводятся в книге «Цивилизационные кризисы…»:
По нашим подсчетам, во всех международных и гражданских войнах ХХ века погибло от 100 до 120 млн. человек (ср. [Мироненко Н.С., 2002]). Эти чудовищные числа, включающие и косвенные жертвы войн, составляют около 1% живших на планете людей (не менее 10,5 млрд. в трех поколениях). Приблизительно такое же соотношение имело место в XIX веке (около 35 млн. жертв на 3 млрд. населения) и, по-видимому, в XVIII веке, но в XVI — XVII веках процент жертв был выше.
Трудности исследования связаны с противоречивостью данных и с отсутствием согласованных методик расчета (ср. [Wright Q., 1942], [Урланис Б.Ц., 1994]). Но и самые осторожные оценки обнаруживают парадоксальное обстоятельство. С прогрессирующим ростом убойной силы оружия и плотности проживания людей процент военных жертв от общей численности населения на протяжении тысячелетий не возрастал. Судя по всему, он даже медленно и неустойчиво сокращался, колеблясь между 4% и 1% за столетие. [Еще] более выражена данная тенденция при сравнении жертв бытового насилия. …
В 1919 году была образована первая в истории международная организация, принципиально не направленная против третьих сил (Лига Наций), и в ее документах отчетливо зафиксировано, что война — это не нормальная деятельность государства, не продолжение политики, а катастрофа [Рапопорт А., 1993]. Хотя Лига Наций не смогла воспрепятствовать началу новой мировой войны, мысль о необходимости ликвидировать войну как форму политического бытия [впервые] становилась достоянием массового сознания.
К антивоенным настроениям вынуждены были адаптироваться самые воинственные идеологии, спекулировавшие лозунгами «последнего решительного боя» ради дальнейшего вечного мира. Для этого требовалось установить всемирную диктатуру пролетариата, власть высшей расы или истинной веры.
Здесь также прослеживаются аналогии с предыдущими эпохами: мировые религии насаждались огнем и мечом под аккомпанемент проповедей о грядущем Царстве Божием. Но симптоматично изменение риторики. Реанимация квазирелигиозных мотивов в XX веке обосновывалась не столько мистической, сколько социальной прагматикой. Ссылки на Божье вознаграждение-наказание, Страшный Суд и проч. остались уделом полубезумных сектантов, а политически продуктивная демагогия строилась на доказательстве практических достоинств навязываемой идеологии. Люди станут жить мирно и счастливо, ликвидировав эксплуататорские классы. Несовершенные нации заживут спокойнее, покорившись всесокрушающей воле и разуму арийцев. Правильной, справедливой и безопасной сделает жизнь народов утверждение исламских ценностей. …
Более или менее изощренная мимикрия под гуманизм характерна даже для таких идеологий XX века, которые по содержанию были с ним абсолютно несовместны.
В конце ХХ века трудно было представить себе правительство, которое бы официально поощряло уничтожение инородцев без суда и следствия. Сотней лет ранее в странах Америки не только отравляли пруды «в видах изведения дикарей», но и публиковали таксы премий за скальпы индейцев: мужского, женского и детского. [Энгельгардт М.А., 1899-б, с.159 – 160] …
В 1918 году группа большевиков расстреляла царскую семью, предотвратив ее захват наступавшей Белой армией. Расстреляли подло, «исподтишка», тщательно замели следы, и затем их единомышленники всячески избегали упоминать про неудобную тему. А тремя столетиями ранее, в 1614 году, на московской площади повесили четырехлетнего мальчика — сына Марины Мнишек и Лжедмитрия [Соловьев С.М., 1963], — и стрельцы сгоняли народ к месту казни, чтобы никто не болтал потом, будто ребенок выжил. …
Вот как Л.Н.Толстой описывает в «Воскресении» историю Масловой-старшей, матери Катюши: «Незамужняя женщина эта рожала каждый год и, как это обычно делается по деревням (курсив мой — А.Н.), ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося, не нужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода». А уже в начале XX века В.В.Вересаев … записал поразительную народную поговорку: «Дай, господи, скотину с приплодцем, а деток с приморцем».
Значительно снизился уровень семейного насилия. Возросшие требования и критерии вытеснили из памяти хорошо известное обстоятельство: телесные наказания дома, а затем и в школе служили основным воспитательным средством на протяжении столетий. «Сбережешь розги — испортишь дитя», — учили в XIX веке английские педагоги… Только в середине ХХ века сформировался «помогающий» стиль обучения и воспитания детей, а прежде стержень воспитательных процедур составляли избиение и бесконечные формы запугивания. С некоторыми вариациями это подтверждают и другие исследователи [Кон И.С., 1998].
Таким образом, в массе своей семейные отношения сделались значительно мягче и «цивилизованнее», но наших современников, в том числе совсем юных, шокирует и психологически травмирует многое из того, что прежними поколениями воспринималось как должное…
В Лондоне до сих пор сохраняется законодательный запрет на избиение жен мужьями после 9 часов вечера, чтобы дамские вопли не нарушали общественное спокойствие.
По баварскому закону (подтвержденному уже в единой Германии Мюнхенским судом в 1875г.) мужу принадлежало право телесного наказания жены. Аналогичные законы существовали в XIX веке в ряде американских штатов.
По словам историка Марии Корогодиной, «Если читателей XIX века, настроенных на славянофильство, «Домострой» умилял как образец благолепия и идеал православной семьи, где добродетельная жена ведет домашнее хозяйство, то читателей XX века, склонных бороться за «ущемленные права» средневековых женщин, «Домострой» возмущал, [т.к. в нем] ослушливую и нерадивую жену мужу рекомендовалось побить.» Исследователи русского крестьянского быта единодушно отмечают, что избиение жен мужьями было повсеместно распространено (известна, к примеру, русская поговорка: «недосол на столе — пересол на спине»).
В настоящее время в США и мире идет кампания против незаконного содержания в Гуантанамо членов движения Талибан. Американское правительство виновато оправдывается и отпускает часть из них (после чего отпущенные талибы снова занимаются террористической деятельностью). Но всего лишь 65 лет назад, в 1941г. американские власти отправили всех этнических японцев, проживающих в стране, (включая американских граждан, женщин и детей) в специальные лагеря, где их продержали до конца войны. И это ни у кого не вызвало чувства протеста и особого сочувствия к «врагам».
В последние годы Америку сотрясают скандалы, связанные со случаями давления на свободную прессу либо отказами публиковать альтернативные точки зрения. Следует отметить, что подобные случаи в истории американской прессы происходили постоянно, просто раньше это не вызывало столь сильного возмущения. Учитывая, что американская пресса была объективно наиболее свободной в мире на протяжении десятилетий, можно составить представление о реальном положении дел со свободой слова во всем мире еще несколько десятков лет назад.
Впервые в истории правители осознанно отказались от применения многих видов оружия, причем наиболее мощного и эффективного с военной точки зрения. Например, руководители гитлеровской Германии не решились применить химическое оружие даже перед лицом собственной гибели; ядерное, химическое, бактериологическое оружие почти не применяется в течение десятилетий. Впервые в истории разработчики занялись созданием «нелетального оружия». Как пишет Александр Никонов в книге «Апгрейд обезьяны»:
[Еще] в середине XX века во время войны бомбежками стирали целые города с мирными жителями. Это считалось нормальным: война! Американцы в семидесятые годы [во Вьетнаме] спокойно применяли ковровые бомбардировки…, тысячами убивая мирных граждан. Сейчас подобное представить себе невозможно. Даже после такой обиды, которая была нанесена Америке 11 сентября… В современной войне на головы мирных граждан сыплются уже не бомбы, а гуманитарные грузы (чтобы враг не оголодал), практикуются точечные удары исключительно по военным объектам. Никто не ставит себе цели намеренно убивать гражданских. А если такое и происходит случайно, стороны выражают сожаление. Прошло всего тридцать лет…
Мировое сообщество начало вмешиваться в тех случаях, которые раньше считались «внутренним делом» государств. Например, Сербии не дали выселить албанцев из Косово. Судан заставили прекратить уничтожение немусульманского населения юга страны. Индонезию принудили прекратить геноцид жителей Восточного Тимора. Американцы вынуждены были пойти на потерю базы в Узбекистане, подвергнув Ислама Каримова критике за расстрел митинга, организованного исламистами. В настоящее время уже невозможно безнаказанное повторение чего-либо подобного событиям в иракском Курдистане 1988г., когда С.Хусейн применил химическое оружие против гражданского населения (погибли десятки тысяч человек). Понятно, что новый механизм работает далеко не всегда (например, не было предотвращено преследование сербов в том же Косово, провалилась операция в Сомали, не был вовремя остановлен геноцид в Руанде), но тенденция налицо.
Согласно докладу о безопасности человечества «Война и мир в XXI столетии», опубликованном в 2005г. под эгидой ООН, уровень «военной смертности» во всевозможных конфликтах с 1950-х годов неуклонно снижается (если считать как долю от численности населения).
За прогрессом нравственности следует и политический прогресс. Если в 1975 году в мире было лишь 40 «свободных» государств (в соответствии с рейтингом Freedom House), в которых проживало 25% населения, то в 2005г. — 89 стран с 46% мирового населения. С 1986 года число демократий, где власть меняется с помощью выборов, увеличилось вдвое — с 66 до 122 государств.
Все эти примеры свидетельствуют о нарастающей гуманизации, особенно за последние 40 лет. Как пишет А.Назаретян, XX век «был первый в истории век осуществленного гуманизма». Именно поэтому преступления фашистов и сталинского режима воспринимаются нами с таким ужасом; аналогичные преступления в предыдущие эпохи оценивались современниками по другим критериям и поэтому не столь запомнились.
Гуманизация и сокращение принуждения и насилия естественным следствием имеют рост свободы человека и сокращения числа моральных правил, регламентирующих его поведение. Мы все ближе подходим к реальному воплощению принципа «разрешено все, что не ущемляет интересы других».
Причины того, что «раньше было лучше»
Если все так хорошо, то почему же мы наблюдаем повсеместные разговоры о «падении нравов», «распространении насилия», «наступлении на свободу слова», «нашем жестоком веке» и т.п.?
Следует отметить, что жалобы на «моральное разложение» были во все времена, что уже само по себе делает данный тезис сомнительным. Одна из причин этого заключается в балансе восприятия действительности и ожиданий. Как известно, степень удовлетворенности человека зависит не от реальных условий его жизни, а от того, соответствуют ли эти условия его ожиданиям. Аналогичная ситуация с оценкой состояния общества.
Из книги «Цивилизационные кризисы…»:
По В.О.Ключевскому, в процессе петровских реформ погиб каждый пятый житель России. Но это не помешало потомкам ставить памятники великому царю, а специальные исследования показали, что в середине 90-х годов XX века для массового сознания россиян это был самый авторитетный из исторических персонажей. Если считать корректно (не абсолютные числа, а проценты), то правление Сталина уступает по трагическим последствиям, но Сталин в наших глазах — тиран и убийца. Нечто подобное мы обнаруживаем при сравнении многих политических преступников XX века с героями прежних эпох.
Все это свидетельствует о том, что, отвергая тезис о прогрессе в человеческих отношениях, большинство наших современников интуитивно пользуется различными критериями для оценки событий недавнего и отдаленного прошлого. А собственная эпоха видится нам необычайно жестокой прежде всего потому, что не отвечает опережающему росту ожиданий.
Уже почти сотню лет по учебникам психологии кочует формула Дж.Джемса, по которой удовлетворенность равняется дроби, где в числителе успех, а в знаменателе — притязания; т.е. чем выше притязания, тем меньше удовлетворяют реальные успехи.
Т.е. сейчас «плохо» не потому, что стало реально хуже, а потому что наши притязания и моральные нормы выросли.
Еще одна причина «падения нравов» состоит в том, что происходит ослабление семейных, клановых, общинных и других коллективных связей (что воспринимается многими людьми как снижение взаимовыручки, рост эгоизма, подрыв семейных устоев и т.п.). Этому способствуют два объективных обстоятельства.
Во-первых, раньше семья (или община) были скреплены экономически: в условиях натурального и полунатурального хозяйства человек трудился непосредственно в семье, а не в посторонней организации как сейчас. Причем от эффективности работы семейной или общинной экономической ячейки зависела жизнь человека: голод случался не так уж редко, поэтому «неэффективные ячейки» попросту вымирали. Таким образом, высокая сплоченность родственников была жизненно необходима. (См. раздел «Семья»)
В то же время, преодоление ряда черт патриархальных семейных традиций позволило резко снизить уровень бытового насилия. Человек стал свободнее от диктата главы семьи, лидеров общины, клана и иных форм коллективного контроля — зачастую насильственного и далеко не всегда благотворного. Подобный диктат и высокая сплоченность родственников — две стороны одной медали.
Во-вторых, улучшение условий жизни снизило потребность во взаимопомощи. Например, 200 лет назад отказать в помощи родственникам или соседям нередко означало обречь их на полуголодное существование (а иногда и на голодную смерть). Сейчас отказ в помощи может иметь даже позитивный результат, заставляя человека действовать более энергично и отказываться от иждивенческой психологии.
Снижение «альтруистического накала» по отношению к «ближним» позволило распространить альтруистические установки на «дальних».
Многие исследователи (например, Ф.Фукуяма в книге «Доверие») отмечают, что чем крепче связи внутри малого коллектива тем, как правило, хуже отношение к «чужакам», другим членам большого общества. (Одно из объяснений этого состоит в том, что если человек много дает членам малого коллектива, то он подсознательно считает, что «чужак» может потребовать для себя того же). В результате, как ни странно, социальное обеспечение и прочие общественные проявления гуманизма лучше всего развиты в индивидуалистических обществах (например, в странах европейской традиции доля социальных расходов выше, чем в коллективистских конфуцианских обществах, в т.ч. богатых). В наиболее коллективистских обществах отмечается и самая высокая степень нетерпимости к тем, «кто не такие как все».
Из книги «Цивилизационные кризисы…»:
Значит ли, что по мере исторического развития люди все более ориентировались на нормы альтруизма? Вопрос наивный на фоне расхожих рассуждений о потере человека в джунглях городской культуры. Тем не менее, к нему регулярно возвращаются философы, психологи, экономисты и специалисты по теории систем.
Наши собственные этнографические наблюдения и исторические сопоставления позволяют выделить, по меньшей мере, три параметра, из которых складывается альтруистическая ориентация: интенсивность, объем и стабильность.
Вероятно, интенсивность альтруистической установки в долгосрочной ретроспективе снижается [при росте параметров объема и стабильности]. Еще Юлий Цезарь заметил, что дикари в массе своей храбрее цивилизованных легионеров, поскольку не так ценят индивидуальную жизнь и легче жертвуют ею ради коллектива; носители традиционной культуры охотнее жертвуют личными интересами, дабы угодить сородичу или тому, кто квалифицируется как «свой», проявляя более выраженную агрессивность ко всему «чужому».
Вместе с тем исторически увеличиваются объем альтруистической идентификации — величина и разнородность группы, к представителям которой личность способна проявлять сочувствие, — а также стабильность — показатель гарантированной готовности воздержаться от сиюминутных желаний в интересах общества… Вектор духовного роста на протяжении тысячелетий определялся [одновременно] последовательным расширением и размыванием границ групповой солидарности.
Иными словами, Современный человек в меньшей степени готов жертвовать собой ради благополучия родственников или соседей, но с гораздо большей готовностью платит налоги на социальную помощь людям, которых он никогда не видел. Как пишет известный российский социолог Анатолий Вишневский, научная теория «жестко противостоит мифологическим объяснениям подобных изменений «падением нравов», «высоким уровнем аномии», «низким уровнем солидарности» и т.п. Просто появляются другие нравственные нормы и другие формы солидарности.»
Общества, состоящие из небольших сплоченных коллективов (например родственных кланов), платят за подобную сплоченность низким уровнем доверия вне коллектива. А залог процветания общества, как показали многие исследования, состоит именно в высоком уровне доверия в большом обществе. Уровень доверия в «большом» российском обществе гораздо ниже, чем в развитых странах и оценивается нами негативно, однако он гораздо выше, чем в обществах, построенных по клановому принципу, которые платят за это нищетой большинства населения и отсутствием развития.
Прошлые эпохи были временем страдания: гораздо больше было физической боли, мук голода и т.п. За последние столетия срок жизни значительно увеличился, молодость длится намного дольше; благодаря достижениям медицины и фармакологии гораздо меньше стало физической боли. (Кроме того, любопытные факты о росте жизненного уровня в процессе индустриализации можно найти в исследовании «Как Запад стал богатым»). Но означает ли это, что люди стали счастливее или более удовлетворенными нынешним положением дел?
В книге Ф.Арьеса [1992] показано, сколь отлично отношение к смерти и к боли средневековых европейцев по сравнению с нашими современниками. Смерть воспринималась добрым христианином как перспектива перехода в лучший мир, а физические мучения — как очищение от совершенных грехов; это придавало боли совсем иную эмоциональную окраску. Тем более радостной была гибель в священной войне (а войны часто объявлялись таковыми). И боль человеческих потерь не так горька, ибо расставание временно. И зависть к богачам, и злоба к обидчикам не так сильно гложут, ибо на том свете всем воздастся по справедливости. Самой страшной бедой и наказанием считалось то, о чем теперь многие пожилые люди молят Бога: мгновенная смерть без физических и душевных страданий, без покаяния и причастия.
Таким образом, мы не вспоминаем о прошлой эпохе как об «эпохе страданий» лишь потому, что страдания воспринимались тогда по-другому. Однако это не означает, что их тогда было меньше: наоборот, страданий было на порядок больше.
Еще одной причиной идеализации прошлого является чисто психологическая потребность найти альтернативу «нынешнему несправедливому положению», поверить в существование некоего идела, который обычно ищут в прошлом. Жалобы на падение нравов, рост жестокости, несправедливости и т.п. прослеживаются на протяжении всей человеческой истории — в том числе и в самые благоприятные периоды. Вплоть до XVIII века господствующей теорией развития общества было представление о постепенной деградации человечества от «совершенной античности» через упадочное настоящее к «дикарскому состоянию» в будущем.
Объективная основа тезиса о росте жестокости имеется в том, что развитие технологий позволило сделать бесчеловечные действия более эффективными. Во времена средневековых завоеваний ассимиляция и уничтожение покоренных народов проходили достаточно долго не в силу высокой нравственности и сдержанности завоевателей, а лишь потому, что в их распоряжении не было современных технологий уничтожения (крупные концлагеря, к примеру, в Средние века были невозможны по тем же причинам, по которым было невозможно организовать массовое индустриальное производство).
Причины прогресса нравственности
Существует несколько гипотез объясняющих прогресс нравственности.
1) В терпимых обществах энергия людей направлена на сотрудничество, а не на борьбу между собой. Поэтому более нравственные общества экономически более эффективны, располагают большими ресурсами, а значит преимуществом в естественном отборе. В результате относительно терпимые общества распространялись на всё большие территории, т.е. прогресс нравственности поощрялся естественным отбором.
2) Технический прогресс позволил удовлетворить основные нужды человека. Очевидно, что на фоне перспективы голодной смерти человек с большей легкостью переступает через нравственные ограничители.
Экономист Бенджамин Фридман опубликовал книгу «Моральные последствия экономического роста» (The Moral Consequences of Economic Growth, изд-во Knoph, 2005г.), в которой он на обширном фактическом материале доказывает, что экономическое процветание отнюдь не приводит к моральному и этическому упадку. В книге показано, что именно экономический рост и увеличение богатства населения было причиной того, что в обществах воцарялись терпимость, общественная активность, крепло стремление к демократии и снижался уровень насилия.
3) Гипотеза техно-гуманитарного баланса. С техническим прогрессом росла убойная сила оружия, что приводило к резкому увеличению жертв насильственных действий (например, прогресс в военном деле и экономике позволил европейцам вести в XX веке войны чудовищной интенсивности). Это приводило либо к разрушению и деградации общества, либо к выработке новых нравственных ограничителей, позволяющих снизить количество жертв насилия.
К примеру, нравственный переворот Осевого времени (см. «Нравственность в историческую эпоху»), согласно этой гипотезе, объясняется следующим образом:
Осевому времени предшествовало вытеснение дорогостоящего, тяжелого (подвластного лишь физически очень сильному мужчине) и хрупкого бронзового оружия стальным, более дешевым, легким и прочным, что позволило заменить профессиональные армии своего рода народными ополчениями. В результате войны сделались чрезвычайно кровопролитными, а это при сохранении прежних ценностей и норм грозило крахом наиболее развитых обществ. Таким образом, духовная революция Осевого времени стала ответом культуры на опасный разрыв между новообретенной технологической мощью и качеством выработанных предыдущим историческим опытом механизмов сдерживания. (А.Назаретян)
Векторы изменения морали
Можно выделить несколько общих векторов эволюции моральных норм, обусловленных объективными причинами.
Усложнение общества приводит к тому, что человек участвует в деятельности все большего числа социальных подгрупп, в каждой из которых действуют свои нормы поведения. На работе действуют одни правила, в кругу друзей — другие, в ночном клубе — третьи, в семье — четвертые и т.д. Например, флирт, естественный в ночном клубе, порицается на рабочем месте. Иными словами, мораль становится более дифференцированной, сложной, зависимой от конкретных обстоятельств.
Как известно из теории систем, рост разнообразия на верхних этажах системы возможен только при ограничении разнообразия на нижних этажах. Такое ограничение разнообразия называют стандартизацией. Дифференциация правил поведения в сложном обществе требует стандартизации основных норм морали всех его членов. Иными словами, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом, они должны придерживаться сходных взглядов на базовые правила поведения. В былые времена взаимодействие между разными общественными группами было ограничено и подчинено правилам сословного деления. С уничтожением сословных перегородок и интенсификацией взаимодействия роль этих правил играют базовые моральные нормы. Примером такого стандартного базового правила в Современном обществе может служить запрет на насилие в ответ на оскорбление; в ином случае оказалось бы невозможным взаимодействие между разными общественными группами, т.к. представления об оскорблении у всех разные (ранее такой проблемы не возникало, т.к. общество было более простым, однородным и имелся консенсус касательно того, что считать оскорблением, а что — нет).
Составной частью этого процесса является то, что становится все меньше людей, взаимодействие с которыми строится на отдельных (не всеобщих) моральных принципах. В том числе сокращаются масштабы дискриминации: к «нормальным людям» (к которым применимы «наши» нормы морали) уже относят людей другой национальности, расы, веры, сексуальной ориентации и т.д. С другой стороны, выравнивается и отношение к «ближним», например, отношения родителей и взрослых детей все больше напоминают отношения добрых знакомых.
Еще один вектор — изменение норм морали в результате технологического и экономического прогресса. Например, раньше еда была дефицитом, отсюда смертный грех — чревоугодие. Сейчас эта моральная норма перестала иметь столь важное значение. Как пишет Александр Никонов:
уважительное отношение к пище — следствие ее дефицитности. Сегодня же люди развращены пищевым изобилием. Не только хлеб — дешевый и не очень ценный в питательном отношении продукт, но и мясо легко выбрасывают! Запросто не доедают, оставляя пищу на тарелке. Легко люди стали относиться к пище: она не дефицит. Также как воздух или вода. Никто же о воздухе не задумывается. И потому никакого пиетета в его отношении.
Аналогично, секс постепенно перестает регулироваться моральными нормами. В традиционном обществе родители планировали браки детей, т.к. от экономической эффективности семьи зависело выживание ее членов. Добрачная любовь и тем более секс в эту систему не вписывались и морально осуждались. Не было и эффективных методов профилактики венерических заболеваний и средств контрацепции. Поэтому свободный секс (также как и свободное потребление запасов дефицитной пищи) приводил к негативным последствиям. В настоящее время моральное регулирование секса потеряло какое-либо рациональное значение (в Современном обществе супружеская измена осуждается не за факт секса, например свингерство изменой не является, а за нарушение нормы «не лги»).
Гуманизация общества сопровождается увеличением свободы в нормах морали (например, в сексуальных отношениях). И наоборот, ужесточение моральных норм часто сопровождается ростом жестокости внутри общества (симптоматично, что Сталин и Гитлер запрещали аборты и усложняли разводы). Многие люди воспринимают рост свободы как «падение нравов», но при этом не хотят видеть снижение жестокости (либо смотрят на жестокость с позитивной стороны, считая, к примеру, поговорку «недосол на столе — пересол на спине» вполне приемлемой).
Общим местом являются сетования по поводу роста эгоизма и уменьшения чувства долга. В действительности чувство долга не уменьшается, но приобретает иные формы, направленные, например, на упорную учебу, усилия по образованию детей и т.д.
Из книги «Апгрейд обезьяны»:
В современной урбанистической цивилизации мораль размывается. Если раньше, скажем, добрачная связь однозначно каралась перемазыванием ворот дегтем, то сейчас… Пятьдесят пять процентов современных жителей больших городов не считают добрачный секс аморальным. Тридцать пять процентов все еще полагают, что добрачный секс аморален. Десять процентов не знают ответа на этот вопрос. То есть в первом приближении можно сказать, что добрачный секс стал вполне моральным занятием — по сравнению с прошлым веком мораль поменялась на противоположную.
Мораль… никогда не падает и не рушится, она просто меняется. Или растворяется — то есть то, что раньше являлось предметом морального регулирования, теперь к вопросам морали перестает иметь отношение. Например, в викторианской Англии рояльные ножки закрывали маленькими юбочками, ибо вид голых ног (любых) считался аморальным, а теперь ни вид, ни форма рояльных ножек не подпадают под моральное регулирование и являются предметом регулирования мебельщика.
Тенденции демократизации, упрощения общественных нравов прослеживаются довольно отчетливо. Завтра станет еще меньше необоснованных запретов и строгих правил поведения. Станет еще больше неформально ведущих себя политиков вплоть до уровня глав государств, и размывание национальных государств только ускорит этот процесс деформализации политики. Все эти ставшие модными среди политиков встречи без галстуков — только начало отказа от протокольной шелухи, первый шаг в направлении от внешнего упрощения к внутреннему усложнению.
Общество дифференцируется, дифференцируется и мораль, она распространяется уже не на весь социум, а на социальные группы. Мы живем в мире множественности моральных нормативов.
Возникают корпоративные этики, правила поведения в своей профессиональной, социальной среде или просто в дружеской компании. Процесс, что называется, пошел. И в пределе эта моральная дифференцированность может дробиться до минимальной неделимой части социума — человека. И тогда у каждого окажется своя мораль. То есть морали в современном понимании (как единых нормативов «для всех») просто не будет. Что же останется в качестве канала поведенческой регулировки? Здравый смысл + знания + эмпатия (сочувствие) врожденная или приобретенная = нравственность.
Иными словами, морально все, что не наносит непосредственного ущерба другим людям.
О религиозном обосновании моральных норм
Многие моральные нормы регламентированы религией, поэтому некоторые люди считают, что меняться эти нормы не должны. В действительности даже религиозные нормы относительны, поскольку к одним «грехам» религиозное общество относится терпимо, а к другим — нет. Например, многие религии запрещают добрачный/внебрачный секс для мужчин и женщин в равной степени, но реально этот запрет распространяется на женщин гораздо сильнее, т.к. он имеет более рациональное обоснование в традиционном обществе. Те религиозные нормы, отмена которых не затрагивает чьих-либо интересов тихо умирают. Примерами могут служить христианский грех чревоугодия, многие библейские запреты (пример из «Второзакония»: «на женщине не должно быть мужской одежды», т.е. брюк; «не надевай одежды, сделанной из льна и шерсти вместе») или исламский запрет на изображения людей и животных. Конфликты же порождаются противоречием интересов, например, освобождение женщин приводит к уменьшению власти отца и мужа, что многим не нравится.
Многие полагают, что отход от религиозной морали грозит потерей моральных ориентиров вообще. В результате получается, к примеру, сталинский или нацистский террор. Однако более внимательный анализ показывает, что величайшие преступления XX столетия — лишь бледная тень того, что происходило в прежние более религиозные времена, в частности, в процессе религиозных войн, охоты на ведьм и т.п. Например, во время Тридцатилетней войны (ведшейся, во многом, под религиозными лозунгами) погибло, по разным оценкам, от одной пятой до двух третей населения Германии.
Религиозное обоснование нравственности страдает отсутствием каких-либо доказательств того, что Бог по данным вопросам имеет именно такое мнение, а не иное. Единственное доказательство — ссылка на священные книги, но, к сожалению, буквальное прочтение текстов священных книг не соответствует ни современным научным знаниям (см. раздел «Научный взгляд на мир»), ни общепринятым понятиям о нравственности (Бог в этих книгах бывает чересчур мелочен и жесток). Если же мы вступаем на зыбкий путь опосредованных толкований и двойных смыслов, то и нравственные нормы могут толковаться по-разному.
Кроме того, разные религии имеют разные представления о нравственности и невозможно доказать, что какая-то одна религия наиболее «правильная». Даже близкие религии, такие как христианство и ислам, имеют разные мнения по ряду вопросов морали (например, по вопросу наказания/мести), не говоря уже о прочих религиях.
Тем не менее, мы можем попытаться сделать рационально обоснованные выводы о божественных императивах нравственности (в том случае, если Бог существует). Поскольку совершенствование и развитие — это универсальное свойство мира, главный вектор изменений, происходящих во Вселенной, следовательно, это угодно Богу и, возможно, Им продуцируется (см. подраздел «Развитие как универсальное свойство Вселенной» в разделе «Развитие»). Многие религиозные люди считают, что акт творения не был единовременным действием и что Бог продолжает творить — а это и называется развитием. Таким образом, нравственно (т.е. угодно Богу) то, что способствует развитию и совершенствованию, а безнравственно — все, что ведет к разрушению и смерти. Например, убийство — зло, т.к. оно ведет к разрушению индивидуального организма и дезорганизации общества. Добровольная помощь другим людям — добро, т.к. у людей появляется больше возможностей для саморазвития, а общество, построенное на таких принципах, более совершенно и быстрее развивается.
Впрочем, даже и открытый отход от религии не приводит к разрушению нравственных норм. Об этом говорят данные об уровне преступности в разных странах, который не зависит от степени религиозности общества. К примеру, единственное государство мира, где атеисты составляют большинство, — Чехия — ничем не выделяется на фоне остальных стран. Во всяком случае количество убийств на душу населения в Чехии меньше, чем в высокорелигиозном Йемене или высокоморальной Малайзии (см. статистику убийств в некоторых странах + делим на численность населения). В США среди религиозных групп убежденные атеисты имеют один самых низких показателей преступности (что объясняется высоким уровнем образованности сознательных атеистов). С другой стороны, уровень преступности в высокорелигиозных нефтедобывающих арабских странах довольно низок. Но какой-либо общей закономерности не прослеживается.
В то же время, если отход от религии осуществляется насильственно (как это было в социалистических странах), то уровень нравственности может снижаться, т.к. государство не в состоянии насильственно насадить новые нравственные регуляторы взамен религиозных. Снижение религиозности среди необразованной части населения практически всегда ведет к росту криминала и насилия.
Этот раздел, во многом, основан на данных книги проф. А.Назаретяна «Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории».
Этический релятивизм — Центр прикладной этики Марккулы
Мануэль Веласкес, Клэр Андре, Томас Шанкс, С.Дж., и Майкл Дж. Мейер
Культуры сильно различаются по своим моральным устоям. Как показывает антрополог Рут Бенедикт в книге Patterns of Culture , разнообразие очевидно даже в тех вопросах морали, с которыми мы могли бы согласиться:
Можно предположить, что в вопросе лишения жизни все народы согласятся на осуждение. Напротив, в случае убийства может считаться, что человек убивает по обычаю своих двоих детей, или что муж имеет право на жизнь и смерть по отношению к своей жене, или что обязанность ребенка — убить своих родителей. пока они не состарились.Может случиться так, что убивают тех, кто крадет птицу, или тех, кто первым режет верхние зубы, или тех, кто родился в среду. У одних народов человек мучается из-за несчастного случая, у других это не имеет значения. Самоубийство также может быть легким делом, к которому прибегает любой, кто потерпел небольшой отпор, действие, которое постоянно происходит в племени. Это может быть самый высокий и благородный поступок, который может совершить мудрый человек. С другой стороны, сама история об этом может вызывать недоверчивое веселье, а сам акт невозможно представить себе как человеческую возможность.Или это может быть преступление, наказуемое по закону, или считающееся грехом против богов. (стр.45-46)
Другие антропологи указывают на ряд практик, которые считаются морально приемлемыми в некоторых обществах, но осуждаются в других, включая детоубийство, геноцид, полигамию, расизм, сексизм и пытки. Такие различия могут заставить нас задуматься, существуют ли какие-либо универсальные моральные принципы или мораль — это просто вопрос «культурного вкуса». Различия в моральных практиках между культурами поднимают важный вопрос этики — концепцию «этического релятивизма».«
Этический релятивизм — это теория, согласно которой мораль соотносится с нормами культуры. То есть, является ли действие правильным или неправильным, зависит от моральных норм общества, в котором оно практикуется. Одно и то же действие может быть морально правильным в одном обществе, но быть морально неправильным в другом. Для этического релятивиста не существует универсальных моральных стандартов — стандартов, которые можно было бы универсально применять ко всем людям в любое время. Единственные моральные стандарты, по которым можно судить о деятельности общества, являются его собственными.Если этический релятивизм верен, не может быть общей основы для разрешения моральных споров или для достижения согласия по этическим вопросам между членами различных обществ.
Большинство специалистов по этике отвергают теорию этического релятивизма. Некоторые утверждают, что, хотя моральные практики в обществах могут различаться, фундаментальные моральные принципы, лежащие в основе этих практик, не отличаются. Например, в некоторых обществах убийство родителей по достижении ими определенного возраста было обычной практикой, исходя из убеждения, что людям будет лучше в загробной жизни, если они войдут в нее, оставаясь физически активными и бодрыми.Хотя такая практика была бы осуждена в нашем обществе, мы согласились бы с этими обществами в отношении основного морального принципа — обязанности заботиться о родителях. Таким образом, общества могут по-разному применять фундаментальные моральные принципы, но соглашаться с ними.
Также утверждается, что некоторые моральные убеждения могут относиться к культуре, а другие — нет. Определенные обычаи, такие как обычаи в отношении одежды и приличия, могут зависеть от местных обычаев, тогда как другие практики, такие как рабство, пытки или политические репрессии, могут регулироваться универсальными моральными стандартами и считаться неправильными, несмотря на многие другие различия, существующие между культурами.То, что некоторые практики относительны, не означает, что все практики относительны.
Другие философы критикуют этический релятивизм из-за его последствий для индивидуальных моральных убеждений. Эти философы утверждают, что если правильность или неправильность действия зависит от норм общества, то из этого следует, что человек должен подчиняться нормам своего общества, а отклоняться от этих норм — значит действовать безнравственно. Это означает, что если я являюсь членом общества, которое считает, что расовые или сексистские практики морально допустимы, то я должен принять эти практики как нравственно правильные.Но такая точка зрения способствует социальному соответствию и не оставляет места для моральной реформы или улучшения в обществе. Более того, члены одного и того же общества могут придерживаться разных взглядов на практику. В Соединенных Штатах, например, существует множество моральных мнений по вопросам, начиная от экспериментов на животных и заканчивая абортами. Что представляет собой правильное действие при отсутствии общественного согласия?
Возможно, самый сильный аргумент против этического релятивизма исходит от тех, кто утверждает, что универсальные моральные стандарты могут существовать, даже если некоторые моральные практики и верования различаются в разных культурах.Другими словами, мы можем признать культурные различия в моральных практиках и убеждениях и по-прежнему считать, что некоторые из этих практик и убеждений являются неправильными с моральной точки зрения. Практика рабства в обществе США до Гражданской войны или практика апартеида в Южной Африке неправильны, несмотря на убеждения этих обществ. Обращение с евреями в нацистском обществе достойно морального осуждения независимо от моральных убеждений нацистского общества.
Для этих философов этика — это исследование правильного и неправильного посредством критического изучения причин, лежащих в основе практик и убеждений.Как теория, оправдывающая моральные практики и убеждения, этический релятивизм не признает, что у одних обществ есть более веские основания для того, чтобы придерживаться своих взглядов, чем у других.
Но даже если теория этического релятивизма отвергается, следует признать, что эта концепция поднимает важные вопросы. Этический релятивизм напоминает нам, что разные общества имеют разные моральные убеждения и что на наши убеждения глубоко влияет культура. Это также побуждает нас исследовать причины, лежащие в основе убеждений, которые отличаются от наших собственных, и побуждает нас исследовать причины, по которым мы придерживаемся убеждений и ценностей.
Общество нравственности
Общество нравственности Эрик Нигрен
6,868 Final Project
16 мая 1996 г.
Что такое мораль?
Если бы мы жили в мире, где наши действия не имели последствий, там не могло быть ничего плохого в том, что мы могли бы сделать. Однако это не тот случай. Мы социальные животные, и наши действия — то, что мы делаем, и то, что мы не делаем, имеет последствия для наших окружающей среды и других вокруг нас.В результате нам нужно быть в состоянии управлять нашим поведением в ближайшем будущем, чтобы не навредить мы или наше сообщество в долгосрочной перспективе. Эта система контроля наши действия и наши мысли для работы в сообществе — вот что мы часто называем мораль .
Что мы обычно приписываем морали? Вот несколько распространенных примеров:
Нельзя воровать вещи.
Старушкам нужно помочь перейти улицу.
Убивать или ранить людей — это неправильно.
Мы должны уделять время и деньги благотворительности.
Мы не должны лгать.
Глядя на этот список, мы видим, что есть две категории: вещи мы должны делать и то, что не должны делать. Присмотревшись, мы увидим что то, что мы должны делать, вдохновлено сочувствием и желанием помочь другие. То, что нам не следует делать, — это действия и мысли, которые мы цензурировать и подавлять.Я буду утверждать, что то, что мы называем моралью на самом деле это два отдельных, хотя иногда и взаимодействующих агентства. Эмпатический ответ Агентство вдохновляет нас действовать, чтобы помогать другим в то время как моральная сдержанность Агентство подвергает цензуре и подавляет «аморальные» действия и мысли, которые могут к ним привести. Вместе они составляют Общество моралиПочему есть два агентства? Хотя они иногда взаимодействуют, оба выполняют существенно разные функции.Моральная сдержанность агентству часто необходимо принять немедленные меры, чтобы удержать нас от каких-либо действий. мы пожалеем позже, или это будет иметь плачевные последствия. Практически в каждом случае он всегда действует как подавитель и цензор. Мы также, кажется, используем его, чтобы судить о том, других являются «плохими», но когда мы так поступаем, то, что мы видим, является влияние подавления на мысли других, совершающих «плохие» действия. С другой стороны, сочувствие всегда побуждает нас действовать.Когда мы видим других в нужде, у нас появляется желание помочь им и совершить «доброе дело».
Составные части Агентства моральной сдержанности
Агентство моральной сдержанности подвергает цензуре и пресекает действия и мысли «аморальные». Как устроено это агентство? Если мы посмотрим на разных людей, мы увидим, что у них очень много разная «мораль». Например:
Сара, четырехлетняя девочка, сделает все, что ей удастся.
Ричард, взрослый, не станет воровать, потому что это незаконно.
Мария, взрослая, не станет воровать, потому что Церковь говорит, что это неправильно.
Джо, взрослый, не ворует, потому что это не кажется право причинять боль другим людям.
Робин, взрослый, ворует у богатых и раздает бедным
, потому что бедным больше нужны деньги.
Роберт, взрослый и член странного культа, не видит
ничего плохого
с воровством, потому что ему внушили, что
все в коммунальной собственности.
У разных культур и сообществ разные моральные стандарты. Разные люди по-разному включают эти стандарты в свои убеждения и их действия. Например, маленькие дети делают все, что им может сойти с рук, в то время как взрослые часто черпают свою мораль из высший авторитет или построить свою собственную моральную систему, основанную на том, что им кажется правильным.Откуда берутся нравы людей и что конкретная мораль может меняться независимо. Например, если Мария верит во то, что Церковь говорит ей верить, она, вероятно, изменила бы свою точку зрения на проблему, если бы Церковь немного изменил свою доктрину (хотя изменение может не сразу бросаться в глаза в ее действиях).
Это дает нам некоторое представление о возможной структуре морального
сдерживающее агентство. Внизу у нас много убеждений и
желания. Кто-то может исходить от вышестоящих властей, кто-то, возможно, мы сделали
или рассуждали сами, а некоторые просто вещи, которые мы вынуждены делать.Выше находится управленческое агентство, которое организует нашу мораль и
убеждений и решает, что принимать, а что не принимать.
Результаты этого управленческого агентства затем используются для цензуры и
подавлять наши мысли и действия (см. рисунок 1).
Стадии нравственности Кольберга
Разные люди объединяют свои убеждения в мораль существенно разными способами. Как устроены наши убеждения (например, делаем ли мы все, что можем, или берем ли мы мораль от высшего авторитета) значительное влияние на то, что мы подавляем и во что верим правильно и неправильно.Хотя конкретные убеждения могут сильно различаются между людьми и между культурами, способ У нас убеждения гораздо менее изменчивы.
Психолог по имени Лоуренс Колберг изучал мораль, используя многие из те же методы, которые Пиаже использовал для изучения развития рассуждения здравого смысла. Кольберг представил испытуемым серию «моральные дилеммы» и проанализировали их реакцию. Не имело значения, какой участники выбрали решение, но каковы были их причины для его выбора.Из того, что он наблюдал, он разработал сценическую теорию морали с шесть этапов (кратко из [1]):
- Этап 1 — Ориентация на наказание и повиновение (превентивная)
На этой стадии правила поведения черпают свою силу из фигуры власти, которые их поддерживают. Основное внимание уделяется об избежании наказания. Правила рассматриваются как конкретные, запретительные, и не универсально. Также нет смысла в том, что правила необходимы для поддержания большего общественного порядка.
Этап 2 — Инструментальная релятивистская ориентация (доконвенциональная)
На этом этапе основное внимание уделяется удовлетворению желаний своего
себя и других, о которых заботятся. Очень практично и физически
взаимность также включена в систему морали (например, «око
за глаз »).
Этап 3 — Межличностное согласие (обычное)
На этом этапе правильность действий определяется намерениями.
Цель состоит в том, чтобы заручиться одобрением других, доставив им удовольствие и помогая им.
Этап 4 — Ориентация на закон и порядок (обычная практика)
Нравственность полностью определяется установленными правилами и законами.
по авторитету. Поддержание правопорядка важнее, чем
эгоистичные желания.
Этап 5 — Ориентация на социальный договор (постконвенциональный)
На этом этапе то, что правильно, определяется законами, принятыми сообществом.
была выбрана. Однако законы не определяют абсолютно ценности.
и принципы, и законы могут быть изменены в соответствии с установленными процедурами.
Этап 6 — Ориентация на универсальные этические принципы
(Постконвенциональный)
Мораль определяется на этом этапе этической системой, определенной
и выбран самим собой. Совесть — проводник
определения принципов, однако никто не вправе
выбирайте произвольную мораль. Этическая система
построенный должен быть универсальным и логичным
последовательный.
Кольберг обнаружил, что многие из тех же результатов, которые применимы к развитие здравого смысла также применимо к развитию морали.Кажется, что люди последовательно проходят стадии, на каждом этапе опираясь на вещи, изученные на предыдущих этапах. Более высокие ступени нельзя преподавать явно, их можно выучить только через время. Люди также показали неспособность полностью понимать этапы выше, чем их собственные. Также были некоторые отличия от этапы здравого смысла. Разные люди проходят этапы на разные ставки, и большинство людей никогда не достигают высшей ступени. В Фактически, третья и четвертая стадии являются наиболее распространенными среди взрослых (см. Фигура 2).Во многих экспериментах ни один объект не определены как находящиеся на шестой стадии.
Стадии, определенные Колбергом, не определяют явных нравов или правил. поведения. Скорее, они обеспечивают управленческий уровень для организации конкретные правила в единое целое. Без четкой организации мы были бы совершенно непоследовательны в своих моральных суждениях и имели бы проблемы с выводами.
Дискретные этапы, вероятно, видны здесь по многим из тех же причин. эти этапы наблюдаются и в других областях.Поскольку мы обнаруживаем, что организация нашей морали недостаточно для решения проблем, которые мы встречи, мы создаем новый уровень управления (см. раздел 10.9 Общество разума ). Когда этот слой будет готов и может выполнять все функции старого слоя, нового управления слой заменяет старый.
На ранних стадиях мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, которые моральные системы не в состоянии справиться с этим. Это побуждает нас двигаться до более высоких ступеней.Когда мы начинаем достигать более высоких ступеней, таких как четыре и в-пятых, становится все меньше и меньше ситуаций, когда наши моральные системы сталкиваются с проблемами. В результате не все достигают высшие ступени. В некотором смысле это аналогично развитию наших теорий о том, как вещи работают в физическом мире. Физические модели здравого смысла, которые есть у большинства людей, не имеют правильно охватить орбитальную механику просто потому, что мы не были ситуации, когда наши физические модели терпели неудачу, потому что этого не хватает.
С моралью мы родились?
Философы, религиозные деятели и политики выступали за столетия спустя, является ли мораль чем-то, с чем мы «рождены».От нашего С точки зрения зрения, вопрос становится несколько яснее. Более актуальный вопрос в том, является ли моральная сдержанность отдельным средством само по себе или использует ли он те же механизмы, что и для других вещей, таких как как обучение и использование здравого смысла.
В агентстве морального сдерживания кажется вероятным, что мы учимся набору правила о том, что правильно, а что неправильно. На раннем этапе правила могут быть связанных с тем, что заставляет нас быть наказанными, а что нет. Позже, это могут быть правила, переданные вышестоящей инстанцией.Нет никаких реальная причина того, что эти правила не могут быть изучены с помощью одного и того же механизмы, с помощью которых мы узнаем другие вещи. Нет настоящего различие между «вы должны остановиться на красном светофоре» и «не следует сунуть руку в тостер», хотя один — это «закон», а другой — нет.
Выше этого уровня правил агентство морального сдерживания имеет управленческую структура, которая решает, каким правилам следовать и как организовать нашу решения на их основе. Структура этого управляющего агентства развивается во многом так же, как и управленческие структуры для наших агентства здравого смысла.Поэтому разумно предположить, что они использовать одни и те же механизмы для своего развития. Кажется, есть Ключевое отличие, однако, в том, что вывод моральной сдержанности агентство почти полностью используется для подавления и цензуры. Один возможно, что хотя агентство морального сдерживания эволюционировало быть отдельным агентством, его механизмы обучения фактически регулируются отдельным сторонним агентством (например, B-brain), которое также используется для познание здравого смысла.
Очень важно, чтобы у социальных животных развивалась какая-то мораль.Сообщества быстро распадались бы без соблюдения правил или подавление действий. Развитие общественного порядка, и, следовательно, некоторая форма морали важна для выживания любого социального вида. В результате весьма вероятно, что некоторые своего рода механизм будет разработан для обеспечения развития системы, которая не позволяла людям всегда действовать в их личные интересы.
The Empathic Response Agency
Агентство эмпатического реагирования, обратная сторона Общества Мораль, кажется, полностью отделена от моральной сдержанности. агентство.Сама эмпатия, которая является ответом на эмоции другие, наблюдаются даже у очень маленьких детей. Связь между эмоции и выражения лица, вместе с жестко запрограммированными агентства по распознаванию мимики, создают впечатление сочувствия сам по себе — это то, с чем мы родились. Сама по себе эмпатия может быть очень агентство низкого уровня, которое тесно связано с другими аналогичными агентствами низкого уровня такие факторы, как гнев, страх и желание спать, есть и размножаться. Из нашего повседневного взаимодействия с людьми кажется, что у сочувствия есть сильно влияет на наши собственные эмоции.Гнев других часто проливается на нас, как и их страх и их горе.
Сочувствие имеет много преимуществ для выживания социальных животных. В способность боязни быстро распространяться позволяет стадам животных быстро реагируют на хищников. Способность чувствовать гнев позволяет нам и животным чтобы быстро оценить угрозу, исходящую от противника. Большинство из них не имеют прямого отношения к агентству эмпатического реагирования.
Однако реагирование на потребности ребенка или страдания товарищ полезен для выживания общества и вид, к которому принадлежит это общество.Это такой вещи, которая является частью эмпатического ответного агентства. Через него мы реагируем на очевидные потребности других и предпринять действия, чтобы попытаться выполнить их.
Хотя сочувствие само по себе почти определенно является врожденным, реакция на а может и не быть. Например, агентство эмпатического ответа может быть узнал как способ уменьшить желания, порожденные сочувствием. Если оно чувствует себя хорошо, помогая людям, мы помогаем людям, желающим чувствовать себя хорошо чаще. Получение одобрения окружающих, помогая людям, может быть дополнительное армирование.После того, как это будет изучено, мы можем помогать людям даже в тех случаях, когда мы не получаем от этого вознаграждения.
Агентства эмпатического ответа и морального сдерживания иногда взаимодействовать. Например, желание помочь кому-то может быть подавлено. какой-то моральной сдержанностью. С другой стороны, моральная сдержанность может быть поднял эмпатический ответ, особенно для кого-то из Колберга второй и третий этапы (например, кто-то может захотеть украсть лекарство, чтобы спасти жизнь друга.)
Заключение
Общество нравственности дает нам инструменты, необходимые для действий что не всегда отвечает нашим интересам. Моральная сдержанность агентство действует реактивно, пресекает и подвергает цензуре «аморальные» действия. или мысли. Агентство эмпатического реагирования активно и поощряет нам действовать, чтобы помочь другим. Когда мы растем и узнаем о вещах как и здравый смысл, наша мораль тоже развивается. Возможный результаты нашего нравственного развития приводят к фанатикам, законопослушным граждане, патриоты, дети, старающиеся угодить своим родителям, и даже Гитлеры и Ганди.
Список литературы
[1] Р. Браун и Р. Дж. Хернштейн. «Моральное мышление и поведение». Психология . Little, Brown, & Co., Бостон, Массачусетс. 1975 г.
[2] Х. Глейтман. Психология. W. W. Norton & Company, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 1991 г.
[3] М. Минский. Общество разума. Саймон и Шустер, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. 1986 г.
Эрик Нигрен ([email protected])
Люди меняют свои моральные ценности, чтобы приносить пользу себе по сравнению с другими — ScienceDaily
Согласно старой пословице, если кто-то говорит вам, что «дело не в деньгах, а в принципах», скорее всего, дело в деньгах.Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B , показывает, что люди быстро меняют свои моральные ценности в зависимости от того, какое правило означает больше денег для них, чем для других.
Исследование под названием «Справедливость или равенство? Моральные суждения следуют за деньгами» было проведено Питером ДеСциоли, доцентом кафедры политологии Университета Стоуни-Брук и заместителем директора Центра поведенческой политической экономии, и его коллегами.
«Предыдущее исследование подчеркивает, что личность, гены и воспитание людей являются основным источником моральных ценностей и разногласий по поводу морали», — сказал ДеСциоли.«Мы обнаружили, что люди также корректируют свои моральные ценности в зависимости от того, какой принцип приносит им наибольшую пользу. Наши моральные принципы более гибкие и корыстные, чем мы хотели бы признать».
В исследовании участники работали парами, чтобы расшифровать абзац для получения денежного вознаграждения. Один участник был машинисткой, которая расшифровывала три абзаца, а другой была контролером, которая расшифровывала один параграф, выбранный случайным образом из параграфов машинистки. Если транскрипции двух партнеров совпадали, то они вместе получали денежное вознаграждение.Крайне важно, чтобы машинистка решала, как разделить эти деньги за вознаграждение.
Машинистка может разделить деньги поровну, по 50% каждому, или в соответствии с работой, которую выполнил каждый человек, 75% машинистке, которая расшифровала три абзаца, и 25% контролеру, который расшифровал один абзац. Большинство машинисток в этой ситуации забирали большую долю пирога, что соответствовало их личным интересам.
Но не только выбор машинисток был корыстным. Участники также оценили мораль и справедливость каждого правила разделения: равенство (равные выплаты) или справедливость (выплаты пропорциональны труду).Эти моральные суждения тоже были корыстными. Участники, назначенные машинистками, считали, что равенство было более справедливым и нравственным, в то время как участники, назначенные в качестве шашек, считали равенство более справедливым и нравственным.
Более того, когда исследователи измеряли моральные ценности до и после распределения участников по ролям, люди были пойманы с поличным: их моральные ценности изменились за несколько минут в пользу правила, которое давало им большую долю денег.
ДеСциоли отмечает, что это открытие применимо ко многим ситуациям, в которых людям необходимо разделить ресурсы, такие как члены семьи, делящие имущество, деловые партнеры делят прибыль, граждане решают, как будут потрачены налоговые доллары, или страны, разделяющие территорию.
«Однако у нашего эгоизма есть некоторые пределы», — подчеркнул ДеСциоли. В последнем эксперименте исследователи устранили оправдание неравного разделения, попросив обоих партнеров записать один абзац. В этом сценарии большинство машинисток (78%) разделили награду поровну, а не получили большую долю. И машинистки больше не меняли свои моральные суждения в корыстном направлении.
Исследователи приходят к выводу, что «преследование личных интересов сдерживается, однако, ограничениями координации.Люди стремятся не только принести пользу себе, но и убедить других в своей моральной правоте ».
История Источник:
Материалы предоставлены Университетом Стоуни-Брук . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.
Разве не то, что правильно, только то, что решает большинство? Этика
«Разве то, что правильно, не то, что решает большинство?»
Вопросы такого типа часто отражают представления студентов об этике относительной .
Важно дать понять студентам, что, хотя этические взгляды, кажется, меняются в зависимости от времени и места, этика не является просто относительной.
Точка зрения, согласно которой ценности связаны с культурой, известна как культурный релятивизм . Культурный релятивизм — это описательный взгляд, он описывает, как отношение к ценностям различается в разных культурах.
Пропагандируя культурный релятивизм, студенты признают важность социальных факторов в определении убеждений о том, как обстоят дела должны быть, и мы также осознаем, как социальные факторы могут отличаться от место на место, и со временем.Эта точка зрения полезна для уважения верования культур, отличных от тех, с которыми мы знакомы.
Нормативный или этический релятивизм — это другая точка зрения, тот, кто держит то, что является ценным, хорошим или правильным, определяется обществом. Это не просто описание изменчивости представлений о ценности, но предлагая, как следует понимать ценности. Часто нормативный релятивисты предполагают, что этичное определяется большинством в обществе.Итак, студенты, которые думают, что этика — это то, что большинство считает себя нормативными релятивистами такого рода.
Хотя релятивизм — это распространенная точка зрения, которую разделяют студенты, прежде чем они размышлять об этических вопросах, есть всевозможные проблемы с точки зрения, особенно в нашем все более взаимосвязанном мире.
Три самые большие проблемы с наивными формами этического релятивизма:
1. Хотя мы часто очень привязаны к своей социальной и культурной жизни. перспективы, похоже, что мы не так застряли в наши собственные перспективы, которые мы никогда не увидим за их пределами.
2. Для того, чтобы релятивизм был истинным, должен быть ясный определение того, что или кто составляет общество, которое определяет право и неправильно. Но это редко бывает ясно. Что считается одним общество / культура? Всегда ли общественные взгляды представлены большинством? Они нужны?
3. Если релятивизм истинен, то несогласие меньшинства по этическим соображениям невозможно. Если мы считаем, что то, что большинство считает правильным, тогда нас приводят к убеждению, что мнение меньшинства обязательно ошибочно.Например, подумайте о последствиях, которые мог бы иметь такой взгляд на мораль. о сопротивлении Гитлеру, противодействию рабству или гражданскому Борьба за права в этой стране в 1960-е годы.
Дополнительное обсуждение морального релятивизма см .:
Стэнфордская энциклопедия, статья о моральном релятивизме
Для широкого философского обсуждения релятивизма перейдите по ссылке:
Статья о релятивизме в Стэнфордской энциклопедии
Этический релятивизм | философия | Британника
Полная статья
Этический релятивизм , доктрина, согласно которой в этике не существует абсолютных истин и что то, что является нравственно правильным или неправильным, варьируется от человека к человеку или от общества к обществу.
Аргументы в пользу этического релятивизма
Геродот, греческий историк V века до н.э., продвинул эту точку зрения, когда заметил, что в разных обществах существуют разные обычаи и что каждый человек считает, что обычаи своего собственного общества являются лучшими. Но, по словам Геродота, ни один набор социальных обычаев не может быть лучше или хуже любого другого. Некоторые современные социологи и антропологи сходным образом утверждали, что мораль, поскольку она является социальным продуктом, по-разному развивается в разных культурах.Каждое общество разрабатывает стандарты, которые используются людьми внутри него, чтобы отличать приемлемое от недопустимого поведения, и каждое суждение о правильном и неправильном предполагает тот или иной из этих стандартов. Таким образом, по мнению этих исследователей, если такие практики, как полигамия или детоубийство, считаются правильными в обществе, то они подходят «для этого общества»; и если одни и те же методы считаются неправильными в другом обществе, тогда эти практики неправильны для этого общества. Не существует такой вещи, как то, что «действительно» правильно, помимо этих социальных кодексов, поскольку не существует нейтрального в культурном отношении стандарта, к которому мы могли бы обратиться, чтобы определить, какое мнение общества является правильным.Существуют разные социальные коды.
Второй тип аргументов в пользу этического релятивизма принадлежит шотландскому философу Дэвиду Юму (1711–1776), который утверждал, что моральные убеждения основаны на «чувствах» или эмоциях, а не на разуме. Эта идея была развита школой логического позитивизма 20-го века и более поздними философами, такими как Чарльз Л. Стивенсон (1908–79) и Р.М. Хейр (1919–2002), который считал, что основная функция морального языка — не констатировать факты, а выражать чувства одобрения или неодобрения по отношению к одному действию или влиять на отношение и действия других.Согласно этой точке зрения, известной как эмотивизм, правильное и неправильное связаны с индивидуальными предпочтениями, а не с социальными стандартами.
Дэвид ХьюмДэвид Хьюм, картина маслом Аллана Рамзи, 1766 г .; в Шотландской национальной портретной галерее, Эдинбург.
Предоставлено Шотландской национальной портретной галереейЭтический релятивизм привлекателен для многих философов и социологов, потому что он, кажется, предлагает лучшее объяснение изменчивости моральных убеждений. Он также предлагает правдоподобный способ объяснить, как этика вписывается в мир, описанный современной наукой.Даже если естественный мир в конечном итоге состоит из ничего, кроме ценностно-нейтральных фактов, говорят релятивисты, этика все же имеет основу в человеческих чувствах и социальных установках. Наконец, этический релятивизм кажется особенно подходящим для объяснения достоинств терпимости. Если с объективной точки зрения собственные ценности и ценности общества не имеют особого статуса, то подход «живи и дай жить другим» по отношению к ценностям других людей кажется уместным.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчасНачиная с 1960-х и 1970-х годов этический релятивизм ассоциировался с постмодернизмом, сложным философским движением, ставившим под сомнение идею объективности во многих областях, включая этику. Многие постмодернисты считали саму идею объективности сомнительным изобретением эпохи модерна, то есть постпросвещения. Со времен Просвещения большинство философов и ученых считали, что существует объективная, универсальная и неизменная правда обо всем, включая науку, этику, религию и политику, и что человеческий разум достаточно силен, чтобы открыть эту истину.Таким образом, конечным результатом рационального исследования была одна наука, одна этика, одна религия и одна политика, которые были бы применимы для всех людей во все эпохи. Однако согласно постмодернизму вдохновленная Просвещением идея объективной истины, которая повлияла на мышление практически всех современных ученых и философов, является иллюзией, которая сейчас рухнула.
Они утверждают, что это развитие во многом связано с работами немецкого философа Фридриха Ницше (1844–1900) и его последователей.Ницше отверг наивную веру в то, что человеческие убеждения просто отражают реальность. Напротив, каждое из наших убеждений основано на «перспективе», которая не является ни правильной, ни неправильной. В этике, соответственно, нет моральных фактов, а есть только моральные интерпретации явлений, которые порождают различные существующие моральные кодексы. Мы можем попытаться понять эти моральные принципы, исследуя их истории и психологию людей, которые их принимают, но нет никаких сомнений в том, чтобы доказать, что те или иные из них «истинны».Ницше утверждает, например, что те, кто принимает иудео-христианскую этическую систему, которую он называет «рабской моралью», страдают от слабых и боязливых личностей. По его словам, другой, более сильный человек отвергнет эту этику и создаст свои собственные ценности.
Постмодернисты считают, что западное общество вышло за рамки современной интеллектуальной эры и сейчас находится в периоде постмодерна, который отчасти характеризуется осознанием того, что человеческая жизнь и мышление представляют собой мозаику, включающую множество точек зрения.«Истины», включая истины науки и этики, следует признавать как верования, связанные с определенными традициями, которые служат определенным целям в определенное время и в определенных местах. Стремление к абсолютам рассматривается как ошибочный поиск невозможного. В течение второй половины 20-го века наиболее известными защитниками этой точки зрения были Мишель Фуко (1926–84) и Жак Деррида (1930–2004).
Несколько типов
Несколько типовЭТИКА |
Глава третья: Релятивизм |
Секция 1.Несколько типов |
Люди развивают размышления о морали с течением времени. Они делают это в результате взаимодействия с отдельными людьми и общественностью. учреждения. В разных общества, каждое со своей культурой, есть разные идеи относительно того, как люди должны себя вести. В разных обществах и культурах действуют разные правила, разные нравы, законы и моральные представления.
В двадцатом веке люди стали вполне осознавать эти различия. Влияние этой информации в сочетании с теориями экзистенциалисты и прагматики стали весьма значимыми в сфере этики. В Экзистенциалисты с их теорией радикальной свободы и человеческого выбора и ответственность поместила мораль в сферу принятия решений каждым человеком. До существования существ не было сущностей, и не было бы не быть правил до существования существ, которые будут устанавливать правила для них самих.В Прагматики также отошли от веры в абсолюты, обобщения и любые универсальные критерии суждения. Для прагматиков реальность была не данностью, а человеческим фактором. строить и отражать критерии общества для суждения по поводу истины. Итак, пришло передать как часть постмодернизма, что была бы школа или традиция мысли, согласно которой все размышления об этике также зависит от принятия решений людьми в социальных рамках. Эта школа считает, что не существует универсального или абсолютного принципы этики, которым должны подчиняться все люди.
Через двадцатое столетия многие люди пришли к тому, чтобы принять большую часть релятивистских перспектива. Релятивизм имеет вошли в сознание многих людей, даже тех, кто придерживался некоторые абсолютистские идеи. Да , есть люди, придерживающиеся непоследовательных и противоречивых представлений о мораль и этика.Как это случилось?
Сначала проясним некоторые термины:
Культурный релятивизм
Описательный этический релятивизм
Нормативный этический релятивизм
Культурный релятивизм описывает тот простой факт, что существуют разные культурах, и у каждого свой образ поведения, мышления и чувствуя, как его члены учатся этому у предыдущего поколения. Существует огромное количество доказательств, подтверждающих это утверждение. Практически каждый человек на планете хорошо знает, что люди во всем мире делают что-то по-разному. Люди по-разному одеваются, по-разному едят, по-разному говорят языков, поют разные песни, имеют разную музыку и танцы и много разных обычаев.
Это научная теория хорошо подтверждены доказательствами, собранными культурными антропологами.
Описательный этический релятивизм описывает тот факт, что в разных культурах одним из вариантов является чувство морали: нравы, обычаи и этические принципы могут различаться из одной культуры в другую. Там есть много информации, чтобы подтвердить это. То, что считается моральным в одной стране, может считаться аморально и даже незаконно в другой стране.
Это научная теория хорошо подтверждены доказательствами, собранными культурными антропологами.
Примеры:
Мораль в США | Аморальный |
Есть говядина | Индия |
Распитие алкогольных напитков, Азартные игры | Ближневосточные исламские страны |
Женщины в школе или на работе | Афганистан под Талибаном |
Женщины в шортах с открытым лицом | Иран, Саудовская Аравия, Судан |
Или в обратном порядке
Аморально в США | Морально или приемлемо |
Убийство новорожденных самок | Китай, Индия |
Калечащие операции на женских половых органах | Многие африканские народы (Это женский обрезание) |
Семья убивает женщину, члена семьи, которая изнасилован | Сомали, Судан |
Можете ли вы подумать о другом Примеры?
Нормативный этический релятивизм — это теория, утверждающая, что не существует общепризнанных моральных принципов. принципы.Теория нормативного этического релятивизма утверждает, что моральный правильность и неправильность действий варьируется от общества к обществу, и это нет никаких абсолютных универсальных моральных норм, обязательных для всех людей раз. Теория утверждает, что все размышления об основных принципах морали (этики) всегда относительно. Каждый культура устанавливает основные ценности и принципы, которые служат основа нравственности. В теория утверждает, что это так сейчас, всегда было так и будет всегда будет так.
Это философский теория, которая НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ доказательствами, собранными культурными антропологами, а наука не могла подтвердить теорию о прошлом и будущее! Это теория, что есть доказательства против этого. (см. следующие разделы)
В следующем разделе мы внимательно изучите эту теорию, ее выводы и критику. рассмотрите таблицу ниже, которая показывает контраст между абсолютизмом и релятивизм.
Релятивизм | Нигилизм — моральных принципов не существует | Абсолютизм Существуют универсальные этические принципы, применимые ко всем людям. Есть абсолюты. |
Культурный релятивизм | Существует моральное ядро, без которого и.общество не будет процветать ii. Физические лица не будет процветать | |
Описательный этический релятивизм | ||
Нормативный этический релятивизм | ||
нет универсальных критериев | А) существуют моральные истины | |
ни абсолютов, ни даже допуска | B) Разум может открывать истину | |
без критики большинства | C) их продвижение в наших интересах | |
сводится к субъективизму | ||
Мы не должны выносить моральных суждений в отношении других людей и обществ. | Мы судим и должны судить других людей и общества с разумом, сочувствием и пониманием.
|
Вы когда-нибудь думали или слышал и не оспаривал идею о том, что мы не должны выносить моральные суждения других людей? Есть ли у тебя когда-либо думал, что каждый человек должен принять собственное мнение о том, что его или ее моральные правила будут? Иметь вы когда-либо соглашались с мыслью, что «Если вы не пройдете милю в другом мужские мокасины, вы не можете судить о нем »?
Вы когда-нибудь думали, что в то время как какое-то действие может быть для вас морально неправильным, оно может быть правильным для другого человека или, наоборот, думали ли вы, что пока кто-то действует может быть морально правильным для вас может быть морально неправильным для вас другой человек? Есть ли у тебя думали, что каждый человек должен вырабатывать свою мораль?
Ну, если вы ответили, «Да» на любой из вышеперечисленных, у вас есть релятивистские идеи, работающие в вашей системе мышления.Теперь вы можете спросить себя, действительно ли вы принимаете эти идеи?
Вы верите, что должны выйти и убить нескольких человек, чтобы сделать вывод, что сериал убийца что-то не так делает? Делать вы действительно верите, что вам нужно похитить, изнасиловать, убить и съесть несколько молодых людей, чтобы прийти к выводу, что Джеффри Дамер что-то неправильное, морально неправильное и ужасное?
Вы думаете, что убийство новорожденные младенцы, потому что они самки, это неправильно даже для китайцев? Вам не кажется, что когда-то китайцы, индийцы и африканцы более высокое качество жизни и более образованные, что они будут и должны прекратить делать то, что причиняет вред, убивает или унижает женщин? Если да, то и в вас работают абсолютистские идеи.
Как можно удерживать противоположные идеи на в то же время?
Давайте начнем думать об этих имеет значение.
Карл Веллман, « Этические последствия культурной относительности , The Journal of Философия , Vol. 60, выпуск 7 (28 марта 1963 г.): стр. 169–184.
Перейдем к некоторым важным отличиям.
Два типа Моральный релятивизм : культурный и индивидуальный
Культурная мораль Релятивизм
Часто можно услышать
утверждения следующего типа: с нашей стороны неправильно навязывать им свою мораль,
потому что у них другой набор убеждений.
Рене Декарт, 17 век
Французский философ отмечает в следующем отрывке разницу между
системы верований разных культур и очевидная разумность
каждый:
Но у меня было я осознал, даже еще во время учебы в колледже, что никакого мнения, однако абсурдным и невероятным, можно себе представить, чего не придерживаются некоторые философов; а потом, путешествуя, я заметил, что все те, чье мнение явно противоречит нашему, не попадают в этот счет варваров и дикарей, но, напротив, многие из этих народов одинаково хорошо, если не лучше, использует свой разум, чем мы.- Начиная с Беседа о методе правильного ведения рассудка и поиске истины в наук
Аборт запрещен в
Ирландия. Более того, убеждение, что аборт — ужасная мораль.
преступность широко распространена. В Японии аборты не только легальны, но и очень часто
считается морально нейтральным. Отвечая на вопрос: является ли аборт моральным
неправильный? культурный релятивист говорит: да, в Ирландии аборт — это плохо.В
Япония, нет —
это не морально неправильно.
Обратите внимание, что релятивист не говорит: «В Ирландии люди считают, что это неправильно, и в Японии люди считают, что это не так ». Нет, его точка зрения сильнее чем это. В Ирландии аборт — это морально неправильно, а в Японии — НЕЛЬЗЯ. аморально.
Индивидуальная мораль
Релятивизм (также называемый
Субъективный релятивизм, или просто субъективизм)
Если вы физическое лицо
релятивист, вы считаете, что моральные обязательства зависят от
убеждений, но вы думаете, что релевантным является убеждение индивидуального морального
агента, а не культуры, из которой происходит агент.
Опять же, обратите внимание субъективист не просто говорит: Джо считает, что списывание экзаменов — это морально приемлемо, когда нужна хорошая оценка, в то время как Мэри не думает, что обман всегда приемлем с моральной точки зрения. Нет, субъективист делает сильнее утверждают, что измена НЕПРАВИЛЬНА для Мэри, но НЕ для Джо.
Релятивизм и
Моральная объективность
Согласно моральной
релятивизм, является ли действие / суждение / решение / выбор морально правильным или
обязательно зависит от убеждения, что это действие / суждение / решение / выбор
морально правильные или обязательные.Релятивисты не утверждают, что нет
источник обязательства и отсутствие морально неправильных действий. Релятивисты часто заявляют, что действие / суждение и т. Д. Требуется с моральной точки зрения.
человек. Например, если человек считает аборт морально неправильным, тогда
это неправильно — для нее. Другими словами, для Сьюзан было бы морально неправильно
сделать аборт, если Сьюзен считала, что аборт — это всегда морально неправильно. (Это
также было бы морально неправильным, по мнению релятивистов, если бы Сьюзен сделала аборт
когда она считала, что иметь один — неправильно только ей.) Суммируя,
релятивистам не нужно отказываться от объективности моральных суждений; но они
нужно отказаться от других ключевых концепций, таких как универсализм; подробнее об этом позже.
Повторяю: релятивизм не влечет за собой отсутствие объективных обязательств. Человек может верить что моральные обязательства относятся к культуре и в то же время верят что человек из этой культуры действительно обязан соблюдать все моральный кодекс, которого придерживается культура.
* Entail — если A влечет за собой B, то, если A истинно, B должно быть истинным.
Релятивизм — Интернет-энциклопедия философии
=================================================
Чтобы перейти к следующему разделу главы, нажмите здесь >> раздел.
Авторские права Стивен О Салливан и Филип А.Пекорино 2002. Все права зарезервированный.
Моральный прогресс: введение | SpringerLink
Чтобы узнать, претерпело ли общество А прогрессивные моральные изменения за последние полвека, нам нужны критерии, чтобы определить, действительно ли нынешнее положение дел морально лучше, чем то, что было полвека назад. Мы различаем разные виды критериев: формальные, эпистемологические, количественные, качественные, функциональные и содержательные критерии.Большинство, но не все из этих критериев можно найти в недавней литературе о моральном прогрессе.
Эпистемические критерии
В рамках научного реализма научные теории рассматриваются как попытки описать реальность, а научные утверждения как имеющие истинную ценность. Прогресс наступает, когда теории становятся более успешными в описании реальности и когда утверждения, основанные на этих теориях, имеют более высокую ценность истинности. Теории должны быть проверены данными наблюдений, а возрастающий успех эмпирических тестов означает более высокую степень подтверждения теории.Некоторые философы-моралисты пытаются смоделировать прогресс в нравственности на основе прогресса науки и рассматривать моральный прогресс как больший успех в описании моральной реальности (Boyd 1988). Они обнаруживают, что невозможно говорить о моральном прогрессе, не признавая, что моральная реальность существует. Для них моральный прогресс предполагает моральный реализм. Философы-моралисты, которые не верят в существование моральной реальности, отвергают представление о том, что нельзя говорить о моральном прогрессе, не будучи приверженными моральному реализму.Кэтрин Уилсон хочет придерживаться аналогии между моральным прогрессом и научным прогрессом, но утверждает, что жизнеспособное понятие моральной истины лучше выводится из динамики изменения теории, чем из метафизики пропозиционального содержания (Wilson 2010, p. 98). Мнение Уилсона о моральном прогрессе подвергается критике со стороны Майкла Хьюмера, который утверждает, что определенные эмпирически наблюдаемые положительные моральные изменения в предшествующие столетия не могут быть объяснены теориями, опровергающими моральный реализм (Huemer, 2016).Дейл Джеймисон отвергает моральный реализм, потому что он нарушает нашу метафизическую чувствительность (Jamieson 2002b, p. 321). Он предлагает заменить учение о морали, отражающее внешнюю реальность, на эволюционное учение, которое следует понимать как объяснение того, почему мораль развивалась и сохраняется среди таких существ, как мы (стр. 322). Те, кто ищет работоспособный эпистемический критерий морального прогресса, не найдут ничего полезного в обсуждении морального прогресса и его связи с моральным реализмом. Это обсуждение сосредоточено на том, что требуется для объяснения морального прогресса, а не на инструментах для определения морального прогресса.
Альтернативная эпистемическая интерпретация морального прогресса дана Мишель Муди-Адамс. Для нее моральный прогресс в убеждениях состоит в постижении семантической глубины моральных концепций, что включает в себя более полное понимание богатства и диапазона моральных концепций. Моральный прогресс в практиках возникает, когда новое углубленное моральное понимание конкретно реализуется в индивидуальном поведении или социальных институтах (Moody-Adams 1999, p. 169). Этот критерий может быть подвергнут операционализации, когда понятие семантической глубины будет более полно разработано.
Формальные критерии
Один из наиболее общепринятых образов морального прогресса — это расширение круга моральных интересов, начиная с нашей собственной семьи или племени и расширяясь со временем, чтобы включать более крупные группы, нации, семьи наций, всех людей. и, возможно, даже нечеловеческие животные. Эта метафора, уже присутствующая у Уильяма Э. Книга Леки История европейской морали (1809) является центральной в книге Питера Сингера Расширяющийся круг (1981) и принята многими другими авторами, например, Дейлом Джеймисоном (2002a, b).Сингер утверждает, что альтруизм зародился как генетически обоснованное стремление защитить своих родственников и членов сообщества, но превратился в сознательно выбранную этику с расширяющимся кругом моральных забот. Footnote 6 Годлович (1998) добавляет к этому критерию расширения моральных возможностей два других формальных критерия: критерий увеличения моральной сферы и критерий увеличения морального господства или авторитета:
Рост домена делает больше выборов и действий морально неправильными из-за увеличения количества обязательств, которые мы должны принять.Рост авторитета ужесточает существующие моральные обязательства и оставляет меньше места для простительных, неосознанных, корыстных обычаев и предпочтений. Моральный прогресс требует, чтобы сфера бесспорно допустимого поведения все больше сужалась, поскольку все большая часть наших действий становится «вопросами принципа» (стр. 279f).
Большим преимуществом формальных критериев является то, что они легко применимы. Моральный прогресс происходил везде, где можно было наблюдать, что объем морали и / или ее область и / или ее авторитет увеличились.
Количественные критерии
Формальные критерии, которые мы только что обсудили, в некотором роде также являются количественными в том смысле, что для измерения увеличения объема, области и авторитета морали требуется — или, по крайней мере, совместима с — количественная шкала. Чистый количественный критерий — это усиление правильных действий (Джеймисон) или большее соответствие между моральными убеждениями и моральным поведением, что также можно рассматривать как признак большего господства морали. Количественные критерии легко применимы, но не могут быть самостоятельными: они предполагают существенные критерии (см. Ниже).
Качественные критерии
В повседневной жизни действия обычно совершаются по смешанным мотивам. Некоторые из них эгоистичны, другие относятся к другим и выражают беспокойство о благе и горе других, кроме самого агента, третьи являются чисто моральными в кантовском смысле. Согласно Канту, действия имеют моральную ценность только в том случае, если они совершаются исключительно из мотивов долга (Kant 2002). Когда моральный прогресс понимается как возрастающая чистота моральной мотивации, можно, по крайней мере теоретически, определить, действительно ли моральный прогресс имел место.Тем не менее, поскольку моральные мотивы часто непонятны даже для самих агентов, на практике практически невозможно выяснить, был ли моральный прогресс. Таким образом, критерий повышения чистоты мотивации трудно реализовать.
Функциональные критерии
Если мы знаем, какова функция морали, то, по крайней мере теоретически, можно сравнить степень, в которой мораль выполняет эту функцию. Footnote 7 Недавно Филип Китчер (2011) разработал теорию морального прогресса, основанную на функциональном учете морали. Footnote 8 В какой-то момент нашего эволюционного прошлого, говорит Китчер, наши предки приобрели способность жить вместе небольшими группами, смешанными по возрасту и полу. Это достижение требовало способности к альтруизму. Примером альтруизма является забота о матери, и первоначально он развился через родственный отбор. Однако альтруистические наклонности ограничены и хрупки. Кооператоры иногда эксплуатируются, отдача неравномерна. Дефекты грозят разорвать социальную ткань группы. Китчер говорит об «неудачах альтруизма».Ограничения и хрупкость альтруизма не угрожают повседневной социальной жизни внутри группы, они препятствуют объединению в более крупные социальные группы и расширению сотрудничества. Чтобы сделать это возможным, требуется устройство, которое Китчер называет «способностью к нормативному руководству», то есть способностью следовать командам и правилам. Способность к нормативному руководству — это когнитивная способность. Нормативное руководство производит суррогатов альтруизма у животных, которые могут выполнять приказы. Его функция — исправлять неудачи альтруизма.В рамках того, что Китчер называет «экспериментами по жизни», были разработаны различные моральные кодексы:
Эксперименты по жизни наших доисторических предков привели к важному пути прогресса, который соответствует концепции « расширяющегося круга », в расширении их предписаний за пределы небольших групп первых людей, а также в увеличении масштабов (поведенческого) альтруизма ( Китчер 2011, с. 217).
Согласно Китчеру (2011, стр.236f.), Функциональное уточнение исходной функции моральных кодексов, достигнутое за счет расширения сферы моральных предписаний. На ранних этапах истории человечества неудачи альтруизма, которые моральные кодексы должны были исправить, были связаны с социальными конфликтами, относящимися к удовлетворению основных желаний членов группы. В ходе истории успешного человеческого сосуществования и сотрудничества формировались новые желания. Из способов, которыми выполнялась первоначальная функция этики, возникают вторичные функции:
Этические принципы также необходимы для реагирования на конфликты в рамках расширенного репертуара желаний индивида, и в этой сфере появляются рецепты развития характера (2011, стр.239).
По словам Китчера, прогресс в выполнении этих второстепенных функций не соответствует расширяющемуся кругу счетов.
Преимущество функциональных критериев, по-видимому, состоит в том, что они нейтральны в нормативном отношении: они не требуют оценочной базы — набора моральных убеждений, ценностей, принципов и правил, на которых основываются суждения о моральном прогрессе. Однако Китчер утверждает, что из эмпирически обнаруженной функции этики мы можем вывести не что иное, как нормативно обязательный эгалитарный идеал: идеал этического обсуждения, учитывающий желания всех членов человеческого населения (2011, § 53).
Материальные критерии
Большинство суждений о моральном прогрессе является результатом применения основных, нормативных моральных критериев. Критерии существа выводятся из того, что мы называем оценочной базой. Конкретная моральная традиция, частично совпадающий консенсус между различными моральными традициями или нормативная теория, претендующая на универсальность, такая как теория прав человека, могут служить оценочной базой. Таким образом, суждения о моральном прогрессе не обязательно требуют универсалистской оценочной базы.И суть, и обоснованность оценочной базы зависят от цели оценки и ее предполагаемого форума.
Предположим, что мы хотим доказать нашим соотечественникам, что институты голландского общества и моральное поведение голландцев в прошлом веке изменились положительно: степень соответствия между голландскими моральными убеждениями, с одной стороны, и с другой. стороны поведение голландцев и их институтов усилилось. Тогда наиболее подходящей оценочной базой является разделяемая в настоящее время моральная традиция голландцев.Аудитория или форум оценки состоит из современных голландцев, членов нынешнего голландского общества. Однако, если наша аудитория — граждане Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки, нам нужна оценочная база, которая может быть одобрена как нами, так и нашей широкой аудиторией. В этом случае перекрывающийся консенсус между моральными традициями был бы более подходящей оценочной базой или набором ценностей и принципов, выведенных из этической теории. Некоторые авторы считают, что универсальные права человека наиболее подходят в качестве оценочной основы (например,грамм. Бьюкенен 2013). Оценочная база Рут Маклин состоит из двух универсальных принципов: принципа человечности и принципа человечности. Они проистекают из двух расходящихся этических теорий, утилитарной и кантианской теории:
1) Принцип гуманности: одна культура, общество или историческая эпоха демонстрирует более высокую степень морального прогресса, чем другая, если первая демонстрирует большую чувствительность (меньшую терпимость) к боли и страданиям людей, чем вторая, поскольку выраженные в законах, обычаях, институтах и практике соответствующих обществ или эпох.2) Принцип гуманности: одна культура, общество или историческая эпоха демонстрирует более высокую степень морального прогресса, чем другая, если первая демонстрирует большее признание врожденного достоинства, основной автономии или внутренней ценности людей, чем вторая. , как это выражено в законах, обычаях, институтах и практике соответствующих обществ или эпох (Macklin 1977, p. 371 f.)
Оценочная база Маклина может претендовать на универсальную значимость, но не может быть одобрена всеми, например, приверженцами незападных моральных традиций.Однако это не должно ее беспокоить, поскольку ее предполагаемый форум, похоже, принадлежит людям из западных демократий. То же самое относится и к оценочной базе Дейла Джеймисона, его «индекса морального прогресса»: «В чем бы ни состоял моральный прогресс, вполне правдоподобно (по причинам, которые я объясню позже) предположить, что он включает, по крайней мере, следующее: отмена войны рабство, сокращение бедности и классовых привилегий, расширение свободы, расширение прав и возможностей маргинализированных групп, а также уважение к животным и природе »(Jamieson, p.
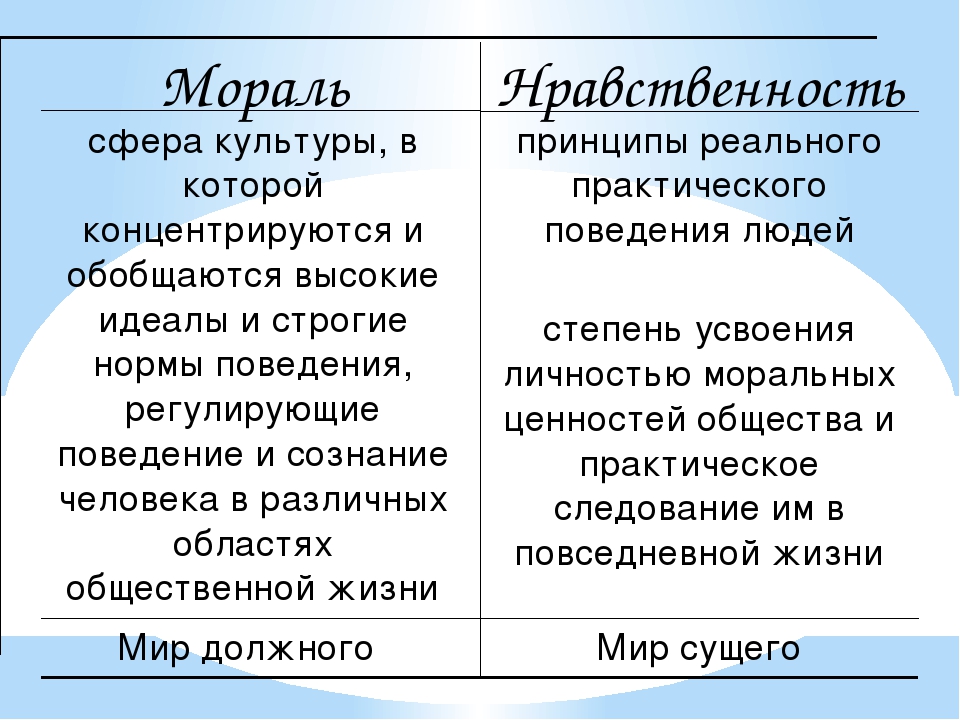
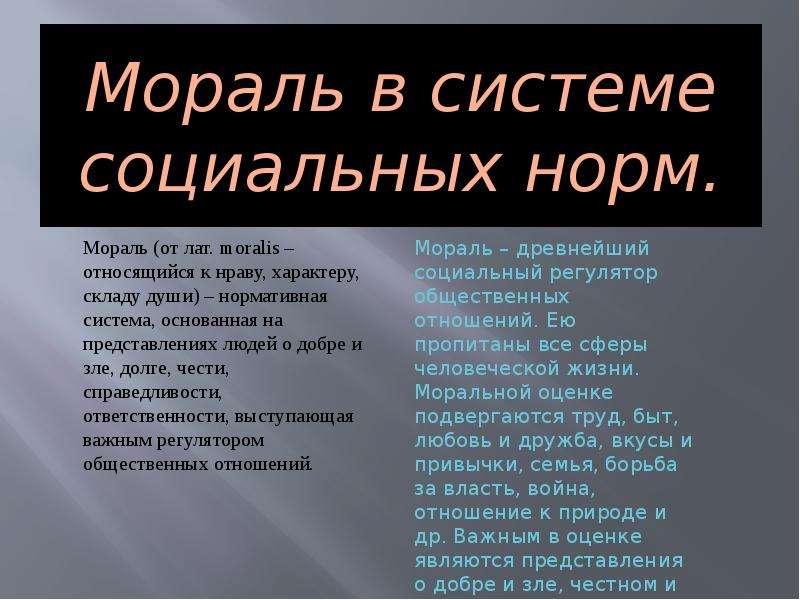
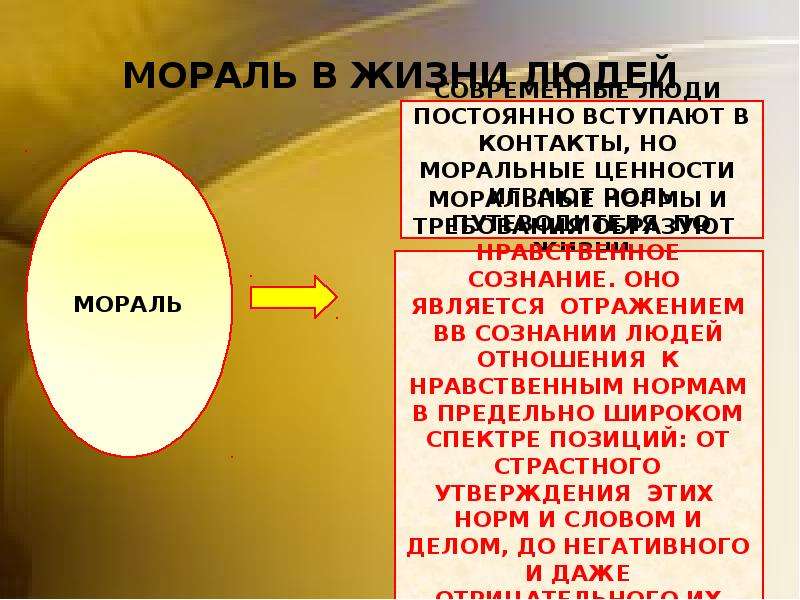
 […] Утверждения, что мораль правдива, в то время как она таковой не является, может привести к доксатической катастрофе, оруэлловской эпистемологии и, возможно, нервному срыву».
[…] Утверждения, что мораль правдива, в то время как она таковой не является, может привести к доксатической катастрофе, оруэлловской эпистемологии и, возможно, нервному срыву». Именно потому я считаю, что практическое применение теории моральных ошибок должно зависеть от конкретных примеров».
Именно потому я считаю, что практическое применение теории моральных ошибок должно зависеть от конкретных примеров».