мораль (в басне) — это… Что такое мораль (в басне)?
- мораль (в басне)
Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. От аллегории до ямба. — М.: Флинта, Наука. Н.Ю. Русова. 2004.
- монтаж
- морской жаргон
Смотреть что такое «мораль (в басне)» в других словарях:
мораль — этическое содержание произведения, его вывод, итог, содержащий совет читателю поступать тем или иным образом или афористическое суждение. В большинстве произведений читателю предлагается самому сделать этот вывод. В баснях и притчах мораль прямо… … Литературная энциклопедия
Басня — Басня стихотворное или прозаическое литературное произведение нравоучительного, сатирического характера.

концовка — и; мн. род. вок, дат. вкам; ж. 1. Графическое украшение в конце книги, главы. 2. Заключительная часть какого л. сочинения, произведения. К. романа, пьесы, стихотворения. Традиционная к. былины. * * * концовка 1) заключительный компонент… … Энциклопедический словарь
концовка — завершающая часть художественного произведения, следующая за развязкой. Рубрика: композиция и сюжет Целое: композиция Вид: апофеоз (в сценическом произведении), мораль (в басне), поучение (в басне) … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению
КОНЦОВКА — 1) заключительный компонент литературного произведения или какой либо его части. Типы концовок многочисленны: эпилог, мораль (в басне), клаузула (в стихе), кода (в стихотворных произведениях).2) Изобразительная или орнаментальная графическая… … Большой Энциклопедический словарь
концовка — КОНЦО´ВКА заключительная часть литературного произведения или определенного отрезка его главы, строфы, строки.
 В современной русской поэтике этот термин применяется для обозначения разнотипных К.: эпилог, развязка, мораль (в басне), пуант,… … Поэтический словарь
В современной русской поэтике этот термин применяется для обозначения разнотипных К.: эпилог, развязка, мораль (в басне), пуант,… … Поэтический словарьсредства межфразовой связи в сложном синтаксическом целом — 1) зацепление – употребление средств, отсылающих к другому субтексту; 2) повтор – использование для межфразовой связи тождественных или сходных элементов; 3) следование – связь, основанная на выводе одного субтекста из другого (напр., мораль в… … Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило
средства межфразовой связи в сложном синтаксическом целом — 1) зацепление – употребление средств, отсылающих к другому субтексту; 2) повтор – использование для межфразовой связи тождественных или сходных элементов; 3) следование – связь, основанная на выводе одного субтекста из другого (напр.,… … Синтаксис: Словарь-справочник
Басня — жанр дидактической поэзии (см.), короткая повествовательная форма, сюжетно законченная и подлежащая аллегорическому истолкованию как иллюстрация к известному житейскому или нравственному правилу.
 От притчи или аполога Б. отличается законченностью … Литературная энциклопедия
От притчи или аполога Б. отличается законченностью … Литературная энциклопедияБасня — БАСНЯ небольшая сказочка нравоучительного характера, в которой действующие лица чаще животные, а также неодушевленные предметы, но нередко и люди. В басне отличают повествование и вывод из него, т. е. определенное положение (правило, совет,… … Словарь литературных терминов
Книги
- Современные басни от Виктора. В басне есть своя мораль, Виктор Зуду. Мораль и смысл, иносказание – вот что отличает басню от обычного стихотворения. В басне есть отражение того, что проявляется человеком в повседневной… Подробнее Купить за 400 руб электронная книга
- Новая азбука, Лев Толстой. Каждая сказка заключает в себе, подобно басне, определенную мораль и является как бы маленькой притчей. Создавая рассказы для «Новой азбуки», Толстой придавал данной работе, прежде всего… Подробнее Купить за 149 руб аудиокнига
- Басни, Крылов Иван Андреевич.
 Иван Андреевич Крылов (1769-1844) — русский поэт-баснописец, переводчик, член-академик Императорской академии наук. Родился в семье отставного офицера. В связи с многочисленными переездами он… Подробнее Купить за 98 руб
Иван Андреевич Крылов (1769-1844) — русский поэт-баснописец, переводчик, член-академик Императорской академии наук. Родился в семье отставного офицера. В связи с многочисленными переездами он… Подробнее Купить за 98 руб
Идея и мораль. И немного о теме произведения / Дмитрий Пономарёв
Идея и мораль произведения — это понятия, в которых часто путаются авторы художественной литературы. Путаница возникает ещё и потому, что у этих терминов есть несколько определений, причём некоторые из них в какой-то мере противоречат друг другу. Наиболее предметная, чёткая и понятная трактовка, на мой взгляд: идея — это утверждение того, что произойдёт с героями в результате развития сюжета.
Но что же такое мораль? В литературном произведении мораль — это не только нравоучение, но также нравственный вывод или же силлогизм. Мораль — абстрактная мысль, в том время как идея — мысль вполне конкретная, что сближает идею с темой произведения. Однако эти понятия не тождественны. Основное различие между темой и идеей в следующем: тема описывает время и место действия, проблематику — суть конфликта, а идея описывает то, что произойдёт в результате основного конфликта.
Однако эти понятия не тождественны. Основное различие между темой и идеей в следующем: тема описывает время и место действия, проблематику — суть конфликта, а идея описывает то, что произойдёт в результате основного конфликта.
В шекспировской «Ромео и Джульетте» тему можно сформулировать так: «трагедия двух юных влюблённых из враждующих семей Вероны 17-го века». Идею произведения можно выразить иначе: «запретная любовь становится причиной гибели двух влюблённых». Сама суть — обозначение конфликта (запретная любовь) и результат, к которому приводит развитие конфликта (гибель влюблённых), без лишних подробностей. Это и есть идея.
Если основная мысль произведения, к примеру, проста: «Любовь спасёт мир» или посложнее: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», то мы имеем дело не с идеей, а именно с моралью. Тут есть нюанс. Важно не перепутать мораль произведения с морализаторством или нравоучениями — как было сказано выше, это разные вещи. В литературе мораль, как ни парадоксально, может быть и аморальной с традиционной точки зрения — так называемая антимораль.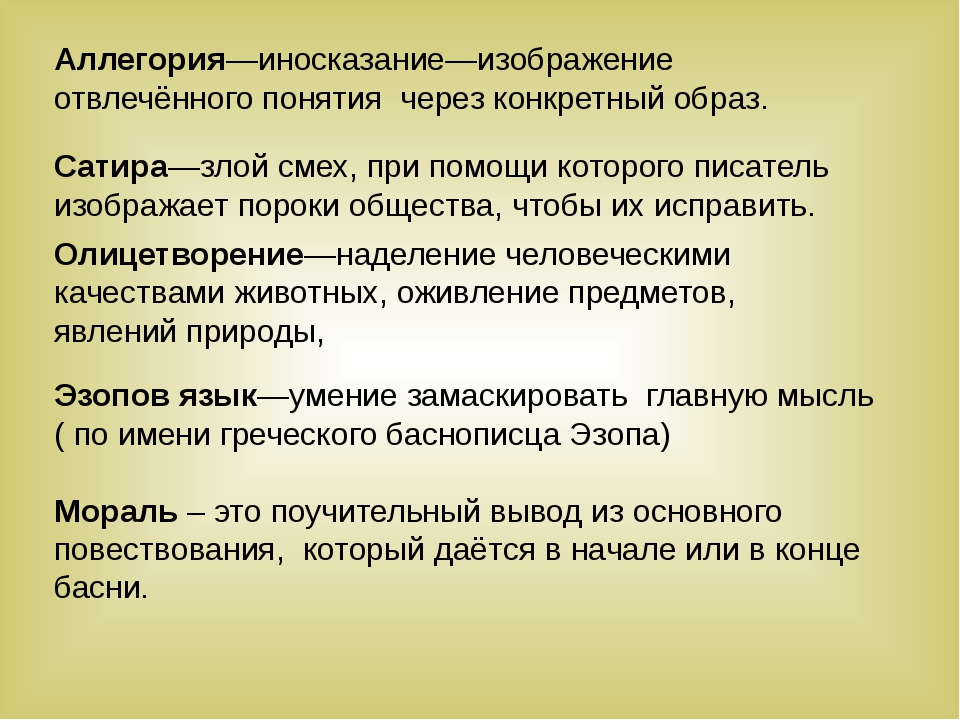 Пример: «Предательство приводит к успеху», «Супружеская измена спасает брак» и так далее.
Пример: «Предательство приводит к успеху», «Супружеская измена спасает брак» и так далее.
Мораль произведения — это нравственный вывод, к которому приводит развитие сюжета. Идея произведения — обозначение основного конфликта и его итог, результат.
Сергей МОРОЗОВ. Мораль и литература
Тема литературы и морали, соотношения этического и эстетического стара как мир. В первую очередь, это, конечно, тематика эстетического характера. Решение ее, так или иначе, связано с определенными эстетическими воззрениями: представлением о прекрасном, о художественном идеале, о сущности и назначении поэзии, отношении искусства к жизни вообще и социальным потребностям в частности. Человек и искусство – еще один значимый ее аспект, ведь идея дегуманизации искусства, выдвинутая в одно время как лозунг его совершенствования, развития, избавления от всего наносного с течением времени переоформилась в обоснование отхода от моральной эстетики.
Общее, распространенное мнение относительно темы «мораль и литература» как раз лежит в этой плоскости – искусство должно давать внеморальное изображение действительности. Раскрывается оно в целом ряде традиционных уже сентенций о том, что искусство не должно поучать, что «те времена прошли», что жизнь как предмет искусства не имеет однозначной моральной трактовки, а, значит, ее не должен выражать и сам художник, мастер слова. То есть высказывается позиция не аморализма, а своего рода имморальности, своего рода толерантности эстетического по отношению к этическому. Немного морали (слаб человек) допустить можно, но так ни-ни, лучше воздержаться.
Раскрывается оно в целом ряде традиционных уже сентенций о том, что искусство не должно поучать, что «те времена прошли», что жизнь как предмет искусства не имеет однозначной моральной трактовки, а, значит, ее не должен выражать и сам художник, мастер слова. То есть высказывается позиция не аморализма, а своего рода имморальности, своего рода толерантности эстетического по отношению к этическому. Немного морали (слаб человек) допустить можно, но так ни-ни, лучше воздержаться.
Однако дело тут не только в эстетике. Противопоставление морали и литературы — уже само по себе признак искаженного восприятия действительности. Оно исходит из трактовки морали как чисто субъективной оценки, как некоего прибавления к имморальной действительности. Но то, что художественное произведение, автор должны стоять по ту сторону добра и зла, не навязывать читателю суждений морального толка, предоставляя это делать ему самому – глубочайшее заблуждение. Сам факт существования художественного произведения — это факт, в том числе, и морального характера. Хотя бы потому, что оно рождает моральный отклик в индивиде и обществе, оно внедряет представление об определенной, желаемой форме моральных отношений, о добром и злом, должном и недопустимом.
Хотя бы потому, что оно рождает моральный отклик в индивиде и обществе, оно внедряет представление об определенной, желаемой форме моральных отношений, о добром и злом, должном и недопустимом.
Мораль – как регулятор отношений, этика как набор теоретических представлений о добре и зле связаны с действительностью непосредственно, эти понятия отмечают присущее ей состояние в определенном, нравственном аспекте.
Другое дело, что они, понятия морали, предполагают свободную интерпретацию со стороны автора и культуры.
Исходя из этого следует учитывать, что моральная нагруженность литературы не означает ее нравственности только в классическом позитивном понимании нравственности. Мар, Каменский, Арцыбашев, если вспомнить русскую литературу начала XX века, тоже выступали с определенных моральных позиций. Однако позиции эти были довольно далеки от того, что обычно понимается под моральным. Проповедь вседозволенности, сексуальной распущенности, воли к жизни, равно как и воли к смерти у них – это тоже своего рода моральная проповедь. Это литература в моральном аспекте. Это попытка навязать граду и миру свою систему моральных ценностей, проинтерпретировать действительность в собственных моральных категориях, сформулировать свое представление о регуляторах социальных отношений.
Это литература в моральном аспекте. Это попытка навязать граду и миру свою систему моральных ценностей, проинтерпретировать действительность в собственных моральных категориях, сформулировать свое представление о регуляторах социальных отношений.
Таким образом, взаимосвязь литературы и морали проявляется в том, что классическая мораль добра, даже будучи отвергнута в качестве устаревшей и потерявшей актуальность, сменяется не пустотой, а этикой нигилизма и релятивизма. Перед нами не крах морального в литературе, а его подмена, которая в итоге оборачивается уходом от последовательного, системного, рационального отношения к моральным ситуациям в сферу ситуативного и туманного, субъективного, произвольного, нечеткого. Но даже такой уход, стоит еще раз повториться, не есть уход от морали, а лишь сдвиг в сторону другой ее формы.
Идея морали, в общепринятом христианском и следующим за ним классическом гуманистическом понимании, неразрывно связана с идеей роста, развития, преображения.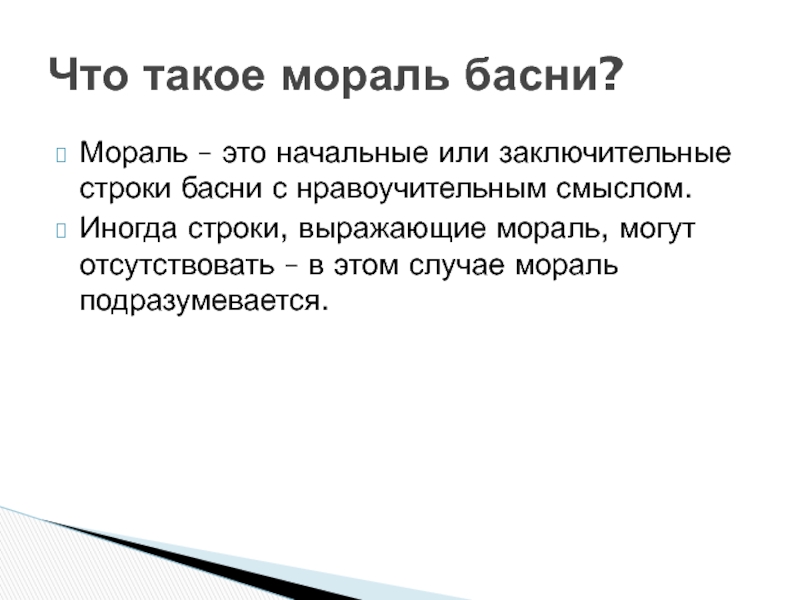 Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.
Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.
Этика всегда апеллирует к разуму. Собственно развитие морального сознания всегда выступало моментом развития рациональности в целом. Цельная форма рациональности должна охватывать не только прагматическую и технологическую составляющую, не только форму, но и содержание. Отказ от морали в этом аспекте знаменует повреждение и в рациональности. Протестующий против морали демонстрирует пример пошатнувшегося внятного сознания, распавшейся на составные связной мысли. Ослабление разумного начала проявляется, также и в ослаблении аргументации в пользу морали, которое происходит в литературном морализаторстве, которое подменяет создание убедительных и внятных образов поверхностными моральными сентенциями. Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.
Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.
Отказ от рационального начала, отход от моральности как жизненности, переход к морали как чистой субъективности – это ошибка моральной партии в культуре и в литературе, которая влечет за собой переход к деградационному типу морализаторства, впадению в казенную, безжизненную и мало кем воспринимаемую в силу этого «духовность».
Стремление к моральной беспристрастности, как и стремление к назидательности, морализаторству — две формы проявления убежденности в искусственности и нежизненности морали.
Вообще же, говоря о морали и искусстве, мы имеем перед собой достаточно простую классификацию. С одной стороны, находится литераторы, демонстрирующие отношение к морали как к чисто субъективному явлению, понимание ее как субъективной оценки. Они разделяются на две группы – показных имморалистов, на самом деле бессознательно фиксирующих свои субъективные моральные предпочтения, и сознательных морализаторов.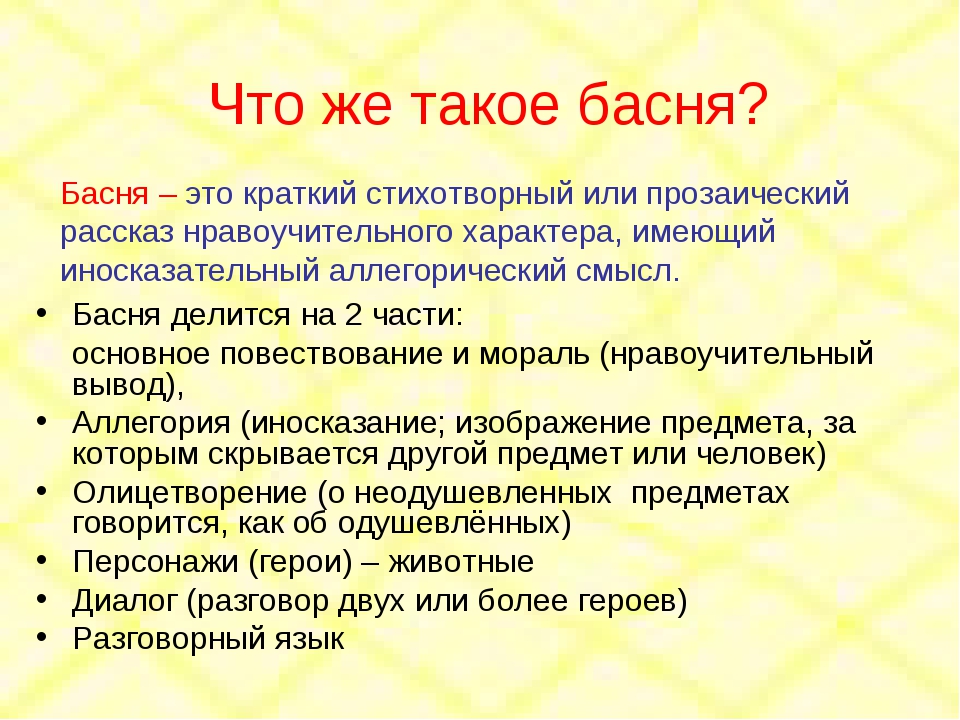
Другой род писателей – эта те, кто признает начало нравственности за самой жизнью, те, для кого моральность выступает как жизненность, как нечто неотъемлемое от самой объективной действительности. Абстрактно здесь также существует разграничение, на тех, кто проводит моральную точку зрения полноценно, через весь художественный мир в целом, окрашивая его в моральные тона и тех, кто делает это частично. Здесь мораль как жизненность может быть представлена как идеал, как утопия. При том, утопия может иметь ретроспективный и перспективный характер, обращена в прошлое и в будущее. Пример первого – Обломовка у Гончарова, шмелевские, зайцевские книги о детстве, второго, обращенного в будущее – любая традиционная утопия. Моральная точка зрения может быть проведена и частично – как изображение в моральных тонах либо отдельных сторон действительности, либо положительного героя, действующего в негативных обстоятельствах. Примеров последнего в литературе достаточно — от хрестоматийного купринского «Чудесного доктора», шмелевского «Человека из ресторана» до современных образчиков такого рода прозы в виде «Полосы» Р. Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».
Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».
Парадоксальность морального воззрения на действительность может заключаться в том, что сам моральный взгляд на действительность может быть реализован через концентрированное изображение отпадающего или отпавшего от морали мира. Классический образец в этом смысле – роман Д. Стейнбека «Зима тревоги нашей», в котором моральный взгляд не перетекает в морализаторство, а читатель ощущает нарастающий в американском обществе распад нравственности, затрагивающий самые глубины общества и человеческой души. Иного плана моральная точка зрения вырастает из граничащего с порнографией романа Д. Балларда «Автокатастрофа», в котором именно подробное и натуралистичное живописание порока изматывает читателя и подвигает его к моральной позиции, заставляет ощутить духоту, бесчеловечность, катастрофичность, безжизненность мира, лишенного нравственного основания.
Но самая сложная задача – живописание становления морального в мире, перехода мира к моральной точке зрения.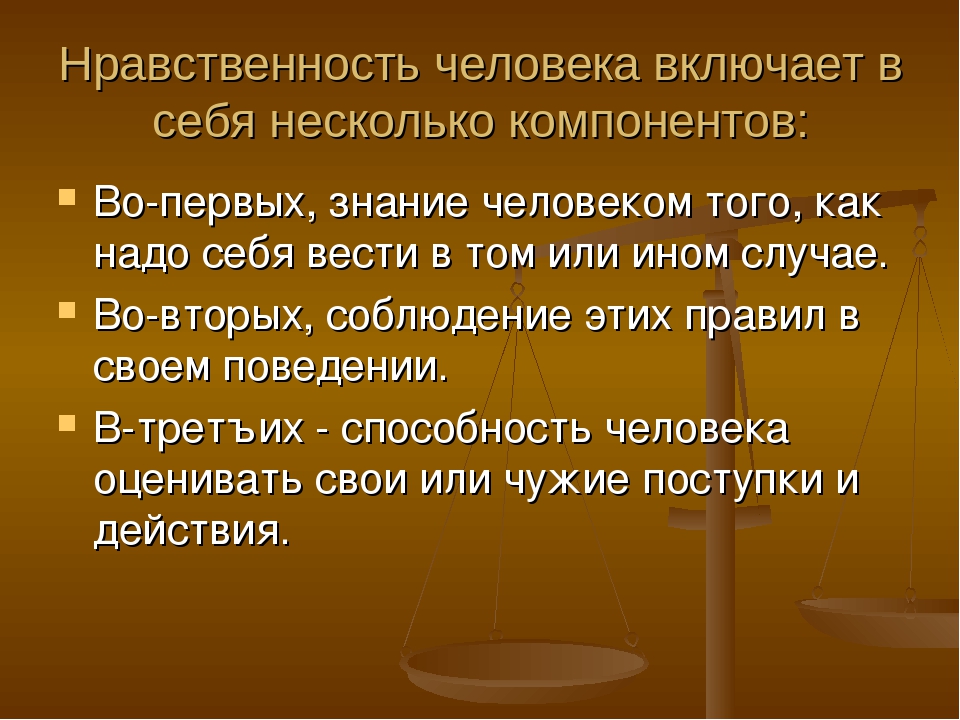 Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.
Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.
Примеров субъективного морализаторства в нашей литературе последних лет достаточно. Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.
Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.
На моральном распутии находится П. Беседин, из соображений правды жизни и под влиянием эмоций качающийся от морализаторства к откровенному имморализму.
Достаточно ярким примером последовательного стояния по ту сторону добра и зла, подтвержденного недавним интервью каналу «Россия24» является проза Прилепина от самого начала, от «Патологий» и до «Обители». В той же плоскости находится недавняя книга М. Степновой, с говорящим названием «Безбожный переулок».
В той же плоскости находится недавняя книга М. Степновой, с говорящим названием «Безбожный переулок».
Нащупывание объективной твердой онтологической почвы под моралью просматривается в последних произведениях С. Шаргунова, Р. Сенчина. Первый в романе «1993» возвращается к классической для русской литературы теме выбора, второй через подробное и скрупулезное исследование человеческих характеров, человеческой судьбы в условиях социального бедствия («Зона затопления»).
Острота нравственного конфликта задает нерв всему повествованию. Она волнует читателя, заставляет сопереживать. Мертвенность повествования определяется отсутствием нравственного нерва. Пошел, поехал, сделал, поговорил. За чем тут следить? Чему сопереживать? Для чего читать? Отказываясь от морали как обязательного измерения художественного мира произведения, автор сужает содержание, спектр, палитру своего произведения.
Убедительность, рациональность моральной аргументации – вот те задачи, которые стоят перед писателем. И эти задачи надо решать.
И эти задачи надо решать.
Уход по ту сторону добра и зла — это уход от воспитательной функции литературы. Демонстрация безразличия к миру и читателю. Это демонстрация авторской человеческой робости, авторской человеческой бедности, отсутствия своей позиции, своего морального Я. Это также демонстрация и художественной несостоятельности, неспособности преодолеть субъективизм собственной авторской оценки перед лицом потребности в объективном отображении моральной ценности. Отказываясь от нравственного посыла, вставая по ту сторону добра и зла, автор порывает и с отечественной литературной традицией. Он превращает свое произведение в фотокарточку (живописание мужиков и медведей), в то время как специфика художественного творчества взывает не к бесстрастности, а напротив, к заинтересованному и неравнодушному взгляду на действительность.
Внеморальность чревата и эстетической бедностью. Изгнание морального из литературы, превращение ее в простое, безразличное, равностороннее высказывание в смеси доброго и злого — признак искусственности, признак того, что литература, в очередной раз выходя на брань с литературщиной, приходит, в конечном счете, к изгнанию из литературы жизни. Тем самым происходит истончение и обессмысливание литературы, литературное самоубийство.
Тем самым происходит истончение и обессмысливание литературы, литературное самоубийство.
Сергей Морозов. Мораль и литература
Мораль и литература
Тема литературы и морали, соотношения этического и эстетического стара как мир. В первую очередь, это, конечно, тематика эстетического характера. Решение ее, так или иначе, связано с определенными эстетическими воззрениями: представлением о прекрасном, о художественном идеале, о сущности и назначении поэзии, отношении искусства к жизни вообще и социальным потребностям в частности. Человек и искусство – еще один значимый ее аспект, ведь идея дегуманизации искусства, выдвинутая в одно время как лозунг его совершенствования, развития, избавления от всего наносного с течением времени переоформилась в обоснование отхода от моральной эстетики.
Общее, распространенное мнение относительно темы «мораль и литература» как раз лежит в этой плоскости – искусство должно давать внеморальное изображение действительности.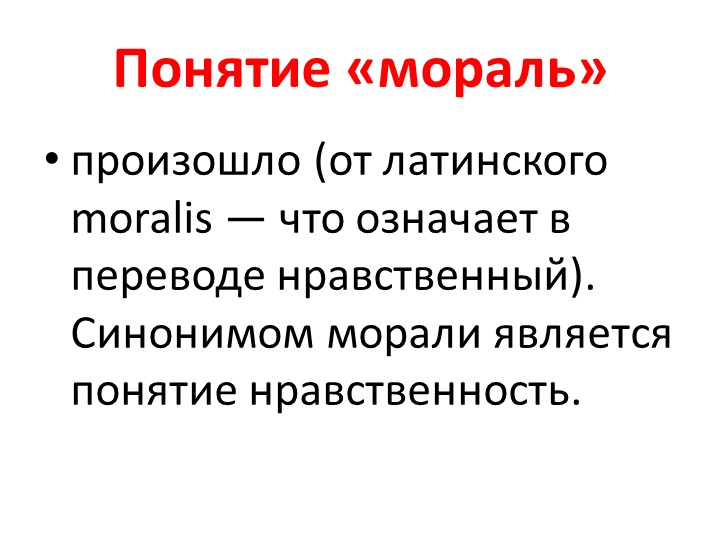
Однако дело тут не только в эстетике. Противопоставление морали и литературы — уже само по себе признак искаженного восприятия действительности. Оно исходит из трактовки морали как чисто субъективной оценки, как некоего прибавления к имморальной действительности. Но то, что художественное произведение, автор должны стоять по ту сторону добра и зла, не навязывать читателю суждений морального толка, предоставляя это делать ему самому – глубочайшее заблуждение. Сам факт существования художественного произведения — это факт, в том числе, и морального характера.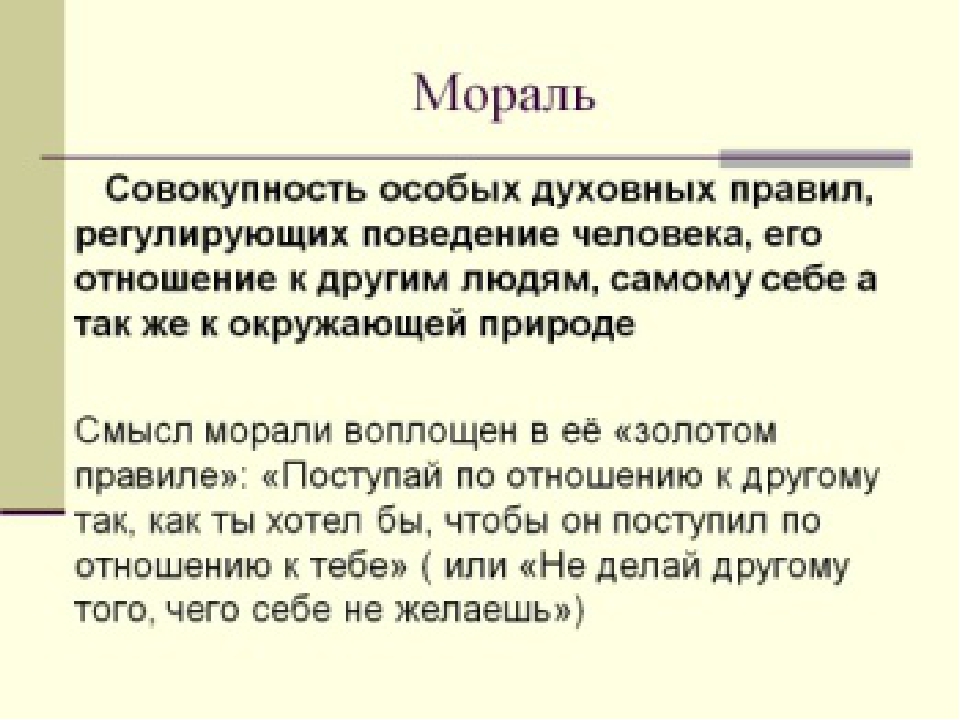
Мораль – как регулятор отношений, этика как набор теоретических представлений о добре и зле связаны с действительностью непосредственно, эти понятия отмечают присущее ей состояние в определенном, нравственном аспекте.
Другое дело, что они, понятия морали, предполагают свободную интерпретацию со стороны автора и культуры.
Исходя из этого следует учитывать, что моральная нагруженность литературы не означает ее нравственности только в классическом позитивном понимании нравственности. Мар, Каменский, Арцыбашев, если вспомнить русскую литературу начала XX века, тоже выступали с определенных моральных позиций. Однако позиции эти были довольно далеки от того, что обычно понимается под моральным. Проповедь вседозволенности, сексуальной распущенности, воли к жизни, равно как и воли к смерти у них – это тоже своего рода моральная проповедь.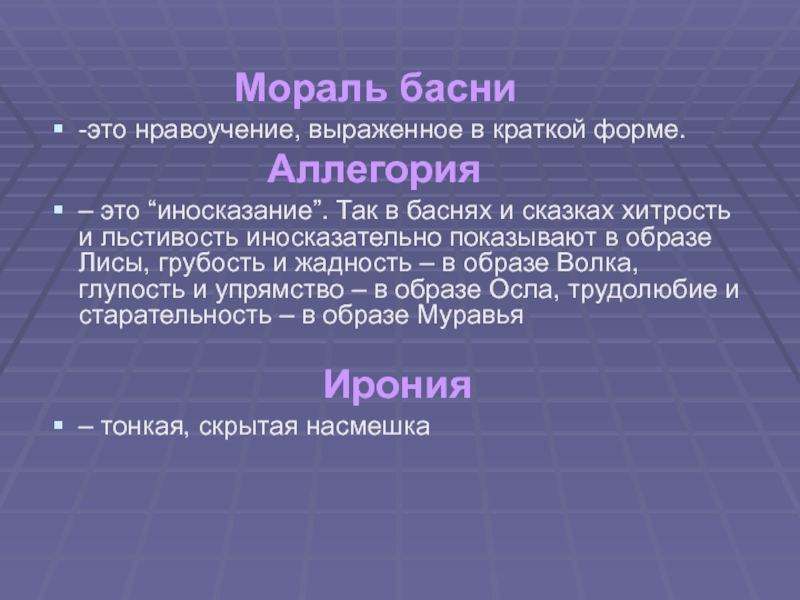
Таким образом, взаимосвязь литературы и морали проявляется в том, что классическая мораль добра, даже будучи отвергнута в качестве устаревшей и потерявшей актуальность, сменяется не пустотой, а этикой нигилизма и релятивизма. Перед нами не крах морального в литературе, а его подмена, которая в итоге оборачивается уходом от последовательного, системного, рационального отношения к моральным ситуациям в сферу ситуативного и туманного, субъективного, произвольного, нечеткого. Но даже такой уход, стоит еще раз повториться, не есть уход от морали, а лишь сдвиг в сторону другой ее формы.
Идея морали, в общепринятом христианском и следующим за ним классическом гуманистическом понимании, неразрывно связана с идеей роста, развития, преображения. Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.
Последние видятся априорными задачами человека и общества, они неразрывно связаны с его сущностью. Отказ от этих задач и стоит за критикой морального начала в литературе. Быть как есть, соответствовать не идеалу, а текущему моменту – вот что лежит за отказом от моральной составляющей. За этим следует остановка в индивидуальном и социальном развитии. Но отказ от идеи развития опять-таки означает не переход на внеморальную точку зрения, а лишь переход к морали, которая выражает идею застоя и деградации.
Этика всегда апеллирует к разуму. Собственно развитие морального сознания всегда выступало моментом развития рациональности в целом. Цельная форма рациональности должна охватывать не только прагматическую и технологическую составляющую, не только форму, но и содержание. Отказ от морали в этом аспекте знаменует повреждение и в рациональности. Протестующий против морали демонстрирует пример пошатнувшегося внятного сознания, распавшейся на составные связной мысли. Ослабление разумного начала проявляется, также и в ослаблении аргументации в пользу морали, которое происходит в литературном морализаторстве, которое подменяет создание убедительных и внятных образов поверхностными моральными сентенциями. Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.
Аргументация не от разума и бытия, а от мелкого Я и исключительно эмоций — все это также отражение деградации морального в искусстве.
Отказ от рационального начала, отход от моральности как жизненности, переход к морали как чистой субъективности – это ошибка моральной партии в культуре и в литературе, которая влечет за собой переход к деградационному типу морализаторства, впадению в казенную, безжизненную и мало кем воспринимаемую в силу этого «духовность».
Стремление к моральной беспристрастности, как и стремление к назидательности, морализаторству — две формы проявления убежденности в искусственности и нежизненности морали.
Вообще же, говоря о морали и искусстве, мы имеем перед собой достаточно простую классификацию. С одной стороны, находится литераторы, демонстрирующие отношение к морали как к чисто субъективному явлению, понимание ее как субъективной оценки. Они разделяются на две группы – показных имморалистов, на самом деле бессознательно фиксирующих свои субъективные моральные предпочтения, и сознательных морализаторов.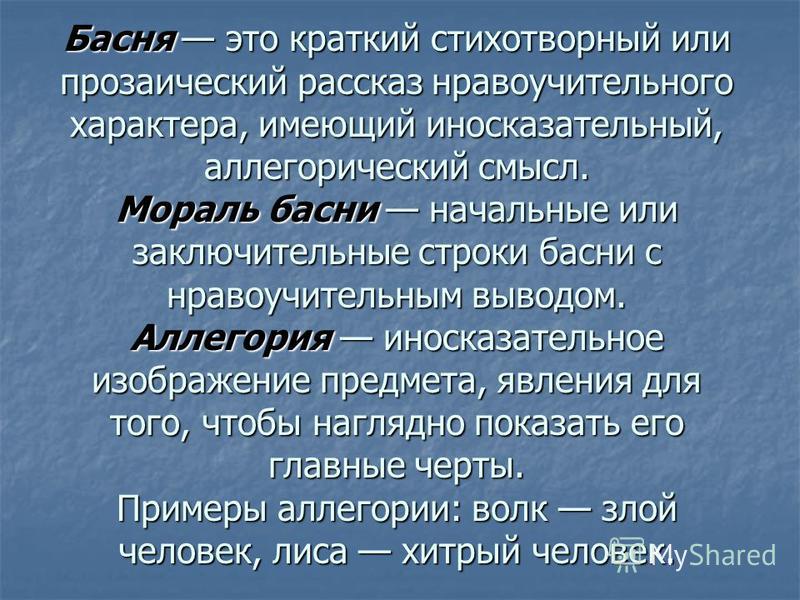
Другой род писателей – эта те, кто признает начало нравственности за самой жизнью, те, для кого моральность выступает как жизненность, как нечто неотъемлемое от самой объективной действительности. Абстрактно здесь также существует разграничение, на тех, кто проводит моральную точку зрения полноценно, через весь художественный мир в целом, окрашивая его в моральные тона и тех, кто делает это частично. Здесь мораль как жизненность может быть представлена как идеал, как утопия. При том, утопия может иметь ретроспективный и перспективный характер, обращена в прошлое и в будущее. Пример первого – Обломовка у Гончарова, шмелевские, зайцевские книги о детстве, второго, обращенного в будущее – любая традиционная утопия. Моральная точка зрения может быть проведена и частично – как изображение в моральных тонах либо отдельных сторон действительности, либо положительного героя, действующего в негативных обстоятельствах. Примеров последнего в литературе достаточно — от хрестоматийного купринского «Чудесного доктора», шмелевского «Человека из ресторана» до современных образчиков такого рода прозы в виде «Полосы» Р. Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».
Сенчина, или последних романов Ю. Бондарева «Непротивление», «Милосердие».
Парадоксальность морального воззрения на действительность может заключаться в том, что сам моральный взгляд на действительность может быть реализован через концентрированное изображение отпадающего или отпавшего от морали мира. Классический образец в этом смысле – роман Д. Стейнбека «Зима тревоги нашей», в котором моральный взгляд не перетекает в морализаторство, а читатель ощущает нарастающий в американском обществе распад нравственности, затрагивающий самые глубины общества и человеческой души. Иного плана моральная точка зрения вырастает из граничащего с порнографией романа Д. Балларда «Автокатастрофа», в котором именно подробное и натуралистичное живописание порока изматывает читателя и подвигает его к моральной позиции, заставляет ощутить духоту, бесчеловечность, катастрофичность, безжизненность мира, лишенного нравственного основания.
Но самая сложная задача – живописание становления морального в мире, перехода мира к моральной точке зрения. Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.
Так, поздний роман Т. Уайлдера «Теофил Норт» демонстрирует не просто моральное измерение настоящего, что уже само по себе не мало, ибо моральность обычно связывается не с настоящим, а с прошлым или будущим. Автор показывает, как и каким способом утверждается и проводится добро в саму несовершенную действительность, как оно становится реальностью. По сути, здесь убедительное решение той проблемы, с которой оказался не в состоянии справиться Гоголь, и с которой совершенно не справился впавший в морализаторство Толстой. У последнего мы находим, в сущности, проповедь нравственности без нравственного осознания. Это проявление субъективизма и своеволия. Субъективизм и моральный идеал автора, а не отображение морального кровотока самой реальности. Поэтому последние произведения его оказываются на редкость безжизненными и ходульными, а объявленная война морали с эстетикой смотрится и вовсе чем-то несуразным.
Примеров субъективного морализаторства в нашей литературе последних лет достаточно.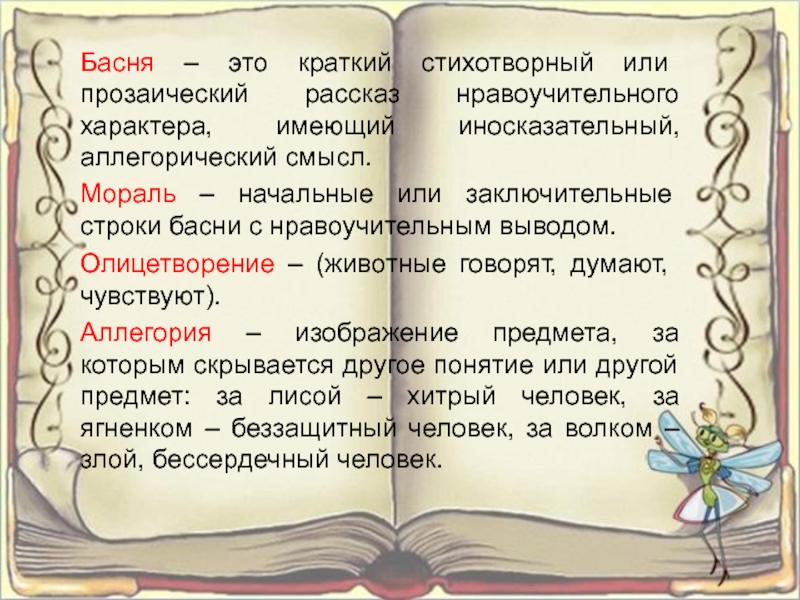 Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.
Наиболее показательное в этом смысле произведение – роман Д. Гуцко «Бета-самец», представляющее собой развернутый и морально неубедительный суд героя над самим собой. Столь же пристрастны, столь же упорствуют в моральном насилии над читателем А. Проханов и М. Кантор, А. Варламов. Разнятся лишь его формы. У Кантора морализаторство гиперинтеллектуально и выступает оборотной стороной едких сатирических картинок отрицательных человеческих типов, недостойного человека образа жизни, так называемой богемы и прогрессивной общественности. У Проханова оно носит взволнованно-моралистичный характер. Варламов дает волю в «Мысленном волке» поморализировать своим героям.
На моральном распутии находится П. Беседин, из соображений правды жизни и под влиянием эмоций качающийся от морализаторства к откровенному имморализму.
Достаточно ярким примером последовательного стояния по ту сторону добра и зла, подтвержденного недавним интервью каналу «Россия24» является проза Прилепина от самого начала, от «Патологий» и до «Обители». В той же плоскости находится недавняя книга М. Степновой, с говорящим названием «Безбожный переулок».
Нащупывание объективной твердой онтологической почвы под моралью просматривается в последних произведениях С. Шаргунова, Р. Сенчина. Первый в романе «1993» возвращается к классической для русской литературы теме выбора, второй через подробное и скрупулезное исследование человеческих характеров, человеческой судьбы в условиях социального бедствия («Зона затопления»).
Острота нравственного конфликта задает нерв всему повествованию. Она волнует читателя, заставляет сопереживать. Мертвенность повествования определяется отсутствием нравственного нерва. Пошел, поехал, сделал, поговорил. За чем тут следить? Чему сопереживать? Для чего читать? Отказываясь от морали как обязательного измерения художественного мира произведения, автор сужает содержание, спектр, палитру своего произведения.
Убедительность, рациональность моральной аргументации – вот те задачи, которые стоят перед писателем. И эти задачи надо решать.
Уход по ту сторону добра и зла — это уход от воспитательной функции литературы. Демонстрация безразличия к миру и читателю. Это демонстрация авторской человеческой робости, авторской человеческой бедности, отсутствия своей позиции, своего морального Я. Это также демонстрация и художественной несостоятельности, неспособности преодолеть субъективизм собственной авторской оценки перед лицом потребности в объективном отображении моральной ценности. Отказываясь от нравственного посыла, вставая по ту сторону добра и зла, автор порывает и с отечественной литературной традицией. Он превращает свое произведение в фотокарточку (живописание мужиков и медведей), в то время как специфика художественного творчества взывает не к бесстрастности, а напротив, к заинтересованному и неравнодушному взгляду на действительность.
Внеморальность чревата и эстетической бедностью. Изгнание морального из литературы, превращение ее в простое, безразличное, равностороннее высказывание в смеси доброго и злого — признак искусственности, признак того, что литература, в очередной раз выходя на брань с литературщиной, приходит, в конечном счете, к изгнанию из литературы жизни. Тем самым происходит истончение и обессмысливание литературы, литературное самоубийство.
Сергей Морозов
Источник: журнал «МОЛОКО» №10, 2014
← Вернуться к спискуИскусство и мораль — Вопросы литературы
В. Д. Днепров, Литература и нравственный опыт человека. Размышления о современной зарубежной литературе, «Советский писатель», Л. 1970, 424 стр.
Книга В. Днепрова не принадлежит к литературно-критическим работам обычного рода: размышлениям о писателях и книгах автор предпосылает заголовок: «Литература и нравственный опыт человека». Уже сама постановка вопроса вызывает немалый интерес – проблемы морали находятся сегодня, в большей мере, чем еще недавно, на острие идеологических споров. Привлекает внимание и круг имен и явлений искусства, затронутых в книге В. Днепрова. Мы встречаемся здесь с весьма разными художниками современного Запада, которые вошли у нас в широкий читательский обиход за последние полтора десятилетия и породили немало вопросов и немало споров, – среди них Брехт, Сент-Экзюпери, Сартр, Камю, Феллини, Грин, Бёлль.
Высокая «плотность» жизненного материала, воплощенного в творчестве этих художников, позволяет исследовать нравственную проблематику с большой наглядностью. Вместе с тем предметом анализа становится и то, насколько верно и исчерпывающе отразилась в их книгах действительность, сильные и слабые стороны мировоззрения писателей. Совмещение этих двух планов создает своеобразный «стереоскопический эффект», делающий исследование В. Днепрова чрезвычайно содержательным и, я сказал бы, увлекательным.
В. Днепров справедливо говорит, что в искусстве наших дней идеи чаще, чем раньше, открыто вводятся в ткань произведений, становясь непосредственными «образообразующими» факторами. И не менее справедливо утверждение, что писатель «не только проводит свою нравственно-философскую идею сквозь образы, он одновременно испытывает ее соприкосновением с жизнью, сопротивлением жизненного материала». Чем талантливее писатель, чем художественнее его произведение, тем больше «поправок» может внести в его идею действительность. С другой стороны, нравственно-философская идея, повернувшись своей ошибочной стороной, может и сломать логику образа, нарушить правду жизни.
Построение книги В. Днепрова определяется основным ее замыслом – охарактеризовать три главные бытующие сегодня концепции морали: субъективистскую, исходящую из предпосылки, что нравственность заложена в каждой данной отдельной личности; религиозную, признающую нравственность только божественную, изначально данную; и наконец, марксистское понимание нравственности, предполагающее ее общественную обусловленность. Защита марксизма от ложных и враждебных обвинений в «утилитарности» подхода к нравственным проблемам или «утере человеческой личности», утверждение коммунистической морали, носители которой «образуют ныне нравственный хребет человечества», – вот что определяет основной пафос книги.
«…Если фантазия художника, – говорит В. Днепров, – не расходится с логикой жизни, если художник неуклонно следует за жизненной правдой, – его творения подтвердят не субъективистскую, не христианскую, а коммунистическую мораль».
Нравственная проблематика труднее, чем другие общественные явления, обнаруживает свое конкретно-историческое и классовое происхождение; диалектика «вечного» и «сиюминутного» в понятиях добра и зла часто бывает зашифрована, мистифицирована. Важная сторона книги В. Днепрова – стремление провести Историзм как основной принцип исследования. «Добро связано с условиями и формами человеческого общежития, с растущей из социального бытия глубочайшей потребностью в истинно человеческих отношениях, – говорит автор. – Интересы угнетенных классов – жизненный базис идеи добра. Движения угнетенных классов определили главные исторические фазисы этой идеи».
Произведения, рассматриваемые в книге, принадлежат по большей части к весьма сложным явлениям духовной жизни нашего времени; их авторам свойственны кричащие противоречия, и реалистическая сила их нередко бывает ограничена ложными взглядами и представлениями. С большой страстью выражая в своем творчестве исчерпанность буржуазного миропорядка и тоску по подлинной человечности, эти писатели в той или иной мере бывают несвободны от предрассудков и даже враждебного отношения к миру социализма, который им очень мало знаком. Давление антикоммунистической идеологии сказывается здесь подчас самым непосредственным образом.
Умение раскрыть в конкретном анализе диалектику мировоззрения художника и его творчества, замысла и воплощения – одна из наиболее сильных сторон книги В. Днепрова. Жанр ее можно было бы определить как «философское эссе» – явление в нашей литературной жизни редкое. В. Днепров владеет им мастерски, выработав свой собственный стиль – свободное изложение мысли, основанное на скрупулезном анализе художественной ткани произведения и в то же время насыщенное широкими параллелями и сравнениями, подчас неожиданными. Следуя ходу своей мысли, В. Днепров свободно переходит от Джона Апдайка к Бертольту Брехту, от Генриха Бёлля к Джеймсу Джонсу и Уильяму Фолкнеру, от фильма Анджея Вайды к рассказу Томаса Манна и т. д.
Конечно, при таком методе нельзя дать исчерпывающую характеристику творческого пути того или иного писателя, но это и не входило в замысел автора, и сам выбор произведений, рассмотренных в книге, не предполагал историко-литературных задач. Что же касается особенностей идейно-нравственных концепций и их объективного смысла, то они выявляются при таком анализе необычайно наглядно.
Замечу тут же, что в книге есть места, где, думается, автор не избежал опасностей, таящихся в сопоставлении – на основе «идеологической ассоциативности» – разных произведений искусства, возникших подчас в весьма несхожих условиях. Произвольным выглядит, например, разговор о романе Хемингуэя «По ком звонит колокол», служащий «предпосылкой» анализа творчества Сент-Экзюпери, явно искусственно сближение Брехта и Пикассо на основе «остроугольности» высказываемых ими истин или Сент-Экзюпери и Гаршина на том основании, что и тому и другому свойственны «личное обаяние», «готовность выразить себя беззаветно, нисколько не думая о производимом впечатлении», и «полнейшая сосредоточенность на нравственных вопросах – без всякой боязни односторонности или узости». Иногда явления, разновеликие по своему месту в духовной культуре человечества, будучи взяты только в их идеологическом аспекте, как бы уравниваются в ходе анализа.
О творчестве Бёлля в советской критике написано много. Но, кажется, еще никто не рассматривал его книги с точки зрения заложенной в них религиозной идеи. Конечно, содержание этих книг неизмеримо шире, и для абсолютного большинства советских читателей эта их сторона несущественна, если не сказать – совершенно чужда. Советский читатель воспринимает нравственную проблематику книг Бёлля вне идеи бога и видит их притягательную силу в правдивости характеров и ситуаций, в ненависти к силам угнетения и социального зла – прежде всего к немецкому фашизму и милитаризму, – в защите страдающих и угнетенных. Между тем для самого Бёлля вопросы религии имеют первостепенное значение. И когда Бёлль протестовал против того, чтобы его называли «католическим писателем», он имел в виду не собственно веру, а официальную католическую церковь, к служителям и догматам которой он относится с нескрываемой ненавистью. Католик, ненавидящий католическую церковь! В. Днепров показывает, что эта позиция, парадоксальная только на первый взгляд и характерная не для одного Бёлля, но и для ряда других европейских писателей, коренится в объективных процессах нашего времени, вызвавших кризис христианства и религиозной морали; немалую роль в этом кризисе сыграло сотрудничество римского папы с Гитлером.
В центре всех книг Бёлля, содержащих «жестокую реалистическую критику послевоенной немецкой действительности», стоят люди несломленные, не сдавшиеся фашизму. Писатель находил их в реальной жизни, и поэтому книги Бёлля становились реалистическими произведениями. Доказывая эту мысль, В. Днепров особо выделяет тех героев, с которыми связана идея нравственной необходимости активного действия. Но, тщательно анализируя их поступки и мысли, соотнося их со всей образной системой произведения и поверяя реальной жизнью, В. Днепров показывает, что эти герои, в которых автор вкладывает христианскую мораль, пусть обновленную, дают основание «не только для высокой нравственной оценки, но и для серьезной нравственной критики», И есть в книгах Бёлля места, где, ограничивая возможности своего реализма, автор начинает подвергать созданные им ситуации не действительному, а, как говорит В. Днепров, «религиозному анализу».
Проблемам современного католицизма уделено в книге В. Днепрова много внимания; они ставятся не только в связи с творчеством Бёлля, но и в ходе анализа нашумевшей в свое время драмы Рольфа Хоххута «Наместник» (в ней непосредственно речь идет о соглашении, заключенном папой римским – «наместником» бога на земле – с Гитлером), и в главе, посвященной Грину. Творчество этих писателей позволяет В. Днепрову показать особенности кризиса католицизма наших дней. Идеи Тейяра де Шардена, пытавшегося соединить католицизм с современной наукой и заимствованиями у марксизма «обновить» христианское миросозерцание, он справедливо трактует как попытку католицизма приспособиться к новым условиям.
В ходе полемического разбора одного из романов Грина В. Днепров замечает, что истолкование романа, которое он дает, может, по-видимому, отличаться от истолкования, которое дал бы сам автор. Но это явление неизбежное, поскольку мы «исходим из реальности романа, а не из намерений художника, а еще и потому, что роман, написанный верующим христианином и католиком, мы читаем глазами атеиста и марксиста». Замечания подобного рода сделаны и в связи с творчеством других писателей. Здесь затронут важный вопрос, заслуживающий всяческого внимания. При всей общности процессов, идущих в современном мире, читатели, выросшие в условиях социализма, неизбежно будут иметь свой угол зрения на книги, возникшие в других условиях. В. И. Ленин, конспектируя «Науку логики» Гегеля, заметил: «Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически» . Отталкиваясь от этой мысли, В. Днепров пишет: «Люди нашей страны читают западных писателей социалистически, то есть в ассоциации с проблемами социалистического развития. Западные критики, говоря об отличии репутаций одних и тех же писателей у них и у нас, склонны рассуждать о провинциализме оценок, совершенно не улавливая глубокого и эстетически поучительного смысла этих отличий. Так что истинно художественная литература Запада получила в социалистических странах свою особую, свою вторую историю, которая должна еще быть написана».
Много интересного и нового говорит В. Днепров и по поводу современного атеистического экзистенциализма. Подробно разбирая произведения Сартра и Камю, он показывает непреодолимые препятствия, которые встречает на своем пути идеалистический субъективизм при попытках ответить на вопросы нравственности. Последовательно доведенный до логического завершения, он может подразумевать только разрыв с другими людьми (по формуле Сартра: «Ад – это другие»), а такая точка зрения постоянно грозит оказаться, говоря словами В. Днепрова, «в опасной близости к точке зрения Ницше».
Прослеживая зигзаги идейной эволюции Сартра, В. Днепров показывает, что идеалистический субъективизм, остававшийся всегда основой его мышления, постоянно заводил его в вопросах нравственности в тупики неразрешимых противоречий. Как ни разнится современный атеистический экзистенциализм от религиозных учений, есть в них нечто общее – выключение моральных предпосылок из конкретно-исторической ситуации, признание ее норм «вечными», будь это нормы божественной морали или морали субъективной, творимой каждым человеком «заново».
«Чума» Камю, созданная в первые послевоенные годы, отразила опыт победно закончившейся антигитлеровской войны. «Нравственный пессимизм», свойственный книгам экзистенциалистских писателей, сменяется в ней, говоря словами В. Днепрова, «оптимизмом относительно человека» – но только относительно человека, а не его судеб в мире. Мир в восприятии Камю оставался «абсурдным», и «чума», неизвестно откуда пришедшая и неизвестно почему ушедшая, может расшифровываться в романе не только как прозрачное метафорическое определение фашизма, но и как жизнь «вообще». При всей нашей симпатии к неискоренимой человеческой добродетели и внутренней силе, которой Камю наделяет своих героев, нельзя не заметить ложности нарисованной им картины мира, в котором есть зло, но нет злых, в котором человек обречен на стоическую борьбу против непознаваемого и слепого хода истории. Логическим следствием этой позиции, как показывает В. Днепров, становится отождествление любого насилия – будь то насилие реакционное или революционное – со злом как частью абсурдного и враждебного человеку мира. Убедительной полемике против этого ложного взгляда, ставшего сегодня расхожим тезисом буржуазной литературы, уделено в книге В. Днепрова много внимания.
Отчетливо поставить вопрос об исторически-конкретном понимании нравственности позволяют автору пьесы Брехта. Все творчество Брехта, вся система его мышления проникнуты стремлением расшатать устоявшееся, старое – буржуазное – представление о морали. Его пьесы – особенно ранние – полны издевательств над, казалось бы, святыми человеческими чувствами – порядочностью, честностью, верностью и т. д. Все дело в том, что Бертольт Брехт дает в них, говоря словами В. Днепрова, тетину относительно лжи, истину в борьбе». Решающий вопрос заключается в том, кому выгодны добрые чувства – капиталисту выгодно, чтобы рабочий был «добрым», жандарму выгодно, чтобы революционер отказывался от насилия, и т. д. Брехт осуществляет, как говорит В. Днепров, своеобразную «критику добра», то есть «в самом условии задачи связывает вопрос о добром человеке с вопросом об изменении мира».
Особенности брехтовского реализма по-новому исследованы В. Днепровым. В стремлении содрать с действительности кожуру обманчивой видимости Брехт, по мысли В. Днепрова, идет «от сущности к форме проявления». Это значит, что у Брехта не явление дано, а суть задана, как мы обычно привыкли видеть у писателей-реалистов, но «суть дана, а явление задано»; оно на глазах у зрителя строится из движения жизнеобразующих сил. Раскрывая эту мысль на конкретных примерах, В. Днепров подробно показывает, с какой глубиной и блеском, с какой идейной целеустремленностью «конструирует» Брехт-реалист явления, меняющие свой смысл от различного классового и исторического наполнения, демонстрирующие всю опасность пассивности «маленького человека», беззащитность отвлеченной «доброты». Но драматургия Брехта, анализом которой завершается книга, позволяет В. Днепрову во весь голос сказать и об «активном добре». Здесь обретает конкретное наполнение эта важнейшая мысль всего исследования, без которой оно не могло бы существовать.
Книга В. Днепрова многопроблемна. Предметом анализа в ней становятся и произведения искусства, и работы теологов, стремящихся «подновить» христианство, и теории философов и историков культуры, в том числе учение Фрейда и его последователей, и т. д. Для оценки современной идеологической борьбы автор неизменно обращается к нестареющему оружию – взглядам на мораль классиков марксизма-ленинизма. Он постоянно сопоставляет нравственную проблематику разбираемых им книг с опытом строительства социалистического общества. Некоторые конкретные оценки и частные выводы могут быть оспорены; но бесспорно верное направление этой богатой материалом работы, в которой талант исследователя соединился с убежденной в страстной пропагандой марксистского взгляда на искусство.
Мораль и право. Уроки для родителей по обществознанию
Мораль и право дополняют друг друга. То, что в поведении людей не регламентируется правом, регулируется моралью и наоборот.Мораль для индивида – это правила и нормы поведения, которые могут как ограничивать его, так и помогать принимать решения в сложной и неоднозначной обстановке. Например, согласно морали, нужно помочь пожилой женщине, тогда как закон к этому не обязывает.
Мораль для общества – это способ сохранения себя. В любой успешной организации есть неписаный кодекс – свод правил поведения, которые называют корпоративной этикой.
Регулятором и исполнителем права является государство, а моральных норм – общество. Они взаимно дополняют друг друга, но часто их границы достойны отдельного рассмотрения.
Если обратиться к литературе, то можно отметить, что Анна Каренина не нарушает закон. Ее действия неподсудны, однако она преступила мораль общества, к которому принадлежала. И это стало её проблемой.
И есть обратный пример: Ленский и Онегин нарушили закон. Дуэль как способ выяснения отношений была запрещена. Монополия на насилие есть только у государства. Они нарушают закон, сами разбираются между собой, но их поступок не выходит за рамки морали их окружения.
Таким образом, мораль – это распространённое в обществе или каком-то его слое понятие, определяющее, что такое добро и зло, что такое правильное и неправильное поведение. Вас не будут судить за то, что вы не помогли беременной женщине, когда она выходила из автобуса и оступилась, но обществом это поведение порицается.
Нам известно, что чем больше общество, тем комфортнее жить. В нём присутствуют разделение труда, длинные технологические цепочки и, соответственно, все блага цивилизации. То есть жить нужно вместе, но у нас могут быть разные точки зрения по бытовым вопросам. Мораль и право обеспечивают спокойствие в обществе, создавая возможность проявиться каждому в тех границах, которые не будут мешать другим.
Мораль • Arzamas
Что такое хорошо в понимании древних греков и римлян
Рассказывает Андрей Россиус
Здравствуйте! Я редактор сайта Arzamas Ирина Калитеевская, и мы начинаем седьмую лекцию из курса, посвященного культуре античности. Как вы только что услышали, люди, читающие басни древнегреческого поэта Эзопа, не всегда могут понять, какую именно мораль он имел в виду. Конечно, в Античности это проблем ни у кого не вызывало — а значит, наши представления о добре и зле с тех пор довольно сильно изменились. Для того чтобы разобраться, как представляли себе хорошего человека обычные древние греки и древние римляне, мы обратились к Андрею Россиусу — доктору филологических наук, специалисту по античной философии.
Обе великие классические культуры дают нам достаточный материал для того, чтобы изучить два вида нравственных представлений, весьма несхожих между собой, которые, однако, еще сильнее отличаются от привычного нам уклада, находящегося под безусловным влиянием двухтысячелетней истории христианства. Греческая философия создала главнейшие и великие этические учения; само понятие «этика» как отдельный вид теоретической мысли — это создание греков, прежде всего Аристотеля, и сам термин «этика», то есть учение о нравственной философии, принадлежит Аристотелю.
Аристотель. Римская мраморная копия с греческого бронзового оригинала работы Лисиппа около 330-х годов до н. э. Museo nazionale romano di palazzo Altemps; Wikimedia CommonsУже начиная с Сократа мы наблюдаем рационализацию этических представлений. Сократ полностью интеллектуализировал эту сферу, и его знаменитые этические парадоксы — в частности, о том, что никто не может желать зла или творить зло добровольно — содержат в себе именно интеллектуалистическое начало. Еще дальше пошел в этом направлении Платон, который доказывал, что благо может быть только абсолютным и поэтому нет никакой разницы между благом индивидуальным и благом вообще; поэтому вопрос о ценностях — ключевой вопрос этики — решается им в таком универсалистском плане. Аристотель в гораздо более гибкой этической мысли создает эвдемонистическую этику Эвдемонизм (от греч. eudaimonia — «счастье») — этическое направление, согласно которому смысл человеческой жизни заключается в стремлении к достижению счастья., которая учит человека тому, каким образом достичь счастья, и показывает, что, при всех различиях в понимании счастья между людьми разной степени подготовленности и интеллектуального совершенства, можно установить некую иерархию и высшая степень счастья достигается тем, кто сумел достичь успеха в созерцательной жизни, в жизни, посвященной знанию. Стоики создают свое этическое учение вокруг представления о долге, о нравственно должном. Эпикурейцам принадлежит идеал безмятежной мудрости и способности мудреца пребывать в полнейшей независимости от внешних обстоятельств.
Сократ. Римская копия с греческого оргинала работы Лисиппа около 320-х годов до н. э. Glyptothek, Munich; Wikimedia CommonsВся эта пестрота этической мысли возникла не на пустом месте. Естественно, фоном для деятельности каждого из великих мыслителей было то, что он мог встречать в повседневной жизни, в литературе и во всей традиции — так сказать, в воздухе культуры, которым он питался. Каков же этот культурный материал, какова эта нравственная мысль?
Она в древнейшее время, естественно, теснейшим образом оказывается связана с религией. Еще знаменитый английский ученый Эрик Доддс в середине XX века сформулировал до сих пор широко принятую теорию, которая противопоставляет два типа обществ: общество стыда и общество вины. Классическим обществом стыда в древнюю эпоху Доддс как раз и называет древних греков. В основе социального контроля в таком обществе лежат понятия гордости и чести. Главную роль в них играет то, как поступки выглядят — в отличие от индивидуальной совести, которая регулирует нравственную жизнь индивида в так называемых обществах вины, каковы в первую очередь все христианские общества.
И надо сказать, что те памятники, которые есть в нашем распоряжении, в целом — особенно если полагаться на первые впечатления — подтверждают это наблюдение. Мы видим, что гомеровский герой (а гомеровские тексты — это наш древнейший источник, к счастью весьма пространный, поэтому материала много) прежде всего желает превзойти других и завоевать почет в жизни и славу после смерти. Связано это с тем, что представления о загробном существовании совсем не таковы, каковы они в христианстве.
Гомеровский герой, грек этой архаической эпохи, после смерти превращается в некую бледную тень: жизнь после смерти не продолжается, душа не умирает, но с утратой тела она может вести лишь убогое бесчувственное существование, без памяти, без способности вступать в общение с другими душами. Такое впечатление, что греки проводили в своей религии некий логический эксперимент: что будет с человеком, если останется его душа при удалении тела — тела как инструмента всей деятельности, всех восприятий, в том числе и восприятия зрительного, слухового, тела как инструмента мысли и чувств.
Такая перспектива, конечно, кажется довольно мрачной и неутешительной. Это означает, что рассчитывать на некую награду в загробном существовании никак не приходится. Поэтому главная забота героя (а герой — это человек, воплощающий некие общие чаяния, то есть это, видимо, некая идеализированная выжимка нравственных представлений любого человека древнейшей эпохи) заключается в том, чтобы в своей жизни успеть завоевать достаточный почет и славу, чтобы эта слава пережила его и осталась после смерти.
Мы находим массу подтверждений этому в гомеровских поэмах. Так, в «Илиаде» Гектор, главный защитник Трои, перед поединком просит в случае гибели вернуть его тело родным для погребения — и говорит, что «и слава моя не погибнет». При этом он полностью отдает себе отчет в том, что его гибель телесно фатальна, что, по сути дела, никакого продолжения не будет. Агамемнон отмечает, что даже Гектор, сколь он ни отважен, рад будет уцелеть и спастись от ужасной войны. И когда Гектор, наконец, погибает, душа его, говорит Гомер, отлетает к Аиду в загробный мир, оплакивая свою участь и расставаясь с юностью.
В знаменитом эпизоде гомеровской «Одиссеи» — посещении царства мертвых — Одиссей встречает погибшего героя Эльпенора, и душа его молит Одиссея о том, чтобы тот позаботился о погребении его тела близ моря — на память и в назидание потомкам. В загробном мире ему дорого то, что связывало его с жизнью и что может напомнить о нем в этой жизни, даже если к жизни нет никакой возможности вернуться.
Моральным представлениям греко-архаической поры чужда идея всепрощенчества, прощения врагов: он не подставит другую щеку под удар. Знаменитая формулировка этого принципа, которую мы знаем из греческой трагедии, — это благоприятствовать друзьям и вредить врагам. Надо сказать, что эти представления, хотя они архаические по сути своей, продолжали жизнь свою и в более поздний, в классический период, когда уже появилась философия, и одновременно с нею.
Мы находим формулировки этого у современника Платона, знаменитого афинского писателя и полководца Ксенофонта. Вот что говорит он в «Воспоминаниях о Сократе»:
«Достоинство человека видишь в том, чтобы друзьям делать больше добра, а врагам больше зла» Пер. Сергея Соболевского.
Фукидид в своей «Истории» говорит:
«Кинемся яростно на злейших наших врагов, которые находятся в таком замешательстве и которых предает нам сама судьба! Проникнемся при этом убеждением, что в полном согласии с законными установлениями поступает тот, кто желает покарать обидчика, кто считает своим долгом утолить жажду мести, что отразить врага — чувство, которое врожденно нам и которое доставит нам, как говорится, величайшее наслаждение» Пер. Федора Мищенко.
У того же Ксенофонта мы слышим и во всей силе звучащее представление о славе как о величайшем воздаянии и величайшей награде, которую способен получить человек в жизни. Вот что говорит он сам в автобиографическом повествовании о персидском походе:
«Ксенофонт, с одной стороны, был не прочь принять командование, полагая, что тем самым он добьется большего почета среди друзей, имя его получит больше блеска в его родном городе и, может быть, ему удастся принести какую-нибудь пользу войску. Подобные соображения побуждали его стремиться к единоличной власти. Но с другой стороны, когда он размышлял о будущем, таящем в себе неизвестность, и о проистекающей отсюда опасности потерять уже заслуженную славу, он начинал колебаться» Пер. Марии Максимовой.
В другом месте Ксенофонт говорит: «Самых приятных звуков — похвалы себе — ты не слышишь» Пер. Сергея Соболевского, — и Ксенофонт, мыслитель чрезвычайно внимательный к этическим проблемам, написавший целую большую книгу о Сократе, бывший учеником Сократа, здесь тем не менее вполне верен старинным представлениям.
Даже прозвучавших цитат из Ксенофонта достаточно, чтобы убедиться в том, что мотивом при совершении нравственного выбора оказывается отнюдь не представление о какой-либо награде в загробной жизни за достойное поведение или же, наоборот, вера в неизбежное наказание за совершенное в этой жизни злодеяние. Нет, при нравственном выборе человеком в первую очередь движут соображения славы, соображения внешние и касающиеся судьбы его, в том числе загробной судьбы, именно в этом мире.
Это не означает, что греческим богам чужда роль носителей справедливости: нет, безусловно, они справедливы, но пути божественные совершенно неисповедимы. И надеяться на бога не приходится. Справедливость их не нацелена на то, чтобы окормлять человечество, в отличие от Бога христианского. Человек должен в большей степени полагаться сам на себя, а не на божество. Посему человек и не склонен бывает винить бога в своих неудачах и в собственных дурных поступках, которые совершены в минуту заблуждения. Нет, у богов есть свои интересы, и эти интересы никоим образом не соотносятся с интересами человека.
Отсюда вытекают две интересные особенности: с одной стороны, люди, не полагаясь на богов, имеют гораздо более выраженное собственное человеческое достоинство по сравнению с достоинством божественным. В литературе мы видим множество примеров того, как человек оказывается способен на большее величие, на величие поступков и мыслей, нежели подчас довольно мелочные боги. А если говорить о героях как о воплощении неких нравственных чаяний обычного человека, то герой зачастую вступает и в состязание с богом, невзирая на то, что это состязание неизбежно ведет его к уничтожению.
Аполлон и Марсий. Картина Хосе де Риберы. 1637 год Аполлон наказывает Марсия сдиранием кожи за выигранное состязание в игре на флейте. Musées Royaux des Beaux Arts de BelgiqueДругая сторона того же самого заключается в том, что обычный человек, как правило, предпочитает не вступать в конфликт с божеством. А так как границы, за которыми начинается конфликт, неясны из-за того, что цели божества никому не известны, то в действие здесь неизбежно входит одна из главных греческих добродетелей, именуемая греческим словом sophrosyne, которое переводится на русский язык, в зависимости от эпохи и историко-культурного текста, по-разному — как «благоразумие», а в позднейшей христианской литературе как «целомудрие» (это, собственно, калька с греческого слова). Ну а для древнего периода, может быть, самым разумным переводом было бы, как предложил знаменитый английский филолог Хью Ллойд-Джонс, «надежный путь мысли» — тот путь мысли, который заведомо не ведет ни к каким эксцессам.
Таким образом, греки не разделяют восточных религиозных представлений о том, что мир есть зло по своей природе, и жизнь — это зло. С другой стороны, точно так же чужды им и сверхоптимистическое представление (допустим, руссоистское) о том, что мир всецело благостен. Они предпочитают идти по среднему пути. Отсюда существенно менее эмоциональный, даже в повседневной жизни, подход грека к нравственным вопросам. Это подход куда более интеллектуальный: грек склонен взвешивать и отмерять, а не поддаваться непосредственно чувствам, и поэтому ему совершенно не представляется дикой идея ответственности за поступок, которого он, может быть, и не совершал, потому что если справедливость была нарушена, допустим, его предками, то представление о том, что расплата даже в более поздних поколениях может быть справедливой, не вызывает у него никакого отторжения.
Точно так же и в суде вопрос о присутствии вины человека в совершенном им поступке отнюдь не играет той ключевой роли, какую он стал играть в современном судопроизводстве. Скорее важны последствия этих действий — и это объединяет судебный процесс с представлениями людей в повседневной жизни. Важны последствия того, что ты сделал, а не то, хотел ты хорошего или дурного. Ссылка на намерение, на незнание может в лучшем случае помочь спасти лицо, но никак не освободить человека от ответственности — даже в его собственных представлениях. И мы читаем, что, к примеру, сохранил нам Лисий, греческий оратор, в речи против Агората:
«Может быть, он скажет, что причинил столько несчастий против воли. А по моему мнению, господа судьи, если кто вам причинит большие несчастья, такие, выше которых ничего не может быть, хотя бы это было совершенно против его воли, это еще не причина, чтобы вам не наказывать его» Пер. Сергея Соболевского.
Аристофану такое общераспространенное отношение позволяет сатирически восклицать в комедии «Осы»:
«О многочтимые, простите, боги, мне!
Ведь я нечаянно! Характер мой иной» Пер. Адриана Пиотровского.
Итак, греки заботились о награде за свои дела, причем не после смерти, а уже при жизни. Награда эта — слава среди современников и память потомков. Для того чтобы заслужить ее, самое главное — это, во-первых, быть добрым к друзьям и мстительным к врагам, а во-вторых, быть благоразумным, чтобы не вызвать гнев богов и не навлечь беду на себя и своих потомков.
Такова в целом картина нравственных представлений греков, которая считалась достоверной на протяжении долгого времени. В ней есть свои привлекательные стороны, которые восхищали многих и многих исследователей и философов: конечно, это в первую очередь готовность нести за себя ответственность, большее мужество перед лицом смерти, большая готовность человека иметь дело с самим собой и с последствиями своих действий, нежели это свойственно христианской культуре.
Однако, как показали исследования, проведенные во второй половине XX века, эта картина неполная. И возникновение всех тех рационалистических, интеллектуальных этических учений, во многом подготовивших и христианство, было неслучайным, потому что семена этого нового этического подхода присутствуют уже и в повседневной греческой морали, в том числе и в архаические времена.
Были изучены некоторые литературные источники, на которые раньше обращали не так много внимания. Прежде всего это ораторская проза. В самом деле, гомеровская поэзия и трагедия неизбежно искажают нравственную картину — просто по той причине, что они по определению дают некий возвышенный, идеализированный образ происходящего, и героический взгляд на мир в них по определению выходит на первое место, он идеализируется и очищается от всех возможных примесей. Между тем неожиданно оказывается, что отличные от этого нравственные презумпции можно увидеть в произведениях ораторской прозы и одновременно с этим — в комедии. И полное совпадение этих нравственных предпосылок в двух столь несхожих жанрах может служить косвенным доказательством того, что речь идет действительно о реально имевшем место феномене. Благодаря этим данным открывается во многом неожиданная картина греческой морали, которая куда более привлекательна для человека, в том числе знакомого с моралью христианской.
Уже в самых ранних памятниках литературы мы видим, что неограниченное преследование своего интереса усмиряется не только санкцией общества и закона, но и религиозными верованиями и представлениями об этической норме, отсюда вытекающими. Самое общее слово «хороший» (agathos) изначально, казалось бы, применяется только к доблести, прежде всего к доблести военной: быть хорошим на войне, то есть удачливым воином, в том числе хорошо убивать. Но благодаря тому новому углу зрения, который открывает нам изучение ораторской прозы, оказывается, что и у Гомера это слово означает в том числе нечто хорошее, нечто доброе в нравственном смысле. Более того, оно употребляется не совсем так, как мы привыкли употреблять эти термины блага, в значительной степени под влиянием Платона и во многом воспитанного им христианского употребления. Это слово дополняется словами более конкретными. Например, слово «справедливый», dikaios, в определенных контекстах означает «хороший» и так далее.
Интереснейшим примером трансформации нравственных оценок могут служить элегии Феогнида из Мегары, поэта второй половины VI века до н. э. Феогнид знаменит как ярчайший представитель аристократических ценностей; его стихи в каком-то смысле даже очаровывают беззастенчивой искренностью, с какой их автор — представитель благородного сословия — выражает свое презрение к низшим от рождения: «хороший» для Феогнида — это прежде всего принадлежащий аристократии, «дурной» — относящийся к демосу Демос — гражданское население полиса. В эпоху архаики демос противопоставлялся аристократии; в конце архаического периода аристократия стала частью демоса. . Но и у Феогнида подобная нравственно-классовая оценка то и дело превращается в отвлеченно нравственную:
«Если бы нашим врачам способы бог указал,
Как исцелять у людей их пороки и вредные мысли,
Много бы выпало им самых великих наград.
Если б умели мы разум создать и вложить в человека,
То у хороших отцов злых не бывало б детей:
Речи разумные их убеждали б. Однако на деле,
Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь» Пер. Викентия Вересаева.
Еще отчетливее этот новый смысл звучит в таких строках:
«Добрые ж все принимают от нас как великое благо,
Добрые помнят дела, и благодарны за них» Пер. Викентия Вересаева.
Не только философам и поэтам, но в огромной степени и ораторам обязан своим становлением греческий моральный лексикон. В судебных речах идет непрерывная и непримиримая борьба одних ценностей с другими, без конца определяется, что есть добро, а что зло. Из судебного красноречия этот тип рассуждений во всё более отвлеченном виде переносится в иные виды риторики и становится одним из главных предметов едва ли не большинства речей. То, что прежде звучало порой невнятно, приобретает ясную логическую форму. Нравственные понятия делаются наконец однозначными и понятными для всех.
Когда мы читаем нравственные сентенции и обобщения в сочинениях Исократа, афинского оратора и теоретика красноречия, современника Сократа и Платона, а в чем-то даже соперника последнего, уже ничто не кажется нам странным и непривычным: так мог бы написать и автор XIX столетия, и наш современник. Эта способность речи, говорит Исократ, превознося ораторское искусство, установила «границы справедливого и несправедливого, прекрасного и постыдного»:
«…без этих разграничений мы не смогли бы вести совместную жизнь. Это с помощью речи мы изобличаем дурных и превозносим хороших, через ее посредство наставляем безрассудных и испытываем разумных, ибо умение говорить так, как следует, мы считаем величайшим признаком рассудительности, и в правдивом, честном и справедливом слове видим отображение доброй и справедливой души» Пер. Эдуарда Фролова.
И военные доблести — оказывается, что даже у Гомера это отнюдь не единственные добродетели, которые заслуживают одобрения. В действительности речь с самого начала идет вовсе не только о стыде, не только о внешнем, но и о чувстве вины, и подтверждением тому оказывается множество контекстов. Боги, конечно, не озабочены человеческим благом — они справедливы, но справедливость их состоит в том, что они требуют от людей должного почитания. Однако верховный бог, то есть Зевс, уже с самых ранних времен в качестве главной причитающейся себе почести требует того, чтобы люди поступали справедливо по отношению друг к другу.
Таким образом, картина оказалась несколько сложнее, чем представлялось изначально. В трагедии и гомеровском эпосе речь не идет об абстрактной справедливости, о хорошем и благом вообще, о добре как таковом, безотносительно стороны, которая ведет военные действия, но, как выясняется, это не значит, что у греков вообще не было таких представлений.
Теперь же перейдем к Риму.
Иную картину, столь же непохожую на христианскую мораль, но намного более ясную, чем то, что мы видим в древнегреческой культуре, можно наблюдать в Риме. Так как исторически Рим (в отличие от множества греческих городов-государств, каждое из них со своими традициями, установлениями), по сути дела, это один разрастающийся полис, то и картина нравов и нравственных представлений, которым следуют люди, куда более единообразна и внятна для нас.
Римское общество чрезвычайно консервативно и традиционно. Светоний сообщает о знаменитом эдикте — законе, который говорит о том, что всё, что не соответствует нравам предков, должно быть по возможности отвергнуто. Это как раз то самое понятие, которое обозначает набор традиционных нравственных представлений, лежащих в основе всего поведения в обществе: mos maiorum — «обычай предков».
Этот обычай вменяет сознанию граждан в качестве добродетелей и их противоположностей весьма определенный и четко структурированный набор качеств. И если эти качества рассмотреть последовательно, лучше всего становится понятно, насколько римское нравственное сознание отлично от того, что привычно нам. Интересно и то, что в Риме долгое время никакой философии не было — соответственно, не было и никакой теоретической мысли о нравственных вопросах, и это способствовало устойчивости традиционно принятой системы. Когда же философия в I веке до н. э. появляется, и это греческая философия, то весь ее к тому времени весьма разработанный и изощренный формальный аппарат приспосабливается к оформлению этой весьма сильной традиции. Благодаря этому мы можем видеть, что, к примеру, греческий стоицизм с его идеей должного, стоящей в центре всей этической системы, оказывается очень пригоден к римской идее государственного служения; эпикурейство же как позицию индивидуалистическую избирают те, кто чувствует себя в некоторой, может быть не слишком сильной, но оппозиции к официальному учению. Это прежде всего поэты, такие как Гораций и Вергилий, но и свободные мыслители: сам Цицерон бывает то стоиком, то эпикурейцем.
Каковы же краеугольные камни этого традиционного римского нравственного сознания, обычая предков?
Прежде всего это то, что именуется латинским словом pietas. Типичным переводом этого слова в христианском контексте будет «благочестие»; в римских же текстах мы должны переводить его, в зависимости от оттенков употребления, как «долг», «чувство долга», «верность», «твердость религиозного убеждения», «преданность», «сыновний долг» и так далее. Воплощение этой важнейшей добродетели — герой и основатель римской идентичности Эней, воспетый Вергилием в «Энеиде». Цицерон сообщает, что pietas — это добродетель, побуждающая нас исполнять долг перед отечеством и родителями, а также прочими людьми, связанными с нами родством. В другом своем философском сочинении «О природе богов» Цицерон определяет pietas как справедливое отношение к богам. С этим связана для современного человека трудность восприятия римского национального эпоса. Куда легче проникнуться симпатией к героям Гомера, выше всего ставящим личную доблесть, отвагу и стремящимся превзойти других и снискать посмертную славу, нежели к Энею — носителю чувства долга по преимуществу.
Бегство Энея из Трои. Картина Федерико Бароччи. 1598 год Эней бежал из Трои, вынеся на себе своего отца Анхиса и изображение пенатов (домашних богов), за что был пропущен эллинами из уважения к его благочестию.Galleria Borghese; Web Gallery of ArtС понятием pietas тесно связано другое, несколько более конкретно практического свойства: fides, или «верность», «надежность», — качество человека, которому можно доверять и на которого можно положиться. Предшественник Вергилия, эпический поэт Энний, характеризует этим словом проводника, от которого зависит успех либо погибель войска римского полководца Тита Фламиния: «Муж небогатый, но исполненный верности».
Столь же, если угодно, объективный, внеличный характер имеют такие добродетели, как religio и cultus. Содержание этих понятий весьма удачно передается русскими кальками обоих слов: «религия» и «культ». Само понятие «религия» изобретено римлянами, оно производится от глагола religo — «связываю». Речь идет об обеспечении связи между смертными и богами, о поддержании мира с богами, pax deorum, путем неуклонного следования принятому религиозному обычаю. Cultus же буквально — «почитание богов»: это правильное и неуклонное отправление внешнего религиозного ритуала. Конечно, присутствие среди важнейших добродетелей внешней ритуальной религиозности объясняет, как мог в позднейшие императорские времена возникнуть и благополучно насаждаться культ действующего императора.
Истинный римлянин должен был обладать непременно такими личными добродетелями, как constantia, «постоянство», и в особенности gravitas, «важность». Под «важностью» здесь следует понимать способность хранить невозмутимое и величественное самообладание вне зависимости от происходящих событий, сonstantia же характеризует упорство и неколебимость такого самообладания.
Гай Муций Сцевола противостоит царю Порсене. Картина Бернардо Каваллино. Около 1650 года Kimbell Art MuseumЗнаменитый легендарный исторический пример этих добродетелей — Гай Муций Сцевола. Во время осады Рима этрусским войском он был пойман при попытке убить предводителя врагов царя Порсену. В доказательство своей решимости и презрения к телу перед лицом долга он положил руку в огонь и держал ее там, пока она не обуглилась. Отсюда, собственно, его имя Сцевола — «леворукий». Человек, следующий по пути добродетели, сумевший воспитать в себе все вышеназванные свойства, обладает тем, что римляне именовали virtus (от слова vir — «человек», «мужчина»): это качество истинного мужа. Слово это, в новых языках ставшее обобщенным обозначением добродетели, у римлян имело, как мы видим, вполне конкретное смысловое наполнение.
Наконец, итогом жизненного пути, отмеченного добродетелью; добродетелями, если угодно, результативными становятся восхищающие римских писателей качества dignitas и auctoritas. Dignitas — буквально «достоинство» — это именно свойство человека, доказавшего, что на любом посту он умел служить образцом благочестия, долга, надежности, верности, самообладания и упорства — словом, был носителем всех тех вышеперечисленных добродетелей; во многих случаях слово dignitas можно было бы перевести как «репутация». Auctoritas же — это тот почет, который обеспечивается доброй репутацией и ничем иным.
Вот какова нравственная картина представлений древнего римлянина.
Итак, по мнению римлян, человек, который демонстрирует чувство долга, надежность, самообладание и упорство, почитает богов, правильное отправляет ритуалы, может быть назван «мужественным» и «достойным» и заслуживает почета. Все это довольно далеко от христианских представлений о добре и благе. Что же произошло, когда эта система ценностей столкнулась с христианством?
Неудивительно, что наступление и победа христианства влекла за собой конфликт между нравственной традицией старого Рима и интенсивно вырабатывавшейся новой системой ценностей. Когда господство христианской религии получает окончательное политическое закрепление, только отдельные чудаки решаются вспоминать об обычае предков.
Створка диптиха из слоновой кости, на которой изображено обожествление Квинта Аврелия Симмаха. Рим, 402 год © The British MuseumОсобенно примечательна фигура Квинта Аврелия Симмаха, государственного деятеля и ученого второй половины IV века н. э. Этому знатоку древней литературы новое время обязано сохранением некоторых важнейших памятников римской поэзии и прозы. В эпоху уже далеко зашедшего забвения классических произведений он один из немногих продолжал изучать старые рукописи, выбирал лучшие варианты и велел переписывать исправленный текст; нам известен ряд предложенных лично им вариантов поправок. В собственных же своих сочинениях он защищал древнюю религию и старые моральные ценности, видя в них залог величия Рима. Его современник, христианский поэт Пруденций, счел одинокий голос Симмаха столь опасным, что выступил против него с особым памфлетом, так и озаглавленном «Против Симмаха», где понятие, из которого составляется римское mos maiorum, он отвергает как не более чем предрассудок древних прадедов. Таков был конец системы римских добродетелей, долгие века служивший фундаментом всей римской цивилизации. Попытка отчасти воскресить ее была сделана лишь в эпоху Возрождения.
Это была последняя лекция из курса о том, что такое античная культура. До встречи!
Что еще почитать о нравственных представлениях в Древней Греции и Риме:
Апресян Р. Г. Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом обществе (на материале гомеровского эпоса). М., 2013.
Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.
Гусейнов А. А. Античная этика. М., 2011.
Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М., 1995.
Греческая философия: в 2 т. М., 2006–2008.
Ликбез № 2
Что такое античность
Ликбез № 2
Что такое античность
Примеры и определение морали
Определение морали
Произведенное от латинского термина « morālis », мораль означает сообщение, переданное историей, стихотворением или событием, или урок, извлеченный из них. Необязательно, чтобы это четко сформулировал автор или поэт. Его можно оставить на усмотрение слушателей или учащихся. Однако иногда мораль четко формулируется в форме пословицы.
Мораль рассказа — это универсальный аспект большей части художественной литературы, который не только развлекает, но также служит целям обучения, информирования и улучшения аудитории.Хор в классической драме, например, комментировал происходящее и обращался к аудитории. Романы Чарльза Диккенса, с другой стороны, обращаются к недостаткам социальной и экономической системы викторианской Британии, неся моральные принципы их собственного типа, которые неявны.
В детской литературе мораль вводится исключительно во фразе: «Мораль истории…» В современном повествовании эти явные приемы не используются, а используются ирония и другие приемы для ее передачи.
Примеры морали в литературе
Считается, что в большинстве случаев басни Эзопа содержат сильные моральные выводы. Однако почти во всех литературных произведениях есть мораль, которую нужно донести до читателей. Литературные произведения, ориентированные на детей, изобилуют уроками нравственности. Они дают детям положительные уроки и ориентиры на будущее. Такие изречения, как «дружите с тем, кто вам не нравится», «не судите людей по тому, как они выглядят» и «медленный и стабильный выигрывает гонку», как правило, являются уроками, которые можно извлечь из многих историй.
Пример № 1:
Лиса и виноград (Автор Эзоп)«Снова и снова он пытался отловить соблазнительный кусок, но, в конце концов, ему пришлось отказаться от него и ушел, подняв нос в воздух, говоря: «Я уверен, что они кислые».
Это заключительные строки, взятые из книги Эзопа «Лис и виноград» . Этим последним утверждением лиса выражает свою неприязнь к винограду, который она пыталась снова и снова схватить. В этой конкретной истории Эзопа обсуждается общая привычка людей, которые не могут признать свое поражение.Вместо этого они перекладывают вину на кого-то или что-то еще. То же самое и с лисой из этой истории, которая терпит неудачу после нескольких попыток.
Пример № 2:
Доктор Фаусту (Кристофер Марлоу)«Боже мой, Боже мой, не смотри на меня так свирепо!
Ольха и змеи дают мне немного вздохнуть!
Урод, черт возьми, не зевай: приходи, Люцифер:
Я сожгу свои книги: Ах, Мефистофилис! »
Можно легко обнаружить ужас и ужас, выраженные доктором.Фауст в своем последнем монологе. Его падение указывает на то, что, несмотря на то, что он был образованным человеком, он совершил большую ошибку, продав свою душу дьяволу. Его раскаяние в своих проступках приводит читателя к осознанию того, что путь дьявола обречен. История доктора Фауста символизирует вечную борьбу между добром и злом, а также пороком и добродетелью.
Пример № 3:
История Расселаса, принца Абиссинии (Сэмюэл Джонсон)«Передо мной мир; На досуге пересмотрю: конечно, счастье где-то можно найти … Счастье должно быть чем-то прочным и постоянным, без страха и без неуверенности.
В своем знаменитом романе «Расселас» Сэмюэл Джонсон рассказывает историю принца, который сбегает из долины счастья в поисках вечного счастья, которое в конечном итоге нигде не находит. И это моральный урок этой сказки.
Функция нравственности
В период с 1780 по 1830 год нравственность была связана с основной целью литературы, особенно литературы, написанной для детей. В 18 веке работы Джона Локка и Жан-Жака Руссо сосредоточили свое внимание на детях как читателях литературы.Однако, как было сказано Э. М. Форстером: каждая хорошая история имеет мораль, и каждая плохая история является моралью, теперь необходимо вывести мораль. Это потому, что в конечном итоге цель литературы — сделать мир лучше, что невозможно без обучения морали. Следовательно, мораль необходима литературному произведению, которое затем функционирует как основная суть любого литературного произведения.
Ученые Стэнфорда обсуждают моральные достоинства чтения художественной литературы
Стэнфордский отчет, 21 февраля 2014 г.Делает ли вас чтение литературы более нравственным? Ученые, выступающие на мероприятии Центра этики в обществе, говорят, что ответ зависит от того, кто читает.
Джастин Тэкетт
Гуманитарные науки в Стэнфорде
Этика в обществе
Стэнфордский семейный центр этики в обществе Маккой занялся вопросом о том, придает ли литература нравственность.
В последний раз, когда вы заканчивали роман или рассказ, ваши эмоции могли быть возбуждены, ваш интеллект проявился, или ваше любопытство было разочаровано. Но улучшилась ли ваша мораль?
Отношения между литературой и моралью — и их надлежащая роль — долгое время занимали философов, критиков и писателей.Но на недавнем мероприятии, организованном Стэнфордским Семейным центром этики в обществе Маккой, ученые-гуманитарии из Стэнфорда заявили, что, хотя литература способна открывать новые перспективы и бросать вызов нашим предположениям, пропаганда морали, возможно, не является одной из ее сильных сторон.
«Лучшее, что мы можем сказать о литературе, — это то, что ее влияние ненадежно», — сказал участник дискуссии Джошуа Лэнди, профессор французского языка и сравнительной литературы и содиректор Стэнфордской инициативы по литературе и философии.«Как говорят в профессии медика: результаты могут отличаться».
Организованный в рамках празднования 25-летия Центра, «Делает ли чтение литературы более нравственным?» была направлена на изучение «литературы и ее вклада в этическое мышление», — сказала директор центра Дебра Сац.
Философ и старший заместитель декана факультета гуманитарных наук в Стэнфорде, Сац сказал, что большинство людей читают литературу, чтобы получить образование, развлечься или испытать красоту и найти свой путь в жизни других, а не по моральным соображениям.Однако, по ее словам, эти самые цели могут также «служить моральным целям».
«Художественная литература помогает нам разработать дополнительные схемы, другие способы видеть мир, отличный от нашего собственного», — сказала участник дискуссии Паула Мойя, профессор английского языка и директор Программы современной мысли и литературы в Стэнфорде.
Литература, добавил Мойя, «блестяще подходит для исследования того, что значит быть этичным человеком в конкретной социально-исторической ситуации», ссылаясь на сложные дружеские отношения, изображенные в книге Sula Тони Моррисона, как на убедительный пример.
Художественная литература играет на наших эмоциях Эмпирический подход к этому вопросу был применен Дэвидом Киддом, кандидатом наук в области когнитивной, социальной и развивающей психологии из Нью-Йоркской школы социальных исследований, чья работа исследует взаимосвязь между вымыслом и сочувствием.
Он привел пять экспериментов, которые он провел со своим научным руководителем, профессором психологии Эмануэле Кастано. Участники читали различные подборки художественной литературы, и сразу же после этого их просили ответить на изображения выражений лиц как средство оценки «теории разума» участников, концепции из психологии развития.
«Теория разума или ToM — это способность делать выводы о мыслях и эмоциях других», — сказал Кидд. Высокоразвитый ToM соответствует сильному чувству сочувствия. Результаты экспериментов подтвердились: чтение художественной литературы улучшает ToM.
Однако высокоразвитый ToM не всегда означает доброту или еще одну мораль. На самом деле часто бывает наоборот. «У хулиганов очень развита ToM», — сказал Кидд. «В этом есть смысл. Если вы хотите эффективно манипулировать кем-то или беспокоить кого-то, это требует более глубокого понимания того, как работают его мысли и эмоции.«
Итак, хотя эксперименты не показали, что литература делает кого-то более нравственным, «единственное, что мы можем сказать наверняка, — это то, что художественная литература все усложняет», — заключил Кидд.
Литература как разрушительИ на самом деле, как заметил Мойя, с самых первых дней романа многие считали литературу «глубоко развращающей».
Согласно Лэнди, литература играет на наших эмоциях вместо того, чтобы давать нам рациональные причины для принятия новых убеждений, чтобы мы могли легко ими манипулировать.Заставить людей изменить свои убеждения на основе эмоций — не однозначно положительный момент: «Когда I делают это, это называется убеждением. Когда вы, , делаете это, это называется риторикой. Когда они делают это, это называется пропагандой. »
Лэнди добавил, что мораль не обязательно хороша для литературы. «Одна из моих любимых головокружений — это мысль о том, что литература либо улучшается с моральной точки зрения, либо бесполезна», — сказал он. «Есть много других вещей — чрезвычайно важных вещей, которые литература может сделать для нас», например, очаровать или утешить нас, мысленно тренировать, предлагать модели самовоспроизведения или просто возобновлять наш контакт с миром.
Вместо этого Лэнди предложил лучший подход к литературе — научить людей быть осторожными и избирательными во всем, что они читают. «Пусть правда делает свое дело. А если люди еще не способны отличить правду от лжи, помогите им. Развивайте их способность отделять хорошие аргументы от плохих».
Мораль также будет в центре внимания следующего мероприятия Центра Маккой, когда ученые обсудят вопрос «Приносит ли этика преподавания какую-либо пользу?» 1 мая.
Джастин Тэкетт — докторант английского языка в Стэнфорде.Чтобы узнать больше о гуманитарных науках в Стэнфорде, посетите the Human Experience .
Контакт для СМИ
Корри Голдман, директор по связям с общественностью по гуманитарным наукам: (650) 724-8156, [email protected]
Моральное значение художественной литературы и литературы
Как статистики, изучающие демографию, мы ожидаем, что рекорд будет побит к 2100 году.
Мы изучаем максимальную продолжительность жизни человека, используя подход, основанный на данных.Наше рецензируемое исследование, опубликованное в июне 2021 года, моделирует и объединяет два ключевых компонента: как снижается риск смерти после 110 лет и рост числа людей, достигших 110-летнего возраста в этом столетии.
Наш анализ этих двух факторов, который мы провели перед пандемией COVID-19, показывает, что почти неизбежно, что кто-то побьет рекорд Калмента в 21 веке с вероятностью 89%, что кто-то доживет до 126 лет, но только до 3 лет. % шанс, что кто-то доживет до 132 лет.
Споры о максимальной продолжительности жизни человека
Ученые активно спорят, существует ли фиксированный предел продолжительности жизни человека.
Некоторые биологи считают, что данные показывают, что старение — это не болезнь, которую можно вылечить, а неизбежный процесс, который нельзя полностью остановить, будь то медицинские открытия или другие средства. Некоторые демографы утверждают, что существует естественный предел продолжительности жизни, подразумевая, что максимальный возраст также выровняется.
Но другие думают, что есть веские доказательства того, что продолжительность жизни будет продолжать увеличиваться — по крайней мере, для немногих счастливчиков. Несколько известных биологов и медицинских экспертов недавно опубликовали результаты, предполагающие, что есть некоторая надежда на резкое увеличение продолжительности жизни с помощью медицинского вмешательства. Сверхбогатые технологические гиганты, такие как Илон Маск из Tesla и соучредитель Google Сергей Брин, вкладывают большие средства в такие исследования.
В 2002 году два демографа по имени Джим Оппен и Джеймс Ваупел заметили, что между 1928 и 1990 годами ограничения продолжительности жизни, предложенные ведущими демографами, были нарушены в среднем всего через пять лет после предсказания.Они также отметили, что выравнивание увеличения продолжительности жизни не должно определять наш взгляд на максимальную продолжительность жизни, поскольку это совершенно разные вещи — максимум — это не среднее!
Даже пара выдающихся демографов, выступающих за фиксированный предел человеческой жизни, С. Джей Ольшанский и Брюс А. Карнес, признали, что не существует возраста, в котором смерть является абсолютно неизбежной, оставляя открытой возможность постоянно нарушаться. записи о продолжительности жизни.
Сложности в изучении сверх долгих лет
Данные о «долгожителях» или лицах, достигших 110-летнего возраста, ограничены и часто имеют низкое качество.Существует проблема «предвзятости в отношении возраста» или склонности очень старых людей к искажению или преувеличению своего возраста. По этой причине мы использовали только данные из Международной базы данных о долголетии, коллекции тщательно проверенных записей о смерти для людей, достигших более старшего возраста.
Поскольку эти люди умерли до 2020 года, все они родились не позднее 1910 года. Из-за ограничений на ведение записей во всем мире в то время в базу данных можно было включить только записи из 13 стран.По этой причине наше исследование ограничено людьми из этих 13 стран.
Базовая демография супергероев
Годовой уровень смертности обычно увеличивается с возрастом. Например, люди с большей вероятностью умрут в возрасте 80 лет, чем в возрасте 20 лет.
Но это меняется для тех, кто доживает до 110 лет. Наилучшие имеющиеся данные свидетельствуют о том, что показатели смертности этих «сверх долгожителей», хотя и высоки, не увеличиваются по мере их старения. В каком-то смысле это означает, что сверх долгожители перестают стареть.
Напротив, у группы сверх долгожителей стабильный, но очень высокий уровень смертности — около 50% в год. Это означает, что на каждые 1000 человек, достигших возраста 110 лет, мы ожидаем, что примерно 500 из них умрут до своего 111-го дня рождения, а еще 250 — к 112 годам. Если рассматривать логическую конечную точку, этот образец предполагает, что только 1 из 1000 умрет. доживают до 120 лет, и только 1 из миллиона сверх долгожителей доживает до 130 лет.
Более того, такие традиционные демографические факторы, как пол и национальность, влияющие на уровень смертности, также не влияют на пожилых людей.Но ученым еще предстоит выяснить, какие факторы заставляют долгожителей жить так долго. Есть ли у них отличная генетика? Или здоровая среда? Или какой-то еще неустановленный фактор? Они кажутся необычными людьми, но точная причина неясна.
Эта закономерность привела нас ко второму компоненту нашего исследования: прогнозированию того, сколько людей достигнет возраста 110 лет в 21 веке, который закончится в 2100 году. Используя методы прогнозирования численности населения, разработанные нашей исследовательской группой и используемые Организацией Объединенных Наций, мы обнаружили, что значительный рост населения в середине 20-го века, вероятно, приведет к увеличению на несколько порядков численности населения старше столетия к 2100 году.По нашим оценкам, к 2080 году около 300 000 человек достигнут возраста 110 лет, плюс-минус около 100 000 человек. Хотя этот диапазон значительно ниже миллиона, он делает реальную вероятность того, что хотя бы один из них достигнет возраста 130 лет, составляет один из миллиона.
Практический предел продолжительности жизни человека в этом веке
Предсказание крайностей человечества — сложная задача, наполненная неизвестным. Точно так же, как медицинский прорыв может позволить людям жить бесконечно долго, каждый человек, достигший 123-летнего возраста, может просто умереть на следующий день.Вместо этого в нашем исследовании был использован статистический, основанный на данных подход, сфокусированный на том, что будет наблюдаться в этом столетии, а не на непроверяемых гипотезах об абсолютных пределах продолжительности жизни. Наши результаты показывают, что вероятность того, что кто-то доживет до 130 лет, составляет всего 13%, и очень малая вероятность того, что кто-то доживет до 135 лет в этом столетии.
Другими словами, данные показывают, что продолжительность жизни может иметь не жесткий предел, а практический. Люди почти наверняка побьют рекорд Кальмана в 122 года в этом столетии, но, вероятно, не более чем на десятилетие.
Хотя мы провели наш анализ с использованием данных, собранных до начала пандемии COVID-19 и ее влияния на продолжительность жизни, мы считаем, что наши общие результаты остаются точными. Пандемия может привести к несколько меньшему общему количеству сверх долгожителей 21 века. Но это сокращение вряд ли будет очень большим, и любое большое влияние на их смертность после 110 лет вряд ли сохранится на долгие годы в будущем.
Майкл Пирс, кандидат наук по статистике, Вашингтонский университет и Адриан Рэфтери, профессор статистики и социологии Boeing International, Вашингтонский университет
Эта статья переиздана из The Conversation под лицензией Creative Commons.Прочтите оригинальную статью.
Мораль — Примеры и определение морали
Определение моралиПроизведено от латинского термина «morālis», этический способ передачи сообщения или урока, извлеченного из сказки, стихотворения или события. Неважно, что писатель или поэт четко это сформулировали. Его можно оставить на усмотрение слушателей или первокурсников. Однако иногда этическое ясно выражается в форме пословицы.
Этичное отношение к сказке — это универсальный компонент большей части художественной литературы, который больше не только развлекает, но также служит делу обучения, информации и развития аудитории.Хор в классической драме, например, прокомментировал жалобы и составил сообщение для целевой аудитории. Романы Чарльза Диккенса, напротив, справляются с недостатками социальной и экономической системы викторианской Британии, придерживаясь неявной спортивной морали их личного типа.
В молодежной литературе мораль выражается исключительно с помощью фразы: «Этичность рассказа…» Современное рассказывание сказок не использует эти специфические техники, но использует иронию и другие приемы, чтобы передать их.
Примеры морали в литературе
Чаще всего басни Эзопа принимаются во внимание, чтобы сделать убедительные моральные выводы. Однако почти во всех литературных произведениях есть мораль, которую нужно донести до читателей. Литературные произведения, ориентированные на детей, изобилуют этическими наставлениями. Они дают детям фантастические тренировки и подсказки на будущее. Такие изречения, как «Будьте друзьями, с которыми вам не нравится», «Не судите людей по тому, как они выглядят» и «Медленно и неуклонно побеждает в гонке», как правило, являются классами, обнаруженными в конце многих историй. .
Пример №1: Лиса и виноград (Автор Эзоп)
«Снова и снова он пытался отловить заманчивый кусок, но, оставаясь, был вынужден отдать его, и уходил, держа свой нос в воздухе, говоря:« Я уверен, что они могут быть кислыми ».
Это последние сорта из «Лисы и винограда» Эзопа. Это последнее утверждение, что лиса выражает свою неприязнь к винограду, который она пыталась снова и снова схватить. В этой конкретной сказке с помощью Эзопа рассказывается о модной зависимости людей, которые не могут признать свое поражение.Вместо этого они перекладывают вину на человека или что-то еще. То же самое и с лисой из этой сказки, которая терпит неудачу после многочисленных попыток.
Пример № 2: Доктор Фаусту (Кристофер Марлоу)
«Боже мой, Боже мой, теперь не смотри на меня так свирепо!
Ольха и змеи дают мне немного вздохнуть!
Урод, черт возьми, не зевай: не приходи, Люцифер:
Я сожгу свои книги: Ах, Мефистофилис! »
Можно без проблем определить ужас и ужас, выраженные через Dr.Фауст в своем последнем монологе. Его падение указывает на то, что, несмотря на то, что он был образованным человеком, он совершил выдающуюся ошибку, продав свою душу сатане. Его раскаяние в своих проступках приводит читателя к пониманию того, что курс сатаны обречен. История доктора Фауста символизирует вечную битву между желаемым и злом, пороком и добродетелью.
Пример № 3: История Расселаса, принца Абиссинии (Сэмюэл Джонсон)
«У меня даже здесь мир раньше меня; Оценим на досуге: подлинное счастье где-то нужно определить… Счастье должно быть чем-то сильным и постоянным, без страха и без неуверенности.”
В своем известном романе «Расселас» Сэмюэл Джонсон рассказывает историю принца, который сбегает из долины счастья в поисках вечного счастья, которое он, в конце концов, нигде не раскрывает. И это моральный урок этой сказки.
Функция морали
В период с 1780 по 1830 год нравственность была связана с основной причиной литературы, особенно литературы, написанной для детей. В 18 веке работы с использованием Джона Локка и Жан-Жака Руссо были нацелены на молодежь как на литературную аудиторию.Однако, поскольку Э. М. Форстер утверждал: каждая правильная история имеет мораль, а каждая плохая история является моралью, теперь очень важно вывести мораль. Это потому, что в конечном итоге цель литературы — сделать мир лучше, что невозможно без наставничества. Следовательно, этичность важна для некоторой части литературы, которая затем может быть главной сутью любого литературного произведения.
Коллекции Блумсбери — Литература и теория морали
Аналитическая философия упорно сохраняла свое своеобразие. антиисторический характер, несмотря на подавляющую историческую осведомленность современных гуманитарных наук.Он твердо верит в возможность — довольно скромно, но точно — описать, как обстоят дела на самом деле. В этом контексте моральная теория в основном занимается замораживанием времени и формулированием фундаментальных вневременных моральных структур, выходящих за рамки условных языков, верований и образа жизни, даже если речь идет только о случайном моральном языке.
Но как аналитики-теоретики морали понимают утверждения теории: ее претензии на объективность, беспристрастность, правда? Как они относятся к подозрению (поскольку действительно должно быть подозрение), что явление, которое они пытаются видеть с точки зрения вечности (поскольку они действительно видят) — это локальный феномен; что формулировка нормативного теория морали есть не что иное, как систематическое изложение того или иного мировоззрения? Это были мои вопросы в 2004 году, когда я начал свою докторантуру с плана диссертации, которая должна была исследовать претензии на объективность нормативных моральные теории в современной англо-американской этике.В частности, я хотел изучить возможность систематического теория морали в интеллектуальной атмосфере, где мысли об историчности и контекстуальности моральных концепций и моральные концепции стали обычным явлением. Контекст, в котором, если посмотреть на более широкое интеллектуальное сообщество, историческая случайность любой концептуальной основы или любого мировоззрения кричат со всех сторон.
Получив мое введение в академическую философию через Аласдера Макинтайра и Чарльза Тейлора в в конце 90-х я думал, что должно быть противоречие между антиисторичностью аналитической этики и исторической чувствительностью времен.Но я понятия не имел, какие признаки напряжения ищу.
Довольно скоро мое внимание привлекла другая тема. Марты Нуссбаум книга «Знание любви» познакомила меня (как и многих других) с предметом чтения 2нарративная литература для нравственных Когда я еще учился на бакалавриате, я нашел ее тон и круг проблем, которые она выявляет, очень многообещающими. Я также рассматривал эту новую тему как хороший повод продолжить свой интерес к литературе как таковой и читать романы как часть моя работа.Я видел, что литература что-то делает с моральной мыслью, что, с моей точки зрения и того, что я считал с точки зрения теории морали, было довольно радикальным. Литература была добыта не только для примеров или иллюстраций, но и также, или, скорее, рассматривался как независимое средство мысли, и как такое средство, казалось, трансформирует предмет этики прямо у меня на глазах. Действительно, эти преобразования часто кажутся более радикальными, чем они есть на самом деле, и радикализм этических перспектив, открываемых повествовательной литературой, могут, с другой точки зрения, казаться вещами, которые но философ, сбитый с толку абстрактными рассуждениями, должен знать.Я считаю, что правда находится где-то посередине: этические чтения повествовательной литературы в современной моральной философии предоставляют как радикально новые открытия, так и подтверждения предыдущие убеждения, как моральные, так и философские.
Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, что я все еще занимаюсь своим первым проектом. Я просто переименовал его и перенаправил, чтобы обойти гору книг по теории, которая копилась передо мной. Или возможно, точнее, я все еще работал над вопросом, который стоял за моей первой темой: вопросом о том, какие философы-моралисты делают, когда занимаются моральной философией, и, более того, то, что, по их мнению, они делают.
В этой книге я исследую роль повествовательной литературы в конце двадцатого века. и современная англо-американская или аналитическая моральная философия. Я стремлюсь показать тенденцию чтения повествовательной литературы для цели моральной философии — с 1970-х и начала 80-х годов до наших дней — как часть более широкого движения в моральной философской мысли и представить взгляд на ее значение для моральной философии в целом. Я представлю литературу как для моральной философии то же, что и для меня; как преобразование философского ландшафта, в котором доминировали определенные способы «заниматься теорией.«Цель состоит в том, чтобы осветить 1) единство общей повестки дня этики / литературы. обсуждение в англо-американской моральной философии, 2) различные нити, заметные в дискуссии, и 3) отношения дискуссии по этике / литературе к другим (сложно пересекающимся) тенденциям англо-американской морали конца ХХ века. философия: неоаристотелианство, поствитгенштейнианство этика, партикуляризм и антитеория.
Я буду утверждать, что обсуждение этики и литературы является жизненно важной частью периода перемен. с участием нескольких направлений моральной мысли, которые развивались и приобрели приверженность в тот же период.Это главный вклад этой книги: описание тенденции чтения повествовательной литературы в этика как один из путей к фундаментальному изменению точки зрения аналитической моральной философии. Центральная особенность Это изменение связано с переосмыслением роли теории и обобщения в этике.
Радикальная форма переосмысления привела к тому, что некоторые поствитгенштейновские ученые полностью с основной аналитической моральной философией и сформировать полузакрытое дискуссионное сообщество с новой парадигмой согласие, где систематическая теория отвергается, а законная роль морально-философского обобщения ограничена.Мой стратегия здесь состоит в том, чтобы подчеркнуть общие черты и искать объединяющие черты между различными направлениями общего пересмотра, поскольку я считаю, что современная философия страдает близорукостью, часто под маской профессионализма, которая создает фундаментальные пробелы непонимания между направлениями мысли, которые имеют много общего.
Близорукость представляет особую опасность для критических тенденций, которые я обсуждаю в этой книге. поскольку проблемы, которые они создают для основной аналитической этики, во многих кругах все еще считаются незначительными.Этика / литература обсуждение легко классифицируется как еще одна специализированная тема среди других, без каких-либо особых последствий для морального философия в целом соблюдается. Только если мы поймем тенденцию в более широком контексте критики, мы сможем понять ее полную значение.
Сочинения Марты Нуссбаум были моей отправной точкой, и она появляется в двух разные роли в этой книге. С одной стороны, она была центральной фигурой в морально-философском использовании повествования. к основному течению моральной философии, и она представила исчерпывающий взгляд на этические функции повествовательной литературы, который повторяется в более поздних работах по этике и литературе, часто без должного признания.Плодовитый писатель, Нуссбаум выпустила книги разной степени значимости, но ее ранние работы, Хрупкость добра и знания любви, по-прежнему являются одними из самых важных и влиятельный вклад в обсуждение этики / литературы конца двадцатого века и недавней англо-американской этики.
С другой стороны, она занимает интересную позицию в современном переосмыслении. о природе моральной философии и роли теории в ней.Принимая во внимание, что многие центральные вклады в обсуждение этическое значение литературы отвернулись от стандартной моральной теории, Нуссбаум поставила себя в явную оппозицию к антиотеоретическим тенденциям современной этики. В то время как некоторые из ее работ об этической роли литературы являются одними из лучших текстов, написанных на эту тему. в повествовательной литературе англо-американской этики конца двадцатого века, ее роль как анти-анти-теоретика обнаруживает более полемическую стороны ее работы, что интересно при отображении позиций в повороте к повествовательной литературе, но не раскрывает чуткий мыслитель, представленный в ее лучших литературных произведениях.
Нуссбаум будет часто появляться в обеих этих ролях — как писатель на этика и литература, а также защитник теории морали — на протяжении всей этой книги и ее работы представляют собой важный набор координат для ориентации в этих обсуждениях. Но я хочу подчеркнуть, что я здесь и не буду гулять с ней по тема и не представить исчерпывающей критики ее работы по этому вопросу.
Среди возрождение этического чтения
В начале 1980-х, когда Марта Нуссбаум была среди своих работа над греческой трагедией, она сдала эссе для обсуждения этической роли современной художественной прозы как способа заниматься философией.Стойка администратора, однако было неоднозначно. В случае с древней трагедией ее главный аргумент оказался вдохновляющим — трагедии действительно центральное средство сложной и абстрактной моральной мысли в культуре доаристотелевских Афин. Таким образом, можно сказать: без излишнего анахронизма трагедии были своего рода моральной философией того периода. По отношению к современной литературе аналогичное утверждение, по-видимому, было сочтено более проблематичным. В современном контексте академическая статья или книга считается собственно философией, придающей нашей идее некоторые из своих достоинств, такие как ясность и ясность аргументов. какой должна быть философия.Но как литература вписывается в эту картину?
Выпуск «Новой истории литературы», посвященный отношения между моральной философией и литературой, где опубликован первый вклад Нуссбаума на эту тему, выделяется как событие в дискуссии о повествовательной литературе в рамках аналитической моральной философии. Хотя повествовательная литература обсуждался в отношении этики, например, Айрис Мердок (1997), Питер Уинч (1972) и Гилберт Райл (1971) в третьей четверти двадцатого века только в середине 80-х эта тема стала подходящей темой в мейнстриме англо-американской моральной философии.
В 1980-х и 90-х годах был опубликован ряд работ, в которых приводились общие аргументы к этой повествовательной литературе следует относиться серьезно как к способу нравственного мышления. Среди них мы находим О нравственной личности (1989), Знание любви Марты Нуссбаум (1990), «Этика, зло и вымысел» Колина МакГинна (1997), а также «Метафизика как руководство к морали» Айрис Мердок (1992). В то же время ряд философов способствовал усилиям по закреплению роли литературы в современной моральной философии в форме статей или как части книг, в основном посвященные другим целям.Кора Даймонд (1991) сделала литературу естественной частью ее аргументов против теорий и основанных на аргументах взглядов на моральную философию, в некотором роде напоминает направление пост-витгенштейновской мысли, начатое Питером Винчем, чья инициатива привела к интересным работаю над темой с 1970-х гг.
В этической мысли, направленной на социальную и политическую философию, Ричард Рорти (1989) и Майкл Уолцер (1987, 1988) внесли свой вклад в использование литературы.В отличие от обсуждения этики / литературы, в более узком понимании, эти двое, казалось, были мало заинтересованы в доказательстве законности использования литературы в контекст философской дискуссии, и видел его этические и политические аспекты как довольно беспроблемно присутствующие для читатель.
Одновременно в области теории литературы и критики произошло возрождение явная роль моральных вопросов в литературной критике, с Уэйном Бутом Компания, которую мы держим (1988), Сэмюэл Голдберг Агенты и жизни (1993), Дэвид Паркер Этика, Теория и роман (1994) и повествование Адама Ньютона Этика (1995).На фоне подъема феминистки критика, постколониальная критика и неомарксистская критика. Бут (1988) отмечает, что этические проблемы, хотя и под другими названиями, являются обычным явлением. в литературной критике и что отказ от этической критики ошибочен в понимании такой критики, как узкое моралистическое стремление.
Движение в области права и литературы началось в начале 1970-х с Джеймсом Бойд Уайт (1973) среди других и распространился на протяжении 80-х годов. и 90-е гг.Обсуждая «право как литература», а также «право в литературе», он предложил читателям обратиться к в литературу для освещения основных правовых и моральных концепций, таких как справедливость, и моральных концепций, таких как сострадание. Несмотря на то, что движение независимо от изменений в теории литературы и этики, оно присоединилось к целям этих движений на некоторые проблемы и получили сторонников (Марта Нуссбаум), а также критиков (например, Ричард Познер) кто в своем вкладе стоит одной ногой в обсуждении этики / литературы.
К концу тысячелетия аргументы в пользу значения литературы для нравственности и, похоже, возникла моральная философия, несмотря на разногласия по поводу того, как следует понимать эти отношения. К настоящему времени это широко признано среди философов 6. а также академические критики, что повествовательная литература может быть, есть и всегда писалась, читалась, писалась и обсуждалась для целей этической мысли, и что это может иметь некоторое отношение к работе академических философов-моралистов.
В лоскутном одеяле частично совпадающих дискуссий по этике и литературе два разных иногда выделяются повороты. В моральной философии «литературный поворот» (Антоначчо 2001: 311) был замечен среди философов, обращающихся к литературе. для руководства в вопросах моральной философии, в то время как тенденция снова обращать внимание на этические аспекты литературы был назван «этическим поворотом» (например, Davis and Womack 2001). Ярлыки довольно полезны, потому что они помогают разделить два направления внимания между различные вклады в новый интерес на стыке этики и литературы: один в первую очередь касается природа повествовательной литературы (этический поворот), а другая — вопрос о том, как литература может улучшить философские практики в моральной философии (литературный поворот).
Проект этой книги относится к области литературного поворота в моральной философии. Я предложу интерпретацию роли повествовательной литературы в аналитической моральной философии с 1970-х годов по настоящее время. день и нарисуйте предполагаемое значение этой связи. Чтобы более твердо расположить проект, я Кратко свяжите это с более широким обсуждением этики / литературы, в котором участвуют все вышеупомянутые обсуждения.
Широкое обсуждение этики и литературы не составляет единого контекста обмена, а скорее лоскутное одеяло из разных дискуссий и комментариев.Но, несмотря на разрыв между разными В ходе дискуссий широкая дискуссия имеет некоторые основательные черты, которые сближают ее отдельные части. В обоих этика и теория литературы Поворот к теме этики и литературы последовал за периодом специализации и теоретический акцент в соответствующих областях. В контексте теории литературы текст-фокус «Новых критиков» и структуралистов уступил место теоретическим рамкам, которые связывают текст с внешним миром: критика отклика читателя и этико-политическая критика с марксистским, постколониальным и феминистским акцентами.
В контексте аналитической моральной философии утилитаристская и деонтологические теории начинают серьезно оспариваться этикой добродетели, феминистской этикой и рядом партикуляризмов. Большая часть критики современных моральных теорий нашла вдохновение в древнегреческой философии, где обе структуры и структура этических теорий менее монистична и менее прямолинейно ориентирована на действия, чем то, что считалось идеал в аналитической моральной философии.7broad обсуждение этики / литературы возникает как часть новой открытости к вещам, выходящим за рамки основной цели дисциплины — в в случае теории литературы — по отношению к миру вне текста, а в случае моральной философии — по отношению к вещам, которые не могут быть выразимым в терминах систематической моральной теории.
Есть и другие важные сходства между тем, что современные литературоведы философы-моралисты должны сказать об этическом значении повествовательной литературы.Во-первых, они находят моральное значение литературы в ее способности выражать частное, а не обобщающее. Во-вторых, они считают, что литература может внести свой вклад в этическое исследование, чего недостаточно в теоретических текстах. И в-третьих, они видят этическое значение литературы как сложное переплетение с эстетическим особенности произведения и авторское мастерство точного изображения (например, Элдридж 1989; Голдберг 1993; Ньютон 1995; Нуссбаум 1990; Рорти 1989).
С другой стороны, существуют важные различия между мотивами моральных философов. и литературоведы при обсуждении этических аспектов литературы. Философов-моралистов к литературе тянет не то же самое, что привлекает литературоведов к этике. Литературный поворот возникает из-за давления, которое, как мы увидим в важных аспектах англо-американской моральной философии.
Особый интерес философов-моралистов к явно моральным аспектам литературы часто вызывает обвинения литературоведов в том, что философы-моралисты (и те, кто занимается этической критикой) сводят литературные произведения к их моральным свойствам (задуманным упрощенно и моралистически), создавая искаженные, упрощающие и эстетически ошибочные чтения (Goldberg 1993; Landy 2008; Posner 1997, 1998; Vogler 2007).Я надеюсь показать, что природа потребности в литературе в современной моральной философии такова. что упрощенные и моралистические толкования на самом деле контрпродуктивны для целей тех моральных философов, которые используют повествование литература. Что моральной философии нужно для ее текущих целей, так это деликатные дискуссии о литературе, которым уделяется должное внимание. литературе как искусству.
Аналитический этика и континентальные традиции
Необходимость заново открыть для себя литературу в контексте конца двадцатого века и недавняя философия, специфическая аналитическая или англо-американская особенность.В так называемой «континентальной традиции» повествовательная литература сыграла важную роль в недавней истории и многих открытиях, сделанных в аналитической этике / литературе. дискуссия о философском потенциале литературы может показаться старой новостью тем, кто получил образование в континентальная философия. Некоторые могут также пропустить центральные имена в континентальной традиции, такие как Сартр, де Бовуар и Деррида в моем обсуждении. Таким образом, нужно несколько слов Здесь следует сказать о взаимосвязи этих традиций и причинах отграничения исследования от аналитического контекста.
Прежде чем я продолжу, необходимо пояснить терминологию. Я буду в основном говорить взаимозаменяемо об аналитической моральной философии и англо-американской моральной философии, под которой я подразумеваю современную моральную философию, рожденную аналитической философии, преимущественно в англо-американском контексте. У обоих лейблов есть свои проблемы. Англо-американский Сегодняшняя философия — это гораздо больше, чем аналитическая или постаналитическая философия, и большая часть современной «континентальной философии» делается в США.Аналитическая философия снова может рассматриваться как слишком узкий ярлык, исключающий или маргинализирующий большую часть более интересная работа, выполненная в англо-американской традиции, включая поствитгенштейновские дискуссии, неопрагматизм а также обсуждение этики и литературы среди прочего.
Я буду использовать оба ярлыка в широком и приблизительном смысле, чтобы различать контекст морально-философского взаимообмена, который рождается из аналитической философии, понимаемой в более узком смысле.
Особый случай здесь — это направление поствитгенштейновской философии (например, Винч, Кавелл, Даймонд, Филлипс), которое я буду обсуждать и который так сильно порывает с аналитической философией в предположениях, касающихся философской методологии, целей, эпистемологии, и стиль письма, который часто рассматривается как отдельная школа или разновидность философии. Для целей моего обсуждения в этой работе я считаю более полезным рассматривать этих философов как часть англо-американской традиции и продукт аналитической философии, чем помещать их снаружи.Это широкое понятие англо-американской моральной философии иногда будет в отличие от основной аналитической моральной философии, под которой я подразумеваю моральную философию, которая соответствует типичным имплицитным требованиям четко определенных концепций, систематичности, ясности и теоретической полноты аналитической философии в более узком смысле задумано.
Хотя крах границы между аналитической и континентальной философией рекламировалось за последние несколько десятилетий, ряд различий, касающихся центральных философских вопросов, методов и акценты ясны как никогда в современной философии.В роли Джеймса Конанта помещает это,
9Англо-американская традиция предпочитает рассматривать философию как серию проблем (а иногда и даже головоломки), каждый в поисках (чего-то, что, за неимением лучшего слова, можно было бы назвать) «решения»; в то время как континентальная традиция предпочитает рассматривать философию как серию текстов, каждый в поисках чего-то, что отсутствие лучшего слова, вы могли бы назвать) «чтением». | ||
| Conant 1991: 617 | ||
Континентальные традиции вызывают особый интерес в истории философии, толкования текстов, историчности философских идей и философского потенциала повествовательной литературы, тогда как аналитическая философия была и остается преимущественно проблемно-центрированной и антиисторической, и интеллектуально более тесно связан с наукой.
Обсуждение этики и литературы, которое меня интересует, является своеобразным плодом аналитическая традиция.Философы-аналитики 1970-х и 80-х годов обнаружили необходимость дополнить аргументированную философию. с повествовательной литературой, но одновременно возникает определенное сопротивление из-за самой концепции философии в этом традиция — рассматривать литературу как способ выражения философской мысли как таковой.
Опять же, по словам Конанта,
Это Верно то, что философы англосаксонского темперамента обычно не были готовы найти философские обучение литературному произведению.Это связано с их приверженностью определенной парадигме философской строгости — одной в которой приоритетное место отводится аргументу. Они легко признают, что корпус Шекспира может служить плодородным хранилищем мудрости, наполненным психологическими знаниями, мучительными моральными дилеммами и хорошо подготовленными фразы. Однако конкретная форма (полностью рационального) убеждения, выявить которую является работа философии, будет иметь ждать подчинения этих (сырых) материалов дисциплине разума. | ||
| Там же: 619 | ||
Этот отрывок дает хорошее представление о препятствии, которое серьезно философское рассмотрение лиц повествовательной литературы в аналитическом контексте. Литература в ее нынешнем виде, кажется, нуждается в превращение во что-то более «философское», чтобы считать. Есть несколько ответов на этот вызов в дискуссиях по этике и литературе, многие из которых, как я буду утверждать, подразумевают пересмотр того, какая философия есть или должно быть.
Это подводит нас к другому вопросу, связанному с понятием моральной философии. использован в этой работе. Появление повествовательной литературы — наряду с неоаристотелевской и поствитгенштейновские тенденции — на арене аналитической 10 моральная философия поставила перед аналитическими философами задачу пересмотреть свою концепцию моральной философии.
Понятие моральной философии в настоящее время из-за этих тенденций находится в процессе изменения и расширение сферы охвата.Например, Бернард Уильямс (1985) выбрал использование термины мораль и этика, чтобы обозначить два разных подходы к предмету. В его обсуждении мораль — это область явных действий и норм действия, тогда как этика — это более широкая область «сократического вопроса»: «Как следует жить?» Хотя этот маневр играет важную роль для Williams, я не вижу параллельной возможности провести здесь различие. Как я буду спорить Глава 1.2.8, литературный поворот, наряду с неоаристотелевской этикой, связан с более широким кругозором. понятие области моральной философии, чем то, что является стандартным в аналитическом контексте. Но это следует рассматривать как нечто большее тенденции, чем определенное правило, и между отдельными философами существуют большие различия относительно степени концепция которой сформирована и растянута.
Нуссбаум, например, имеет значительно более широкая концепция моральной философии (или этики), чем то, что является стандартом в современной аналитической метаэтике или утилитарном и деонтологические дискуссии в нормативной этике, но ее концепция (возможно) более консервативна и больше соответствует предположения основной аналитической моральной философии, чем концепция, представленная, например, некоторыми витгенштейнианцами, как Кора Даймонд (1991), или литературоведы с интерес к философской этике / дискуссии о литературе, как у Сэмюэля Голдберга (1993).
Эта подвижность (или неопределенность) концепции моральной философии в современном англо-американском Таким образом, обсуждения намеренно оставлены видимыми на протяжении всего моего обсуждения.
структура книги
В этой книге я пытаюсь обсудить область современной моральной философия, которая к настоящему времени обширна и разнообразна. Это представляет собой особую проблему при попытке отдать должное разным людям. участники обсуждения.Один из способов продолжить — выбрать философов, обсудить их соответствующие индивидуальные взгляды, и пусть из них вырисовывается общая картина. Но поскольку моя цель — рассказать об общей картине, я в основном говорят об этом напрямую с помощью тематических ярлыков — неоаристотелианство, партикуляризм, обобщение в литературе, и т. д. — и позвольте вкладам отдельных философов вмешаться, чтобы обосновать мой аргумент. Только Нуссбаум и Мердок получают обширное индивидуальное лечение.
В главе 1 я описываю, как повествовательная литература рассматривается в современная аналитическая или англо-американская моральная философия, и связать это использование с широкой тенденцией неоаристотелевской этики в контексте. В главе 2 я связываю использование литературы с определенной философской чертой, идея о необобщаемости морального восприятия и суждения, что прослеживается в неоаристотелевской тенденции, а также в диапазоне моральных партикуляризмов и антитеоретических позиций. конца ХХ века и современная этика.
Совместная задача этих двух глав — определить направление чтения повествовательной литературы. для целей моральной философии в современном контексте моральной философии. В то время как сторонники различных теоретических убеждения часто больше заинтересованы в том, чтобы подчеркнуть особенность своих позиций, моя общая линия аргументации такова. здесь, чтобы подчеркнуть общность целей и процедур обсуждения этики / литературы, неоаристотелевские подходы и партикуляризмы, которые актуальны в сегодняшней англо-американской моральной философии.
В следующих двух главах я перехожу к конкретизации силы повествовательной литературы, что подчеркивается как неоаристотелистами, так и партикуляристами, для более широкого понимания интеллектуального потенциала повествовательной литературы. Хотя литература полезна для иллюстрации конкретных примеров нравственных мыслей и действий, его не следует рассматривать как по существу конкретизирующий. В главе 3 я утверждаю, что повествование имеет свои собственные формы обобщения, которые при правильном понимании обогащает наше понимание работы этических обобщений в философии.В главе 4 я обсуждаю два способа комбинирования этическая общность и особенность в философских рамках, где как систематическая теория морали, так и повествовательная литература воспринимаются всерьез. Здесь обсуждаются такие философы, как Айрис Мердок и Марта Нуссбаум; первый является пионером моей цели обсуждение, и последнее находится в самом его центре.
В последней главе (5) я заостряю внимание на значении повествовательной литературы в современном мире. аналитической моральной философии на вопрос о том, как следует понимать роль моральной теории в этом контексте.Я здесь обсуждаю противоречие между современными антиотеоретическими концепциями этики и их опровержением Нуссбаумом, учитывая как предостережения анти-теоретиков против теории, так и критика их позиции Нуссбаумом. Напряжение между теоретические и 12 антитеоретические формулировки повестки дня моральных философов предоставляют хорошее место для открытия моральной философии по-новому, путь, который делает повествовательную литературу незаменимой для нравственного понимания, не отказываясь от моральной теории.
Наконец, в этой последней главе я представлю свои собственные положительные предложения относительно способ понимания моральной философии после дискуссий по этике / литературе, чтобы преодолеть соответствующие ограничения теории Нуссбаума, ориентированной на поиск равновесия, и анти-теоретиков отказ от теории.
Когда я впервые набросал этот проект, я полагал, что широкое описательное Изложение дискуссии об этике и литературе в современной моральной философии лучше всего послужило бы моим целям.Большинство книг по предмет этики и литературы, или философии и литературы, включает собственные более или менее обширные чтения авторов литературных произведений в философско-этическом свете. За последние несколько лет, когда люди спрашивали меня, над чем я работаю, они хотели знать, каких литературных авторов я обсуждаю. К сожалению, я был вынужден сказать им, что моя тема — что-то так же сухо, как и вопросы на мета-уровне. «Я обсуждаю, что другие философы делают с литературой.«Почему же тогда Я не добавляю свои собственные показания в конце?
Мне с самого начала было ясно, что никаких настоящих «этических прочтений» может быть частью этой книги. Основная причина, по-прежнему действительная, я считаю, заключалась в том, что я не хотел больше участвовать в движение я изучаю, чем я уже есть. Мне и моему потенциальному читателю хотелось получить более четкое представление, а не еще один пример того, или аргумент в пользу такой философии.
И все же в процессе моей работы мне навязали нечто вроде синтеза.Этот синтез можно описать как видение того, как в идеале литературный поворот в этике мог бы преодолеть свою внутреннюю враждебность и предложить альтернативный путь современной моральной философии, более чуткий к сложностям нашей моральной жизни и интеллектуального традиции.
Я нашел более подробное обсуждение этой точки зрения в предыдущей главе. Это частично потому, что мои основные взгляды, представленные здесь, являются естественным результатом моего чтения текстов литературных повернуть и не совсем понятно без понимания того, как я интерпретирую эти тексты и их философский контекст.Это также потому, что я все еще считаю, что мое описание поля Обсуждение должно, насколько это возможно, осуществляться без моего конкретного видения идеального исследования моральной философии. Но поскольку мой более конкретный взгляд на идеальную этику, конечно, важная часть организационного принципа этой книги, действительно в каком-то смысле это подразумеваемый смысл существования, здесь я скажу несколько слов о куда я направляюсь.
Тексты литературного поворота познакомили меня со способом ведения моральной философии, который мне казалось, прежде всего, свободным от оков этической теории.Это был способ, или, по сути, широкий спектр способов уделить внимание всем тем аспектам нашей нравственной жизни, которые были упущены из виду. стандартные изложения задач, методов и интересов академической (аналитической) моральной философии. Я все еще склонен думать о это в тех терминах, как освобождение, лицензия на ответы на вопросы, например, об особенностях, идентичности, структуре повседневной жизни, разнообразие способов, которыми люди могут быть плохими, глупыми, слепыми, самодовольными и неприятными, или, наоборот, способы в которых мы развиваемся как нравственные существа, и способы, которыми моральные чувства целых обществ меняются с течением времени.
Это был способ обогатиться моральной философией почти так же, как читатели романов. обогащаются чтением хороших романов. Это было более приятно, но в то же время казалось, что это интеллектуально необходимо в культуре. моральной философии, сосредоточенной на аргументах из довольно ограниченного диапазона явных или скрытых предпосылок: мораль — это вопрос действия, этот факт и ценность легко различимы, что является проблемой в метаэтике в целом нейтральны по отношению к ценностям, этот разум в этике подразумевает универсальность, что мы ищем решения на высоком уровне абстракции, что моральные ситуации легко описать, что исторические и культурные идеи не имеют места в систематической этике, этот систематический аргумент — привилегированный путь к моральной философской ясности, и, что немаловажно, другие пути исследования в морали низшие, лишенные ясности.
Последние десятилетия философии и литературы, этики добродетели, истории морали и т. Д. проделали огромную работу по разрушению этого довольно широко распространенного аналитического консенсуса середины и конца двадцатого века относительно природы морали и моральной философии, но еще многое предстоит сделать. Современная культура академической специализации (и журнала издательское дело) легко нормализует критические тенденции и превращает их в дополнительные академические специальности. Я хотел бы посмотреть литературный поворот не как рождение другой специализации, а как возможность переосмыслить ремесло академической морали философия.Не только для того, чтобы литература с ее различными проблемами была включена, а скорее для того, чтобы философы-моралисты почувствуйте себя свободным (и способным) следовать чему-то более похожему на эклектичный дух Яна 14Hacking, когда он заявляет, что: «Я помогаю себе во что бы то ни стало, отовсюду »(2002: 17).
Таким образом, мое описание обсуждения литературы по этике следует следующей траектории: Исходя из моего первоначального чувства освобождения, описанного в этом введении, я перехожу к описанию 1) взглядов и опасений, которые у авторов литературного поворота есть общее и 2) раскол в середине дискуссии.В последней главе я представляю модель примирения между теми, кто хочет думать о литературе как о компаньоне теории, и теми, кто думает, что литература может показать нам кое-что о том, почему моральную теорию в том виде, в каком мы ее знаем, следует отбросить. Я называю это «инклюзивным подходом» и использую его, чтобы сохранить или, возможно, спасти чувство освобождения. При первых встречах с Мартой Нуссбаум и Ирис Мердок я испытал сочинения. Я сделаю это, аргументируя это тем, что сам конфликт должен содержаться в метауровневом представлении обсуждения, чтобы сохранить то, что важно в обеих конфликтующих сторонах.Эту позицию можно рассматривать как своего рода импровизированную теория, которая может быть полезна по мере продвижения, но, возможно, не должна быть сохранена в анналах «философских позиций» как взгляд, отделимый от соображений, которые привели к нему в этой книге. Некоторые читатели могут надеяться на более четкое позиция с моей стороны, и поэтому необходимо сказать несколько слов о том, почему так важно, чтобы эти пожелания не выполнялись здесь. Я предлагаю свои взгляды и позиции по множеству вопросов в рамках этой книги, но учитывая природу моих выводов положение Я должен отступить.Почему? Потому что именно путем выдачи слишком конкретных рекомендаций для дальнейшей философской работы что я считаю, что авторы литературного направления делают его менее привлекательным, менее многообещающим и менее раскрепощающим. Какие В этой книге я описываю проблемы, которые недавняя философия обнаружила на стыке философии и литературы. но нет предела тому, что будущая философия может сделать при обращении к литературе или другим текстам за пределами узкого круга академической философской этики.Слишком легко выдвигать мнения с легким прикрытием аргументов. Я упорствую в убежденность в том, что мое общее видение реальности и возможностей литературного поворота более полезно в нынешнем обсуждение, чем утверждения о том, чего я хочу от будущих философов-моралистов.
Тем не менее, я мог бы, не ставя под угрозу эту цель, остановиться на одном центральном моменте. что, как мне кажется, достигается этим открывающим жестом. Аналитическая моральная философия и, возможно, академическая моральная философия в целом, в последние десятилетия в нем было слишком мало места для индивидуально мыслящего человека, философа как существа с сложный идиосинкразический интеллект и, прежде всего, жизнь.Преследуемый с общей платформы философских, теоретических и профессиональных предпосылок (и институциональных требований), философия легко становится отчужденный и деревянный; теряет связь с убеждениями, любопытством и моральными затруднениями, которые изначально принесли философам к их предметам, и это, часто скрытно, сохраняет их интерес. Мне кажется, что философы по отношению к литературе, получают большую свободу обращаться к своим множественным и разнообразным знаниям, чувствам и интеллекту, и, таким образом, создать своего рода философию, которая имеет больше шансов изменить мир к лучшему для людей, которые ее читают.Я хотел бы представьте отдельного морального философа в свободном и открытом отношениях с обширной традицией не только философии, но и в более общем плане мыслей, текстов и различных человеческих практик, которые могут что-то сказать нам о нас как о существах, имеющих ценность. Здесь я очень близок к Айрис Мердок, которой принадлежит большая роль в этой книге, а также (в широко аналитической традиции) к Чарльз Тейлор и Ян Хакинг, которым здесь нет места.
16Разница между темой и моралью
История, действие или любая пьеса должны иметь или, по крайней мере, должны иметь тему.В конце также должен быть моральный урок. Это два разных термина, относящиеся к разным вещам и требующие внимательности при выявлении их расхождений. Особенно если это делается по академическим причинам, речь идет не только об определении терминов, но и о том, чтобы уделить время глубокому анализу имеющегося у вас контента.
Художественные произведения часто содержат темы и уроки морали. Они предназначены для читателей, слушателей или зрителей, хотя некоторые из них, в зависимости от намерения владельцев, заявляют тему заранее.Если нет, то потребителю контента следует изо всех сил стараться получить от работы и то, и другое.
Если вам не удается понять разницу между моралью и темой рассказа, вы можете изучить различные варианты, как это сделать. Например, вы можете узнать мораль рассказа на собственном опыте. С другой стороны, тема произведения обычно является всеобъемлющим посланием и передается через сеттинг истории, персонажей и действие, содержащееся в ней.
Определение темы
Тема — это сообщение, абстрактная идея, центральная идея или универсальная истина в любом искусстве.Его можно определить как предмет написания, выступления, выставки или любого другого художественного произведения. Его также можно назвать предметом или темой. Кроме того, вы можете определить это как идею, которая пронизывает, возникает и повторяется в литературном или художественном произведении.
Это важная идея, которая проходит во время разговора, письма или обсуждения. Писатель или создатель контента должен поддерживать ход работы, чтобы гарантировать, что они излагают идею, развивают ее любым способом, который они считают подходящим, и повторяют ее повсюду.
Примеры тем
У произведения искусства могут быть разные темы. Он может либо работать над основной с подтемами, либо разъяснять основную. Некоторые из наиболее распространенных из них перечислены ниже:
- Смерть
- Изоляция
- Любовь побеждает все
- Воля к выживанию
- Утрата невиновности
- Выживание
- Страх неудачи
- Обновление / возрождение
Определение морали
Мораль — это урок, который потребитель произведения искусства ожидает извлечь из истории или опыта, через которые проходит персонаж произведения.Это также сообщение, которое можно ожидать от каждого написанного, акта или любого другого произведения искусства, которое они потребляют.
Примеры нравственности
У произведения искусства могут быть разные уроки. Также может быть одна основная и разбросанные по части работы. Это лежит на потребителе, например, если для академических целей получить каждый урок в конце действий, представленных в работе. Вот некоторые из общих уроков:
- Гордость предшествует падению
- Подумайте дважды, прежде чем прыгнуть
- Медленно и верно — верная победа
- Довольствоваться тем, что у вас есть
- Птица в руке стоит двух в кустах
- Будьте готовы
- Птицы стая падают вместе
- Одежда не делает мужчину
Возможные сходства между темой и моралью
И тема, и мораль — это идеи, которые часто подразумеваются без необходимости в явном изложении.Часто в результате они вводят в заблуждение как автора, так и аудиторию или читателя.
Разница между темой и моралью
В любом произведении искусства темы и мораль пересекаются. Однако есть небольшие отличия.
- Тема — это центральная идея, на которой основано произведение на протяжении всего рассказа, книги или фильма. Моральный урок — это сообщение или урок, который автор, разработчик или создатель работы хочет, чтобы вы извлекли из своей работы.
- Мораль рассказа может быть изложена в конце рассказа, особенно в детской литературе, но тема может быть изложена только в начале, в зависимости от необходимости и цели.
- Тема — это в основном универсальные ценности, такие как сострадание, верность, любовь и честность, в то время как урок может быть ограничен для определенной группы людей или быть конкретным для нее.
- У произведения искусства может быть несколько тем, но владелец произведения может решить придерживаться одной морали, основанной на разных темах.
- Тема — это то, что писатель использует для направления и развития сюжета своего письма, в то время как мораль — это то, что аудитория извлечет из произведения после того, как оно будет закончено.
Тема и мораль: сравнительная таблица
Краткое изложение темы против. Мораль
Хотя для большинства людей эти два термина, тема и мораль могут означать одно и то же, они не близки по своему значению. В то время как первый заранее сообщает потребителю контента, чего ожидать от истории или действия, второй ожидает, что читатель или зритель усвоит урок, извлеченный после прочтения рассказа или просмотра действия.
Сара Филис Браун
Происхождение: Хьюстон, Техас
Образование: магистр изящных искусств (M.F.A.) | Массачусетский университет в Амхерсте. У нее также есть сертификат по статистическим приложениям. Она написала множество статей, сообщений в блогах, статей, описаний продуктов, обзоров продуктов, призраков, художественной литературы и сценариев.
Она возглавляла группу экспертов по установлению воздействия субсидированных канализационных сетей в сельских трущобах в Кении (под эгидой Всемирного банка).
: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.
Cite
APA 7
Brown, S. (2018, 16 ноября). Разница между темой и моралью. Разница между похожими терминами и объектами. http://www.differencebetween.net/language/difference-between-theme-and-moral/.
MLA 8
Браун, Сара. «Разница между темой и моралью.» Разница между похожими терминами и объектами, 16 ноября 2018 г., http://www.differencebetween.net/language/difference-between-theme-and-moral/.
Моральная критика, драматическая конструкция // Purdue Writing Lab
Эта страница предоставлена вам OWL в Университете Пердью. При печати этой страницы вы должны включить полное юридическое уведомление.
Авторские права © 1995-2018, Лаборатория письма и СОВ при Университете Пердью и Пердью. Все права защищены.Этот материал нельзя публиковать, воспроизводить, транслировать, переписывать или распространять без разрешения. Использование этого сайта означает принятие наших условий добросовестного использования.
Моральная критика и драматическое строительство (~ 360 г. до н.э. по настоящее время)
Резюме:
Этот ресурс поможет вам начать процесс понимания теории литературы и школ критики и того, как они используются в академии.
Платон
В книге X своей книги Republic Платон, возможно, дал нам первый на Западе залп подробной и пространной литературной критики.Диалог между Сократом и двумя его соратниками показывает, что участники дискуссии приходят к выводу, что искусство должно играть ограниченную и очень строгую роль в совершенной Греческой республике. Рихтер дает хорошее резюме по этому поводу: «… поэты могут оставаться слугами государства, если они учат благочестию и добродетели, но удовольствия от искусства осуждаются как по своей сути развращающие граждан …» (19).
Одна из причин, по которой Платон включил эти идеи в свой сократический диалог, состоит в том, что он считал искусство посредственным воспроизведением природы: «…. художники … держат зеркало перед природой: они копируют внешний вид людей, животных и объектов в физическом мире … и разум, который вошел в его создание, не требует ничего, кроме предположений «( Рихтер 19) .Иными словами, если искусство не учит морали и этике, оно наносит ущерб своей аудитории, а для Платона это наносит ущерб его республике.
Учитывая этот противоречивый подход к искусству, легко понять, почему позиция Платона оказывает влияние на литературу и литературную критику даже сегодня (хотя ученых, которые критикуют работу, основываясь на том, учит ли эта история морали, мало — добродетель может влиять на детская литература, впрочем).
Аристотель
В Поэтике Аристотель порывает со своим учителем (Платоном) в рассмотрении искусства. Аристотель считает поэзию (и риторику) продуктивной наукой, тогда как он считал логику и физику теоретическими науками, а этику и политику — практическими науками (Richter 38). Поскольку Аристотель рассматривал поэзию и драму как средство для достижения цели (например, удовольствие аудитории), он установил некоторые основные руководящие принципы, которым авторы должны следовать для достижения определенных целей.
Чтобы помочь авторам в достижении своих целей, Аристотель разработал элементы организации и методы написания эффективных стихов и драматических произведений, известные как принципы драматического построения (Рихтер 39). Аристотель считал, что такие элементы, как «… язык, ритм и гармония …», а также «… сюжет, характер, мысль, дикция, песня и зрелище …» влияют на катарсис аудитории (жалость и страх ) или удовлетворение работой (Рихтер 39). Итак, здесь мы видим одну из первых попыток объяснить, что делает литературное произведение эффективным или неэффективным.
Как и Платон, взгляды Аристотеля на искусство сильно влияют на западную мысль. Споры между платониками и аристотелистами продолжались «… у неоплатоников второго века нашей эры, кембриджских платоников последнего семнадцатого века и идеалистов романтического движения» (Рихтер 17).
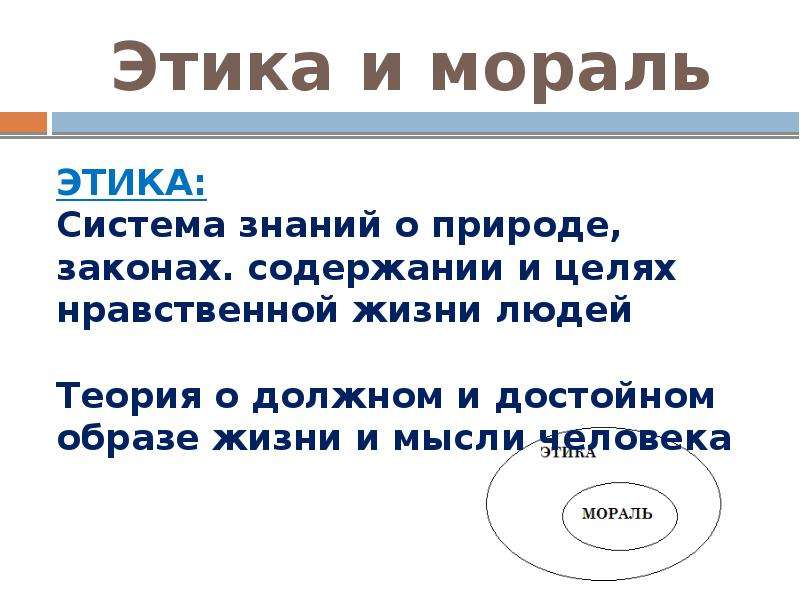
 В современной русской поэтике этот термин применяется для обозначения разнотипных К.: эпилог, развязка, мораль (в басне), пуант,… … Поэтический словарь
В современной русской поэтике этот термин применяется для обозначения разнотипных К.: эпилог, развязка, мораль (в басне), пуант,… … Поэтический словарь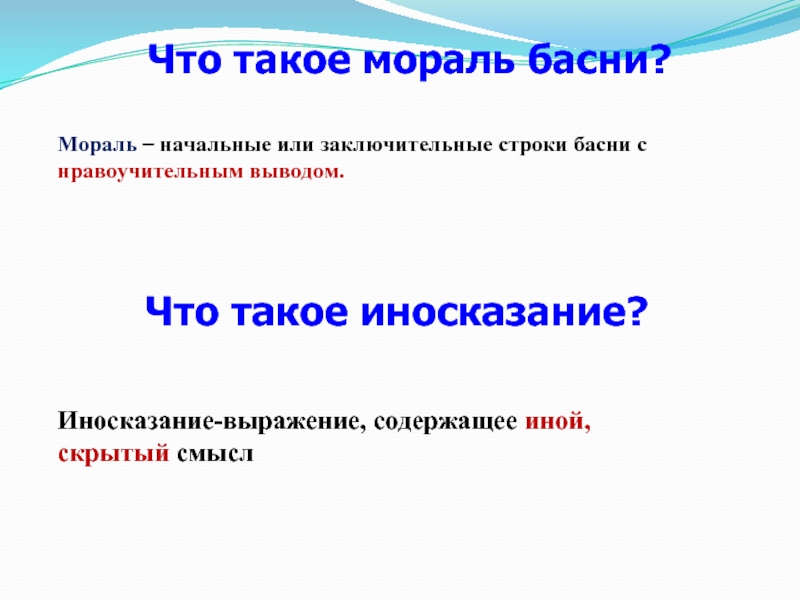 От притчи или аполога Б. отличается законченностью … Литературная энциклопедия
От притчи или аполога Б. отличается законченностью … Литературная энциклопедия Иван Андреевич Крылов (1769-1844) — русский поэт-баснописец, переводчик, член-академик Императорской академии наук. Родился в семье отставного офицера. В связи с многочисленными переездами он… Подробнее Купить за 98 руб
Иван Андреевич Крылов (1769-1844) — русский поэт-баснописец, переводчик, член-академик Императорской академии наук. Родился в семье отставного офицера. В связи с многочисленными переездами он… Подробнее Купить за 98 руб