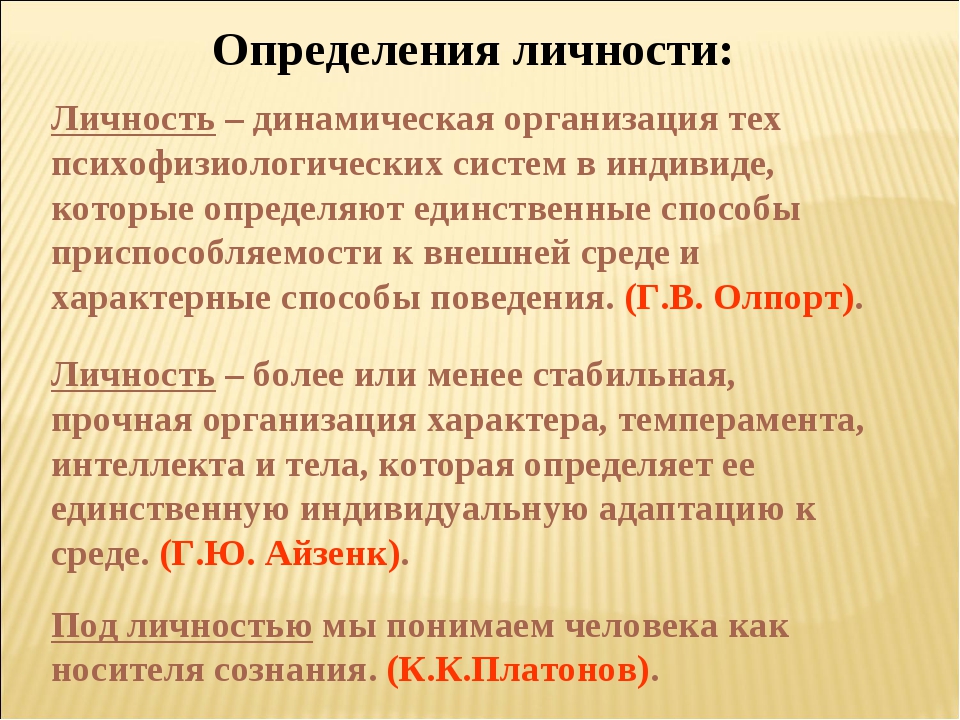Определение индивид разных авторов в психологии. Индивид – социализация и поведение
Каждого человека называют индивидом. Данное понятие вмещает в себя не только само слово, определяющее, о ком идет речь, но и некоторую характеристику в виде индивидуальных особенностей и качеств. Каждый развивается в своем направлении по мере жизни. Каждый обладает своим набором социальных и личностных черт. Это все отражается на том поведении, которое присуще конкретно человеку.
Вся психология направлена на изучение индивида. Хоть все люди разные, однако основы закладываются с рождения одинаковые. Вот почему в чем-то люди являются похожими. Однако по их характеру, поведению и образу жизни можно сказать, что все разные.
Все проблемы, рассматриваемые на сайте психологической помощи сайт, посвящены индивидам. Несмотря на все различия между людьми, можно выделить тезисы, на которых каждый человек развивается.
Кто такой индивид?
Понятие «индивид» носит в себе социальное значение, которое говорит об отдельной особи, представителе homo sapiens.
Каждый человек индивидуален. Это делает его индивидом. Приспособление к социальным условиям еще больше отличает его от животного мира. С одной стороны, он по биологическим признакам и социальным навыкам похож на других людей, что не делает его уникальным. Его строение тела такое же, как и у других людей. Отличаются лишь формы, размеры, цвета и пр. Он нарабатывает такие же навыки, которые есть у других людей, что позволяет ему стать социальной личностью.
С другой стороны, человек генетически склонен к развитию индивидуальных качеств и черт. Его набор уникален, не похожий на остальных. Это делает его отдельной особью, которая выделяется на фоне толпы.
Как понятие, индивид означает отдельную особь, которая обладает определенными биологическими особенностями, считается целостной и единой структурой, а также принадлежит конкретному виду живых существ.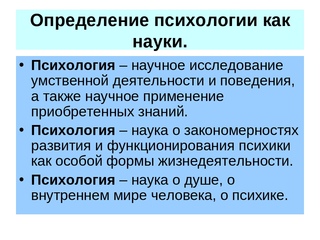
Все люди рождаются индивидами. Однако по мере воспитания и развития каждый индивид становится личностью. Именно она обладает своим уникальным набором качеств, умений и навыков, которые отображаются в поведении и повадках.
Понятие индивид подразумевает, что человек является полноценной и отдельной особью от остальных. У него есть все инструменты для самостоятельного развития и жизни. Он отделен от людей.
Индивид – это единица человеческого рода, которая:
- Обладает психофизиологическими чертами.
- Активна.
- Устойчива относительно окружения.
- Целостна в структуре организма.
- Носит социальные характеристики.
В психологии рассматриваемое понятие используется широко. Оно обозначает не только отдельного человека, но и его качества характера, которые определяют его как личность.
Кто такой социальный индивид?
Если человек рождается индивидом, тогда он сразу же приобретает статус социальной личности. Кто такой социальный индивид? Это человек, который с самого рождения нуждается в контакте с другими индивидами для собственного выживания и развития.
Кто такой социальный индивид? Это человек, который с самого рождения нуждается в контакте с другими индивидами для собственного выживания и развития.
В отличие от животных детенышей, человеческий ребенок не может о себе позаботиться с рождения. Он с первых дней нуждается в уходе и заботе о себе. Причем наработка навыков и необходимых социальных качеств осуществляется длительное время. Если на обучение детенышей животных уходит от нескольких месяцев до года, то на становление индивида как самостоятельной и независимой личности тратится от 18 до 25 лет.
Индивид нуждается в социуме, которое будет о нем заботиться и в котором он сможет становиться личностью. Само общество также нуждается в индивиде, поскольку без него оно просто не сможет существовать.
Человек рождается индивидом. Личностью он становится по мере воспитания и роста. Вначале человек мимикой и жестами говорит о своих желаниях и потребностях. Однако в процессе обучения речи, которое является главным критерием социализации, на первый план выходят вербальные знаки.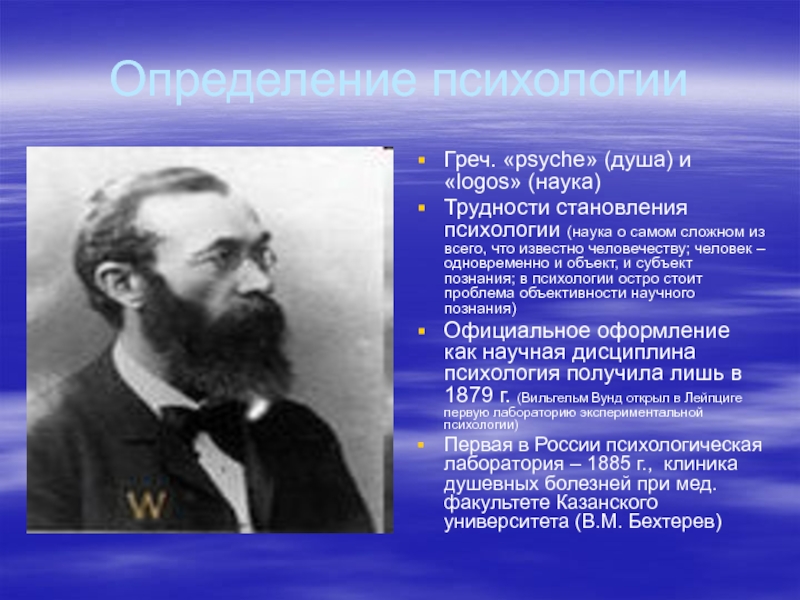 Человек продолжает пользоваться невербальными жестами и мимикой для дополнения своей вербальной речи и полноты проявления своих чувств.
Человек продолжает пользоваться невербальными жестами и мимикой для дополнения своей вербальной речи и полноты проявления своих чувств.
Чем раньше начнется процесс социализации, то есть приспособления к законам, правилам и жизни всего социума, тем быстрее произойдет развитие личности и ее адаптация. Происходит научение ребенка следующими способами:
- Закрепление. Путем наказания или поощрения родители показывают ребенку, какое его поведение считается хорошим, а какое – плохим.
- Выработка условных рефлексов. Каждый человек подвергается «дрессировке», когда за его поведение он получает поощрение (условный рефлекс закрепляется) или наказание. Так формируются привычки.
- Наблюдение и повторение. Другими словами, ребенок наблюдает за поведением взрослых и копирует, перенимает, подражает им. Здесь часто используются различные ролевые игры, где ребенок репетирует, закрепляет либо изменяет то поведение, которое он наблюдал за взрослыми. Таким образом закрепляются полезные и эффективные, по мнению ребенка, навыки.

Каждый индивид с самого рождения пребывает в определенных средах, которые также влияют на формирование его личности:
- Первым институтом становится семья. Здесь ребенок получает защиту, любовь, поддержку. Также удовлетворяются его жизненные потребности. Помимо этого, именно семья дает первые навыки социализации: как нужно общаться, себя вести? Здесь ребенок приписывает себя к определенному полу, изучает половые роли. Семья формирует стереотипы, комплексы, страхи, ценности и пр.
- Вторым институтом становится детский садик или школа. Именно здесь к индивиду относятся как к одному из. Здесь нет лучших и худших. Оценивается индивид по его способностям и навыкам. Он сталкивается с неудачами и успехами. Именно школа формирует самооценку у ребенка.
- Третьим институтом становятся сверстники. В подростковый период они вытесняют семью и школу. Если в семье и школе все построено на иерархии, то среди сверстников общение происходит на равных. Здесь репетируются и закрепляются социальные навыки.
 Ребенок начинает приспосабливаться к социуму. Он начинает решать конфликтные ситуации, познает о своих достоинствах и недостатках. Среди сверстников ребенок может менять свои ценности и взгляды на жизнь. Он становится членом общества, где выделяется своими уникальными качествами.
Ребенок начинает приспосабливаться к социуму. Он начинает решать конфликтные ситуации, познает о своих достоинствах и недостатках. Среди сверстников ребенок может менять свои ценности и взгляды на жизнь. Он становится членом общества, где выделяется своими уникальными качествами. - СМИ являются последним институтом. Он также влияет на каждого индивида своими взглядами и ценностями, которые тот может перенимать либо нет.
По мере становления личности институты могут противоречить своими ценностями, взглядами, способами решения ситуации. Ребенок становится перед необходимостью отказываться от чего-то одного ради сохранения другого. При появлении противоречий он начинает переосмысливать свои взгляды и ценности, формируя свой набор.
Реакция человека на изменения во внешней среде или внутри его организма является поведением индивида. Оно может быть осознанным и неосознанным. Всегда развивается и проявляется вовне (во внешнюю среду). Оно включает активные действия физическим телом и речевую регуляцию.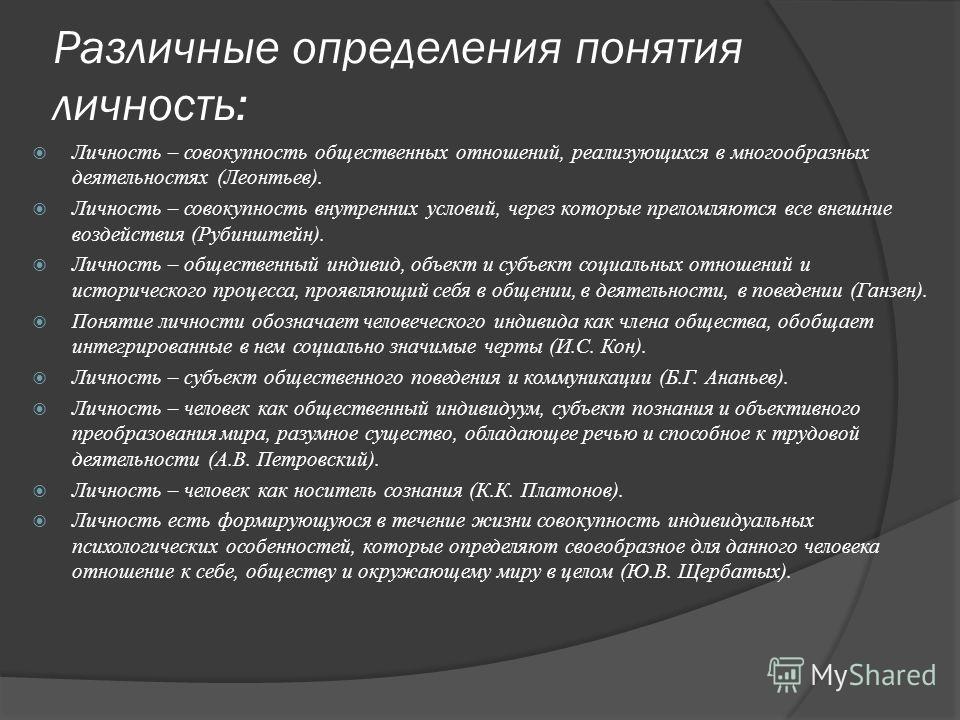
В основе всех поступков лежат:
- Цели. Человек всегда стремится удовлетворить свои потребности, особенно если они длительное время не были реализованными.
- Мотивы. Нет поведения, которое бы ни было мотивированным. Человек может просто иногда этого не осознавать.
Отдельно рассматривается театральное поведение, которое осуществляется в процессе общения между людьми в виртуальном мире. С появлением сети Интернет, оно начало занимать лидирующие позиции. Под театральностью поведения понимается иллюзия естественных поступков.
Характеристиками поведения индивида являются:
- Самоконтроль (произвольность).
- Темп или динамичность.
- Эмоциональная выразительность.
- Гибкость (изменение поведения в зависимости от обстоятельств окружающей среды).
- Уровень активности.

- Осознанность (понимание человеком своих поступков).
Что такое индивидуальность?
Если под индивидом понимается принадлежность особи к человеческому роду, а под личностью – наличие социальных навыков, социализация и приспособление к обществу, то что подразумевается под индивидуальностью? Данное понятие указывает на набор уникальных качеств и умений у отдельной особи. Здесь перечисляются как психические черты, так и физиологические особенности. Хотя нередко речь идет о духовном развитии человека.
Нетождественными понятиями являются индивид и личность. Однако именно индивидуальность может стать частью личности, ее формирования. Личность определяется тем, какими качествами она выделяется по мере своего действования, функционирования, что видно окружающим людям, которые могут это оценить. Индивидуальность скорее говорит о качествах характера, духовных проявлениях.
Личность является социальным продуктом, в то время как индивид — биологическим, а индивидуальность – формированием качеств и умений.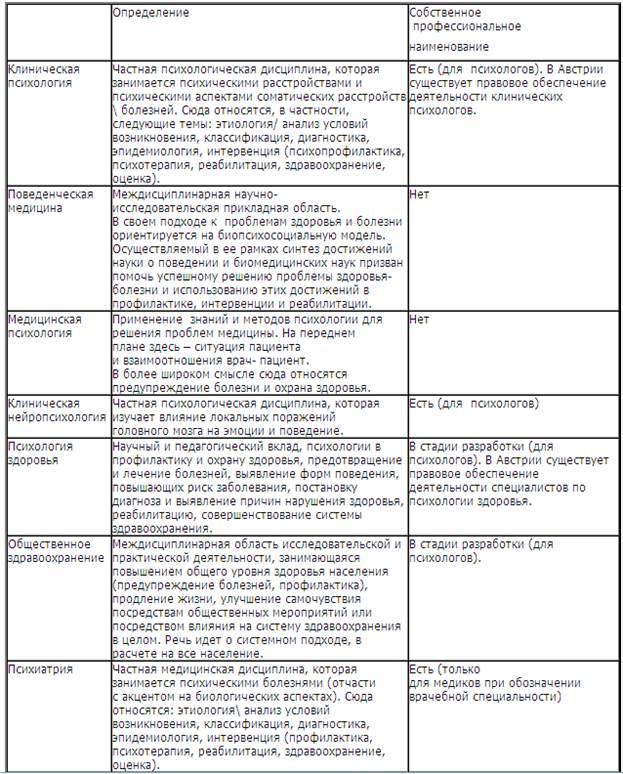 Личность развивается под влиянием социального давления, правил и законов, которые каждый человек должен усвоить и применять.
Личность развивается под влиянием социального давления, правил и законов, которые каждый человек должен усвоить и применять.
Группой является отдельная ячейка, которая вмещает в себя несколько индивидов. Все они являются индивидуальными, однако они собираются в группу ради общей цели или под влиянием общих интересов. Она обладает некоторыми социальными характеристиками, которым должны подчиняться все члены.
- Человек может выступать от имени группы, что в некоторой степени избавляет его от ответственности.
- Человек может взаимодействовать с другими людьми внутри группы, корректировать свое поведение, получать поддержку.
- Человек занимает определенный статус. Часто в группе формируется иерархия, где каждый выполняет определенную, четкую роль.
С одной стороны, человек своими действиями помогает группе, решает ее вопросы, развивает и сохраняет. С другой стороны, группа регулирует поведение человека, заставляет развивать определенные черты и навыки, влияет на него. Соответственно, человек должен осознанно подходить к выбору группы, поскольку она может поспособствовать его развитию или послужить поводом для деградации.
Соответственно, человек должен осознанно подходить к выбору группы, поскольку она может поспособствовать его развитию или послужить поводом для деградации.
Развитие индивида
Индивид развивается биологически, психологически и личностно:
- Биологическое развитие предполагает рост организма человека.
- Психологическое развитие предполагает развитие качеств и индивидуальных особенностей психики.
- Личностное развитие происходит по мере воспитания и социализации.
Человек с каждым годом меняется и трансформируется. Здесь он физиологически крепнет и растет. Его психика начинает получать новые знания, формировать связи для образования умений. Также формируется личность, которая отрабатывает социальные умения.
Человек постоянно в процессе своего развития подвергается различному влиянию, которое бывает:
- Внешним – это родители, воспитатели, СМИ, социум.
- Внутренним – это волнения, влечения, чувства, склонности.
Итог
Индивид в прямом смысле слова означает «человек разумный». С самого рождения особь определяют к человеческому роду, которое будет подвергаться воспитанию, влиянию со стороны. Человек должен социализироваться, чтобы общество его принимало и позволяло жить так, как это приемлемо. Итогом станут все те манипуляции, которые будут направлены на человека в течение всей его жизни.
С самого рождения особь определяют к человеческому роду, которое будет подвергаться воспитанию, влиянию со стороны. Человек должен социализироваться, чтобы общество его принимало и позволяло жить так, как это приемлемо. Итогом станут все те манипуляции, которые будут направлены на человека в течение всей его жизни.
Для социально-психологического анализа личности следует разграничить понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».
Наиболее общим является понятие «человек » — это биосоциальное существо, обладающее членораздельной речью, сознанием, высшими психическими функциями (абстрактно-логическим мышлением, логической памятью и т. д.), способное создавать орудия, пользоваться ими в процессе общественного труда. Эти специфически человеческие способности и свойства не являются наследственными, а формируются у человека прижизненно, в процессе усвоения им культуры, созданной предшествующими поколениями. Существуют достоверные факты, которые свидетельствуют о том, что если дети с самого раннего возраста развиваются вне общества, то они остаются на уровне животного, у них не формируются речь, сознание, мышление, нет вертикальной походки. У человека, живущего в изоляции от других людей и общества, самостоятельно не будет развиваться логическое мышление, не сложится система понятий. Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных предшествующими поколениями. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, они развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у человечества.
У человека, живущего в изоляции от других людей и общества, самостоятельно не будет развиваться логическое мышление, не сложится система понятий. Люди каждого последующего поколения начинают свою жизнь в мире предметов и явлений, созданных предшествующими поколениями. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, они развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у человечества.
Понятие «индивид » может относиться и к человеку, и к животному. «Индивид» (от лат. «individuum» — неделимое) — человек как представитель вида Homo sapiens, единство врожденного и приобретенного, носитель индивидуально-своеобразных черт. Основные характеристики индивида — активность, целостность, устойчивость и специфичность взаимодействия с окружающим миром. Характеризуя человека как индивида, мы рассматриваем прежде всего его биологическую природу. Поэтому при организации учебной, трудовой деятельности руководителю (учителю) необходимо учитывать соблюдение мер безопасности, санитарно-гигиенических условий работы.
В психологии понятие «личность » является одним из основополагающих.
«Личность, — писал С. Л. Рубинштейн, — образует основу, изнутри определяющую трактовку психики человека в целом. Все психические процессы составляют психическое содержание жизни личности. Каждый вид психических процессов вносит свой специфический вклад в богатство ее внутренней жизни».
Для того, чтобы стать личностью, человек должен усвоить духовные ценности, нормы морали, способы деятельности.
Личность — это человек, определяемый в системе социально обусловленных характеристик, которые проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, детерминируют нравственные поступки человека.
Формирование человека как личности характеризуется развитием высших сфер его психики: мыслительной, эмоциональной, волевой. Л. Фейербах писал:
«Совершенный человек обладает силой мышления, силой воли и силой чувств. Сила мышления есть свет познания, сила воли — энергия характера, сила чувства — любовь. Разум, любовь и сила воли — это совершенство».
Для руководителя (учителя) важно создать такой комплекс условий в коллективе, при котором выявляются не только биологические, но и социальные, духовные потребности.
Понятие «индивидуальность » подчеркивает неповторимое своеобразие человека, то, в чем он отличен от других. Его индивидуальность выражается в наличии особых, свойственных только ему опыта, знаний, мнений, убеждений, характера. Мотивация, темперамент, способности, характер — основные параметры индивидуальности. Предпосылка ее формирования — анатомо-физиологические задатки, преобразуемые в процессе жизни. Индивидуальность проявляется в свойствах темперамента, чертах характера, в специфике интересов и способностей индивида. Она — и самобытность чувств, и особенность характера, и уникальность мышления. «Чем выше организовано общественное существо, тем более выражена в нем индивидуальность», — писал И. И. Мечников. Зная сильные и слабые стороны школьников, можно определить условия их обучения и развития, рационально построить режим работы, помочь найти пути самосовершенствования.
Таким образом, сравнивая данные понятия, мы можем отметить: «индивид» означает нечто целое, неделимое, указывает, что объединяет данного человека с человеческим видом; «индивидуальность» дает ответ на вопрос, чем данный человек отличается от всех других людей; понятие «личность» характеризует целостность, но такую, которая рождается в обществе.
Человек, индивид и личность — ключевые понятия психологии, которые не менее важны и в обществознании , так как человек — это основной элемент общества. Какова же разница в этих трех терминах?
Человек.
Человек — термин биологического характера. Это звено в развитии живых существ на нашей планете. Homo sapiens в том виде, в котором они существуют сейчас, существовали и десятки тысяч лет назад. Биологическая, физиологическая, анатомическая структуры за это время существенно не изменились. Но каждому очевидна разница между студентом современного университета и охотником древней Месопотамии. В чем же эта разница?
Индивид.
Индивид в переводе с латыни (individuum) означает «неделимый». Это — конкретный представитель человечества, человеческая особь, у которой есть характерные только ей психологические и биологические особенности. Более расширенное понятие — индивидуальность , то есть сочетание этих биологических и психологических качеств, которое отличает данного конкретного индивида от остальных.
Таким образом, индивид — это конкретный человек со своими особенностями, данными ему от рождения, индивидуальность — уже больше психологический термин, чем биологический — набор навыков (характера, умения, знаний), приобретенных в процессе жизнедеятельности.
Личность.
Личность — самое сложное понятие. Это социальный образ человека . Именно общество формирует из индивида личность. Это то, что отличает человека от животного. Индивид, выращенный отдельно от остальных, например, на необитаемом острове, станет индивидуальностью. Но не станет личностью, потому что здесь ключевой фактор — общение и взаимоотношения с другими людьми. Чтобы стать личностью, человек проходит путь социализации , и ее формирование происходит в течение всей жизни.
Основные элементы социализации :
- общение;
- воспитание;
- образование;
- средства массовой информации;
- система социального контроля.
В процессе социализации (формирования личности) у человека вырабатываются физические навыки и умения, психологические особенности , моральные факторы, научные знания, политические мировоззрения, религиозные ценности и т.д. Социолог Леонтьев охарактеризовал личность как совокупность социальных отношений, которые реализуются в различных видах деятельности. Попросту говоря, личность — это член общества , и в этом определении — все, что может под этим подразумеваться.
Различие понятий человека, индивида и личности.
Различие понятий человека, индивида и личности для того. Кто не очень знаком с социологией и психологией легко объяснить простым примером из жизни.
Допустим, вы начали играть в компьютерную RPG — игру на подобие Fallout или Skyrim. Вначале вы выбираете расу — эльф, гном или человек. Это и есть понятие человека, то есть биологическое различие от остальных видов существ. С самого начала ваш персонаж обладает определенными навыками и умениями (сила, выносливость, интеллект и т.д.). В этом виде, на самом старте игры, перед нами индивид, отличающийся от остальных (во многих играх эти начальные параметры вы задаете сами) особенностями, данными от рождения. В игровом процессе ваш персонаж развивается, приобретает новые черты характера, знания, способности, и к концу игры мы имеем героя с определенной харизмой и кармой, набором навыков, совсем не похожего на того, кого мы получили вначале. Вот это и есть уже личность.
Таких сравнений можно привести множество (даже с «World of Tanks»), но суть в том, чтобы понять, что человеком рождаются, а личностью становятся в процессе общения и взаимодействия с другими членами общества.
» употребляются термины » «, «индивид «, «индивидуальность «. Содержательно эти понятия переплетены между собой.
Человек (с маленькой буквы) — это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к высшей степени развития живой природы — к человеческому роду. В понятии «человек» утверждается генетическая предопределенность развития собственно человеческих признаков и качеств.
При этом, когда говорят о человеке, иногда говорят о Человеке с большой буквы, и это — про другое. «Когда ты станешь Человеком?» — это вопрос «Когда ты станешь разумным и порядочным?»
Индивид — это единичный представитель вида «homo sapiens» . Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, как рост, телесная конституция и цвет глаз), но и психологическими свойствами (способностями, темпераментом, эмоциональностью).
Индивидуальность — это единство неповторимых личностных свойств конкретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темперамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный опыт).
Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса становления личности и индивидуальности.
Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении им родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека. Становление личности связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить отношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме.
Становление индивидуальности есть процесс индивидуализации объекта. Индивидуализация — это процесс самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая индивидуальностью личность — это самобытный, активно и творчески проявивший себя в жизни человек.
В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы различные стороны, разные измерения духовной сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в языке. Со словом «личность» обычно употребляются такие эпитеты, как «сильная», «энергичная», «независимая», подчеркивая тем самым ее деятельностную представленность в глазах других. Об индивидуальности говорят «яркая», «неповторимая», «творческая», имея в виду качества самостоятельной сущности.
«Когда ты станешь личностью?» — это вопрос про внутреннюю свободу: «Когда ты начнешь жить своей головой, принимать свои решения?» Может быть яркая, свободная, сильная личность и в малой степени Человек — например, бандит. Может быть разумный и порядочный человек, и при этом в малой степени личность — например, хороший человек обыватель, живующий просто как
Индивид – это человек, отдельно взятый из общности, которому присущи определенные биологические особенности, качества и устойчивость психических процессов. Другими словами, под этим подразумевается единичный человек, которого выделяют из социальной группы либо общества в силу некоторых специфических особенностей, совокупности свойств.
На сегодняшний день имеется множество понятий и терминов, которые имеют довольно схожее значение, однако специфические тонкости все же различают их. Под этим подразумевается, например, контекст использования слова.
Допустим, слова «бытие» и «мир» обладают сходными значениями, включая в себя совокупность всех жизненных категорий, однако первое понятие не пользуется популярностью в обыденности, чего не скажешь о его философском значении.
Суть в том, что «мир» по смыслу более узок, чего не скажешь о бытие, хотя на первый взгляд, разница минимальна. Слово «индивид» также обладает сходством по значению с другими словами: человек, субъект, личность. В рассуждениях их можно использовать все вместе, подразумевая одно и то же, но следует видеть разницу, дабы не ошибиться с контекстом. Что же подразумевается под понятием «индивид»? Кто это?
Индивид и индивидуальность
Несмотря на схожесть в корнях, необходимо различать два этих слова. Под индивидуальностью подразумевается совокупность накопившихся в процессе развития качеств и особенностей, присущие личности.
Суть в том, что индивидом человек является по факту своего зарождения, не обладая при этом индивидуальностью, которая наращивается со временем. Эмбрион в животе матери способен реагировать на внешние раздражители: звук, свет, прикосновения.
Подразумевается свет, направленный на живот матери и прикосновения к животу. А раз зародыш обладает способностью воспринимать, то можно смело сказать, что индивидом он становится во внутриутробном состоянии. Там же возможно формирование некоторых особенностей, т. е. появление индивидуальности.
Человек
Человек – это представитель вида Homo Sapiens, являющийся результатом биологической революции. Как уже говорилось ранее, понятия «человек», «индивид» и «личность» взаимозаменяемы, но именно первое понятие кроет в себе всю человеческую сущность, обладает единством социальных, биологических и психических уровней.
Однако именно эта обобщенность породила потребность в выделении особенностей, тонкостей и специфики, что привело к появлению двух оставшихся терминов.
Человек многогранен. Об этом говорит неоднородность происходящей в нем эволюции: биологическая, социокультурная, космогенная. Вопрос о природе происхождения человека до сих пор остается открытым для исследователей. В его рамках проявляет себя религиозная позиция, гласящая о сотворении человека Богом. Однако имеются и другие догадки и мнения по этому вопросу, множество философов и ученых пытались познать человеческую сущность.
В особенности XX век подарил миру таких исследователей, как Эдмонд Гуссерль, Жак Лакан, Клод Леви-Стросс и другие. Все они писали труды, посвященные человеку, его восприятию мира, определению места в мире и познанию.
Личность
Для начала нужно сказать, что это понятие представляет собой. Термин « » глубок в своем значении и представляет значительную сложность для понимания. Для начала необходимо сказать о нем в рамках исторического контекста.
Еще в Древнем Риме под личностью понимали ритуальную маску, снятую с лица умершего хозяина дома, которую впоследствии хранили в доме. Значение слова связывалось с индивидуальными правами, именем и привилегиями, передаваемыми только по мужской линии рода. Переносясь в Древнюю Грецию, можно открыть иное значение личности – это маска, надеваемая актерами спектакля на свое лицо.
Философ Древней Греции – Теофаст, выделил целых тридцать типов личности в своем трактате «Этические характеры». Что касается России, то понятие «личность» продолжительное время знаменовало собой нечто мерзкое и оскорбительное и обозначало «личину», под которой находится настоящее лицо.
В чем же принципиальное отличие понятия «личность» от индивида? происходит под влиянием общественных отношений, внешнего окружения, культурологических особенностей и воспитания. Как социально-психологическое явление личность подразумевает значимость человека в обществе и подчеркивает его индивидуальность.
Соотношение индивида, личности и человека
Ведя речь об индивиде, необходимо подчеркнуть присущие ему характеристики: активность, устойчивость, целостность, взаимодействие с природой и ее изменение. Активность у индивида раскрывается в способности и изменении самого себя, а также в преодолении препятствий внешнего мира.
Под устойчивостью понимается сохранение основных отношений с внешним миром, а также способность к гибкости и пластичности, которые необходимы в изменчивых условиях действительности.
Целостность указывает на системность связей различных функций и механизмов, благодаря которым индивид существует в жизненном мире.
В психологии имеется ряд концепций, напрямую затрагивающих соотношение индивида и личности. К примеру, В.А. Петровский, основой теории которого являлось высказывание о единстве личности и индивида, однако не отождествляло их между друг другом.
Личность – это скорее совокупность свойств, приобретенных индивидом ввиду постоянной социогенной потребности персональной самоидентификации, благодаря которой задается взаимообусловленность трех ипостасей личностного существования:
- Устойчивая совокупность интраиндивидных свойств;
- Включенность индивида в область межиндивидных связей;
- Представление индивида в отношениях других людей.
Индивид и его структура
Личность индивида можно разделить на три взаимодействующие структуры, как говорит Юнг: эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное. Первое содержит в себе всю совокупность мыслей, чувств, ощущений и воспоминаний, благодаря которым человек воспринимает самого себя целостно, полно и ощущает себя одним из людей.
Конфликты и воспоминания, ранее хорошо отпечатанные в памяти, но с течением времени забытые, относятся к категории личного бессознательного. Причина того, почему данные воспоминания остались позади и стали забыты, кроется в их недостаточной яркости. В этом чувствуются отголоски Фрейда, но Юнг пошел дальше и сказал о том, что личное бессознательное содержит в себе комплексы, скрыто влияющие на поведение индивида.
К примеру, если у индивида имеется скрытая жажда власти, он будет даже неосознанно к ней стремиться. Подобная схема работает и с человеком, находящимся под значительным влиянием родителей или друзей.
Однажды сформированный комплекс сложен для преодоления, потому что он укореняется в любых отношениях. А что же с коллективным бессознательным? Это более глубокий слой структуры, в котором латентно находятся общечеловеческие воспоминания, мысли предков. Чувства и память общечеловеческого прошлого кроется в каждом индивиде. Содержательная часть коллективного бессознательного одинакова абсолютно для всех людей и является наследием прошлого времени.
Архетипы коллективного бессознательного по Юнгу
Под архетипами Юнг подразумевает универсальные психические структуры, которые находятся в человеке с рождения, они являются частью коллективного бессознательного.
Архетипов может быть бесчисленное множество, однако Юнг выделяет лишь несколько наиболее значительных: маска, тень, аниме и анимус, самость:
- Маска – это личина, публичное лицо, которое человек надевает на себя, выходя в общество, взаимодействуя с другими людьми. Функция маски заключается в сокрытии истинного лица, в некоторых случаях для достижения определенных целей. Опасность частого ношения маски кроется в отчуждении от истинного эмоционального опыта и характеризует человека как глупого и недалекого.
- Тень является полной противоположностью предыдущему архетипу. В нее входит все тайное, темное скрытое, животная составляющая, которую нельзя вытаскивать наружу в силу последующей негативной реакции со стороны общественности. Однако у тени есть и положительная составляющая – она содержит в себе творческое начало человека, элемент спонтанности и страсти.
- Под аниме и анимусом понимается андрогинная предрасположенность у всех людей. Другими словами, говорится о присутствии в мужчине женского начала (анима), а в женщине – мужского (анимус). К этому заключению Юнг пришел на основе наблюдений вырабатывания в мужчинах и женщинах гормонов противоположного пола.
- Самость – это наиболее важный архетип, вокруг которого кружатся остальные. Когда происходит интеграция всех частей человеческой души, индивид ощущает полноту и гармонию с самим собой.
Индивид и развитие
Самосовершенствование, развитие, накопление знаний – все это происходит постепенно. Индивид не ограничивается развитием на ранних стадиях, а продолжает динамично раскрываться на протяжении всей жизни. Случается такое, что человек достигает пика своего совершенства лишь в старости.
По Юнгу, важнейшая цель всей жизни индивида – это обретение себя, нахождение собственной сущности.
Такое состояние сродни единству всех компонентов, слияние в одно целое, только целостность индивида придаст ему счастье и привнесет полную гармонию. Стремление к этой цели называется индивидуализацией. Она подразумевает стремление к целостности противодействующих внутриличностных сил. Выходит так, что архетип самости объединяет в себе противоположности и является тем пиком, в котором все органично связано друг с другом.
Заключение
Итак, индивид – это единичное человеческое существо, которое заключает в себя совокупность личностных качеств, особенностей, физиологических характеристик, психологических и биологических составляющих.
Индивид схож по значению с человеком и личностью, однако было показано то, в чем отличие этих понятий. Человек – понятие обобщенное, требующее уточнение ввиду тонкостей в разгадке человеческой сущности. А личность представляет собой социально-психологическую категорию, в которой нашли свое место качества и особенности характера индивида. Данное понятие гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, многие психоаналитики, включая Фрейда и Юнга, занимались вопросами личности, ее структурой и развитием.
Индивид всегда находится в процессе становления, стремится прийти к самости, в которой обитает гармония и единство. Индивид постоянно взаимодействует с окружающим пространством и другими индивидами, надевая на свое лицо маски.
Тайные желания человека подстегивают его на совершение экстравагантных поступков, находясь в коллективном бессознательном. Индивид является частью всего человечества, где каждый стремится к гармонии и счастью, но не каждый достигает конечной цели.
Психология общения и межличностных отношений
ГЛАВА 1
Характеристика общения
1.1. Понятие «общение»
Как пишет А. И. Волкова (2007), в психологии отсутствует общепринятое определение общения. Как правило, дается описательное определение, указывающее на основные функции или стороны общения. В качестве примера она приводит следующее безымянное определение: «Общение — это «сложный и многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания и взаимного понимания друг друга»» (с. 50–51).
Общение как коммуникация. В англоязычной культуре слова «общение» нет, есть только слово «коммуникация». Поэтому в зарубежных публикациях речь идет только о коммуникативных процессах, и для наших читателей неизбежно возникает синонимичность понятий «коммуникация» и «общение». В нашем же языке эти понятия могут иметь различный смысл. Как отмечает В. И. Фефелова (2007), в слове «общение» заложен более личностный, духовный контакт партнеров, а «коммуникация» предполагает более деловую, рациональную смысловую направленность взаимодействия субъектов. Автор полагает, что общение — «это то, что в нашем восприятии непосредственно связано с культурой и духовностью, с произведениями русских классиков (А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.), с неформальными отношениями людей» (с. 34).
Конечно, духовность может присутствовать в процессе общения. Ну а если ее нет? Следует ли из этого, что тогда нет и общения и процесс взаимодействия людей превращается в коммуникацию?
Я полагаю, что соотношение между этими понятиями другое, а именно — отношение общего (коммуникация) и частного (общение). Не все виды коммуникации являются общением, но любое общение является частным видом коммуникации. Общение — это частный вид коммуникации, специфичный для высокоразвитых живых существ, в том числе — для человека. Под коммуникацией понимается связь, взаимодействие двух систем, в ходе которого от одной системы к другой передается сигнал, несущий информацию. Коммуникация присуща и техническим системам, и взаимодействию человека с машиной, и взаимодействию людей. Последний вид и относится к общению. При взаимодействии людей коммуникация получает новое качественное содержание.
Общение как деятельность. Б. Ф. Ломов (1984) пишет: «Широкое распространение получила трактовка общения как деятельности. Оно рассматривается как один из «видов деятельности», как «деятельность общения», «коммуникативная деятельность» и т. п. Впрочем, иногда его определяют не как деятельность, а как “условие деятельности” или как ее “сторону”. В этой связи на процессы общения пытаются распространить теоретические схемы, сформировавшиеся при изучении предметно-практической деятельности либо некоторых других ее форм» (с. 245). Хотя Б. Ф. Ломов не указывает автора этой точки зрения, однако очевидно, что речь идет о взглядах А. А. Леонтьева (1974, 1979), который считал, что общение — это особый вид деятельности и выступает как компонент, составная часть (и одновременно условие) другой, некоммуникативной деятельности. В то же время он оговаривал, что это не означает, что общение выступает как самостоятельная деятельность. А. В. Мудрик (1974) тоже писал, что с точки зрения педагогики понимание общения как особого вида деятельности весьма целесообразно. Эта точка зрения разделяется некоторыми психологами и в настоящее время. Например, В. М. Целуйко (2007) определяет общение как форму деятельности, которая осуществляется между людьми как равными партнерами и приводит к установлению психического контакта.
Против понимания общения как деятельности выступили ряд авторов. Л. М. Архангельский (1974), В. Г. Афанасьев (1976) и Д. И. Дубровский (1983), в принципе не возражая против деятельностного подхода в анализе общения, в то же время возражали против понимания общения как вида деятельности, отмечая, что оно есть лишь непременный атрибут любой человеческой деятельности. Решительно выступала против понимания общения как деятельности Л. П. Буева (1978). Она трактовала общение как принципиально иное явление, чем деятельность.
Б. Ф. Ломов тоже не согласен с таким пониманием общения и пишет по этому поводу: «Однако возникает вопрос: правомерно ли рассматривать общение лишь как частный случай деятельности, «растворять» его в деятельности… Конечно, общение является активным процессом, и если понимать деятельность как активность вообще, то можно (и нужно) отнести общение к категории деятельности. Однако… сложившиеся концепции деятельности… охватывают лишь одну сторону социального бытия человека, а именно отношения «субъект — объект»… Такой подход, конечно, правомерен и продуктивен. Однако он раскрывает лишь одну (безусловно весьма существенную, но все же одну) сторону человеческого бытия. Поэтому вряд ли правильно в его исследовании ограничиваться только этой стороной и рассматривать человеческую жизнь как “поток сменяющих друг друга деятельностей”, понимаемых только в плане “субъект-объектных” отношений… Возникает необходимость усилить разработку также категории общения, раскрывающей другую и не менее существенную сторону человеческого бытия: отношение «субъект — субъект(ы)»» (с. 245–246).
Как уже говорилось, общение часто отождествляется с деятельностью либо понимается как ее специфический вид. Если принять такой подход к трактовке общения, то следует рассмотреть процесс общения с тех позиций, которые разработаны в психологии для анализа деятельности. Но как раз здесь-то мы сталкиваемся с трудностями. Прежде всего возникает вопрос о том, какое место занимает общение в психологической классификации деятельностей. Исследуя деятельность и ее развитие, обычно указывают игру, учение и труд. Вместе с тем, исследуя и игру, и учение, и труд, мы всюду обнаруживаем общение. Столь же трудно определить местоположение общения и в той классификации, которая разделяет виды деятельности на предметно-практическую и умственную, или на продуктивную и репродуктивную, или на практическую и теоретическую и т. д. Можно разделить виды деятельности по их объекту, тогда общение может рассматриваться как деятельность, объектом которой является человек. Но этот объект столь специфичен, что поставить деятельность по отношению к нему в один ряд с деятельностями по отношению к другим, «бездушным», объектам (вещам) также представляется затруднительным. Можно в качестве критерия разделения видов человеческой деятельности взять, как это делают некоторые психологи и философы, различные виды «субъектно-объектных отношений». Пользуясь этим критерием, выделяют преобразующую, познавательную и ценностноориентировочную деятельности. Когда же речь заходит о коммуникативной деятельности, авторам приходится отказаться от принятого критерия и перейти к рассмотрению отношения «субъект — субъект», т. е. обратиться к другому критерию. Короче говоря, при современном состоянии исследований пока очень трудно найти местоположение общения, рассматриваемого как деятельность, в системе других видов человеческой деятельности. Но это, конечно, не самый главный вопрос. Попробуем рассмотреть общение с позиции той схемы, которая описывает деятельность. Как уже отмечалось, важнейшим понятием, используемым при описании индивидуальной деятельности, является мотив (или вектор «мотив — цель»). Когда мы рассматриваем даже самый простейший, но конкретный, реальный вариант общения, например между двумя индивидами, неизбежно обнаруживается, что каждый из них, вступая в общение, имеет свой мотив. Как правило, мотивы общающихся людей не совпадают, точно так же могут не совпадать и их цели. Чей же мотив следует принимать в качестве мотива общения? При этом надо иметь в виду, что в процессе общения мотивы и цели его участников могут как сблизиться, так и стать менее похожими. Мотивационная сфера общения вряд ли может быть понята без исследования взаимного влияния участников общения друг на друга. По-видимому, в анализе мотивации общения нужен несколько иной подход, чем тот, который принят в изучении индивидуальной деятельности. Здесь должен быть учтен некоторый дополнительный (по сравнению с анализом индивидуальной деятельности) момент — взаимоотношения мотивов общающихся индивидов. Не меньшие трудности возникают также при определении субъекта и объекта коммуникативной деятельности. Можно, конечно, сказать, что в простейшем варианте объектом деятельности одного из участников общения является другой человек. Однако если иметь в виду конкретно-психологическое исследование, нужно определить, кто именно рассматривается как субъект общения, а кто — как объект, и на основании каких критериев производится такое разделение.
Эти вопросы часто оказываются неразрешимыми… Общение выступает не как система перемежающихся действий каждого из его участников, а как их взаимодействие. «Разрезать» его, отделив деятельность одного участника от деятельности другого, — значит отойти от анализа взаимного общения. Общение — это не сложение, не накладывание одной на другую параллельно развивающихся («симметричных») деятельностей, а именно взаимодействие субъектов, вступающих в него как партнеры… Таким образом, даже самый приблизительный психологический анализ процесса общения в соответствии со схемой, разработанной для изучения деятельности, показывает ее ограниченность. Общение не укладывается в эту схему.
Теоретические взгляды зарубежных авторов на понятие «Поведение» Текст научной статьи по специальности «Психологические науки»
Библиографический список
1. Гальперин, П. Я. Психология мышления и учения о поэтапном формировании умственных действий [Текст] / П. Я. Гальперин // Исследование мышления в советской психологии. — М., 1966. — С. 88-124.
2. Коиопкин, О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности [Текст] / О. А. Конопкин. — М.: Наука, 1980. — 256 с.
3. Ломов, Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии [Текст] / Б. Ф. Ломов. — М.: Педагогика, 1984. — 326 с.
4. Шадриков, В. Д. Индивидуализация содержания образования [Текст] /
В.Д. Шадриков // Школьные технологии. — 2000. — № 2. — С. 53-66.
5. Шендрик, И. Г. Самореализация личности в контексте проектирования образования [Текст] / И. Г. Шендрик //’ Педагогика. — 2004. — № 4. — С. 36-42.
УДК 159.9.019.43
Давлетбаева Зинфира Кинъябулатовна
Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сибайского института Башкирского Государственного университета, [email protected], Сибай
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ НА ПОНЯТИЕ «ПОВЕДЕНИЕ»
Davletbaeva Zinfira Kinyabulatovna
Post-graduate student of Sibayskiy Institute of Bashkirskiy State University, dav-zinfira@ yandex.ru, Sibay
THEORETICAL VIEWS OF FOREIGN AUTHORS ON A CONCEPT «BEHAVIOR»
Поведение является одним из центральных категорий в спектре многих пси-холого-педагогических исследований. Оно широко используется для обозначения вида и уровня активности человека, наряду с такими ее проявлениями как деятельность, созерцание, познание, общение.
Наиболее содержательно и разносторонне, психологический аспект поведения представлен в рамках психологии личности. На настоящий период ограниченность психологических знаний делает возможным существование разнонаправленных теорий личности с различным пониманием ее сущности, структуры, проявлений и отклонений.
Вместе с тем мнения по общим и основным понятиям у большинства ученых совпадают, в частности по вопросу относительной константности личности. Личность может изменяться на протяжении длительного времени, и его поведение будет зависеть от ситуации, тем не менее, личность относится к тем долговременным и важнейшим конструктам индивида, которые оказывают определяющее влияние на поведение.
Поведение человека может отличаться чрезвычайной сложностью и разнообразием, однако личность считается обязательным и относительно константным компонентом индивида, в котором мотивация рассматривается как фундаментальная детерминанта поведения. В связи с этим большинство теорий личности остаются в рамках мотивационной структуры при различном понимании основных составляющих природы человеческого существа [8].
В западной психологии поведение рассматривается с позиции пяти основных направлений: бихевиористской (Дж. Б. Уотсон, Э. Торндайк) психодинамической (3. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, К. Г. Юнг, К. Хорни), гуманистической (А. Маслоу, К. Роджерс), и становящиеся все более влиятельными биопси-хологической (J. С. Loehlin, L. Willerman, J. М. Horn, R. Plomin, J. P. Ruchton, D. W. Fulker, М. C. Neale, D. K. Nias, H. J. Eysensk), когнитивной (Дж. Келли, М. Махони, С. Шехтер, М. Айзенк).
Научные представления о человеческом поведении получили особенно бурное развитие в начале XX в., с того времени, когда бихевиористы объявили его предметом психологической науки. Первоначально под поведением понимали любые внешне наблюдаемые реакции индивида (двигательные, вегетативные, речевые), функционирующие по схеме «стимул-реакция». По мере накопления эмпирических данных понимание природы человеческого поведения все более углублялось. Уже в 1931 г. один из основоположников поведенческой психологии — Джон Уотсон — говорил о поведении как о «непрерывном потоке активности, возникающей в момент оплодотворения яйца и становящейся все более сложной по мере развития организма» [2, с. 224J. Таким образом, под поведением бихевиористы понимали совокупность двигательных реакций организма на внешние стимулы, ведущим признаком которого является активность.
Современное понимание поведения выходит далеко за рамки совокупности реакций на внешний стимул. Так, в психологическом словаре поведение определяется как «присущее живым существам взаимодействие с окружающей средой, опосредованное их внешней и внутренней активностью» [4, с. 276]. Под внешней активностью человека понимаются любые внешние проявления: движения, действия, поступки, высказывания, вегетативные реакции. Внутренними составляющими поведения считаются: мотивация и целеполагание, когнитивная переработка, эмоциональные реакции, процессы саморегуляции [3].
В рамках психоаналитической теории взгляд на поведение человека основывается на представлении, согласно которому люди являются сложными энергетическими системами. Сообразуясь с достижениями физики и физиологии XIX в., 3. Фрейд считал, что поведение человека активируется единой энергией, согласно закону сохранении энергии (то есть она может переходить из одного состояния в другое, но количество ее остается при этом тем же самым). Фрейд взял этот общий принцип природы перевел его на язык психологических терминов и заключил, что источником психической энергии является психофизиологическое состояние возбуждения. Далее он постулировал: у каждого человека имеется определенное ограниченное количество энергии, питающей психическую активность; цель любой формы поведения индивидуума состо-
ит в уменьшении напряжении, вызываемого неприятным для него скоплением этой энергии.
Таким образом, согласно теории Фрейда, мотивация человека полностью основана на энергии возбуждения, производимого телесными потребностями. По его убеждению, основное количество психической энергии, вырабатываемой организмом, направляется на умственную деятельность, которая позволяет снижать уровень возбуждения, вызванного потребностью. По Фрейду психические образы телесных потребностей, выраженные в виде желаний, называются инстинктами. В инстинктах проявляются врожденные состояния возбуждения на уровне организма, требующие выхода и разрядки. Фрейд утверждал, что любая активность человека (мышление, восприятие, память и воображение) определяется инстинктами. Влияние последних на поведение может быть как прямым, так и непрямым, замаскированным. Люди ведут себя так или иначе потому, что их побуждает бессознательное напряжение — их действия служат цели уменьшения этого напряжения. Инстинкты как таковые являются «конечной причиной любой активности» [12].
Психоаналитическая теория позволяет расширить понимание природы поведения человека в наиболее глубоком и сущностном ее понимании. Так, взгляд Фрейда на поведение как источника психической энергии, позволило отечественному автору В. И. Самохваловой, дополнить и интерпретировать с несколько иной точки зрения [6].
Всему живому на земле, как считает автор, природой дается не только необходимый запас энергии для выполнения задач непосредственного существования и роста, но и, помимо необходимого, известный ее избыток, своего рода «энергия специального назначения», — активного самоутверждения в мире.
Следует уточнить, что под рассматриваемой энергией имеется в виду не сексуальная энергия, о которой писал 3. Фрейд как об основе и причине построения культуры, а энергия творчества, энергия созидания. Сексуальные энергии действительно более базовые в смысле горизонтального укоренения и экстенсивного распространения жизни «вширь». Творческие энергии — это энергии вертикального устремления; они вносят гармонию в бытие человека, сообщают ему высшее экзистенциальное равновесие. Только на своеобразном векторном «кресте» энергий человек может претвориться в собственно человека, «вытянув» из животного бытия свое человеческое существование.
Напряженность творческого проявления имеет своим обеспечением энергию, которая необходимо включает в свой состав активную наступательность, некоторую долю своеобразной как бы агрессивности, обеспечивающей чувство уверенности в своих силах и готовность действовать. И если при этом отсутствуют условия для творческой реализации или разрушены (деформированы) каналы для этого, то такой излишек активной энергии может выливаться в прямую агрессию, разного рода деструктивное поведение, отклонения и суицидальные импульсы (как агрессию против себя). Творческая деятельность во всех видах ее проявления способна направить в культурное русло творческого самовыражения излишки самоутверждения, которое может принимать и па-
тологические агрессивные формы, и патологически депрессивные — от невозможности самовыражения и творческой невостребованности.
В рамках анализа категории поведения вызывающим интерес является утверждение Фрейда о том, что все поведение человека носит защитный характер. Хотя это и считается принципиальной ошибкой, и по признанию Г. Мюррея [5] не все поведение носит защитный характер, данный фаю: позволяет уточнить особенности проявления деструкгивных отклонений в поведении.
Так, асоциальное поведение, в отдельных случаях, может быть представлено как одной из форм компенсаторного поведения или как своеобразный способ защиты человека.
Подросток, попадая в трудную жизненную ситуацию, условия которой, к примеру продиктованы «некомпетентностью учителей» и нарушенным воспитательным воздействием со стороны родителей, может привести к ряду таких психологических проблем, как трудности в общении с учителями и одноклассниками, трудности в обучении, заниженная самооценка, непонимание родителей ребенка в семье и т. д. Ребенок, находясь под давлением взрослых, которые стремятся изменить ситуацию в «лучшую сторону», порой применяют методы воздействия на ребенка в форме неконструктивного общения: неоправданных нравоучений и наставлений, окриков, усугубляя и без того сложную ситуацию ребенка.
Безвыходная ситуация подводит ребенка к потребности в изменении стиля общения с окружающими, «отдушину» которой он находит в таких формах выражения, как игнорирование требований учителей и родителей, обман, словесные оскорбления в адрес окружающих, рукоприкладство и другие формы деструктивного поведения. Тем самым, в форме защитной реакции подросток как бы «ограждает» себя от негативного влияния ближайшего социального окружения.
Таким образом, теоретические положения Фрейда и сейчас способствуют современной науке раскрывать и дополнять психологическое содержание такого достаточно сложного феномена как поведение. Исходя из вышеизложенного, поведение Фрейдом представлено как опосредованная психической энергией активность, вызванная бессознательной потребностью снятия напряжения, характеризующаяся как защитная форма реакции. Развивая концептуальные идеи психоаналитической теории Фрейда, А. Адлер относительно представлений о факторах влияющих на поведение человека, полагал, что люди мотивированы ненасытной жаждой личной власти и потребностью доминировать над другими. В частности он считал, что людей толкает вперед потребность преодолевать глубоко укоренившееся чувство неполноценности и стремление к превосходству Однако позднее, когда теоретическая система Адлера получила дальнейшее развитие, в ней было учтено, что люди в значительной степени мотивированы социальными побуждениями. А именно, людей побуждает к тем или иным действиям врожденный социальный инстинкт, который заставляет их отказываться от эгоистических целей ради целей сообщества [7; 8].
Поведение, по Адлеру имеет универсальную мотивационную тенденцию в виде стремления к субъективно понимающей определяющей цели, идея ко-
торого переросла в концепцию фикционного финализма: поведение индивидуума подчинено им самим намеченным целям в отношении будущего. Отметим, что трактовка поведения Адлера существенно отличается от концептуальных положений 3. Фрейда, который рассматривал его как внутреннюю причинность снятия напряжения, в то время как Адлер в понятие поведения вкладывает, прежде всего, социальный смысл. Поэтому поведение в целом, по Адлеру понимается, как некая форма активности мотивированная социальными побуждениями, главным мотивом, которого является мотив превосходства, опосредованная стремлением человека к власти.
Иногда индивиды стремятся реализовать свою власть, но лишь для подчеркивания своего превосходства или с целью унижения оппонента [1]. В данном случае, когда содержание власти определяется не как способ служения общественным ценностям, а через стремление реализовать собственные интересы, подавляя других, то есть основание утверждать о том, что такое поведение носит асоциальный характер.
Новые подходы в понимании человеческого поведения внес Карл Густав Ют; согласно которых индивидуумы мотивированны интрапсихическими силами и образами, происхождение которых уходит вглубь истории эволюции. Это врожденное бессознательное содержит имеющий глубокие корни духовный материал, который и объясняет присущее всему человечеству стремление к творческому самовыражению и физическому совершенству [13; 14].
Согласно Юнгу, конечная жизненная цель — это полная реализация «Я», то есть становление единого, неповторимого и целостного индивида. Развитие каждого человека в этом направлении уникально, оно продолжается на протяжении всей жизни и включает в себя процесс, получивший название индивидуация, что означает динамичный и эволюционирующий процесс интеграции многих противодействующих внутриличностных сил и тенденций. В своем конечном выражении индивидуация предполагает сознательную реализацию человеком своей уникальной психической реальности, полное развитие и выражение всех элементов личности. Итог осуществления ииди-видуации, очень непросто досягаемый, Юнг называл самореализацией. Он считал, что эта конечная стадия развития личности доступна только способным и высокоорганизованным людям, имеющим к тому же достаточный для этого досуг. Из-за этих ограничений самореализация недоступна подавляющему большинству людей.
В несколько ином психологическом ракурсе поведение рассматривают в таких стремительно развивающихся направлениях как биопсихология и когнитивная психология. Так, с точки зрения биопсихологического направления поведение животных и человека является результатом внутренних физических, химических и биологических процессов. Оно стремится объяснить поведение деятельностью головного мозга, нервной и эндокринной систем, физиологией и эволюцией [19].
Ключевая идея когнитивной психологии состоит в том, что значительную часть человеческого поведения можно объяснить в терминах ментальной обработки информации (Дж. Келли, М. Махони, С. Шехтер,
М. Айзенк). То, что люди — думающие существа, является фундаментальным фактом. Действительно, интеллектуальные процессы настолько самоочевидны, что фактически все персонологи сегодня так или иначе признают их воздействие на поведение человека [1]. Так, в соответствии с теоретической системой Джорджа Келли, получившей название психология личностных конструктов, человек по существу — ученый, исследователь, стремящийся понять, интерпретировать, предвидеть, контролировать мир своих личных переживаний для того, чтобы эффективно взаимодействовать с ним. Первое предположение теории Келли гласит, что люди главным образом ориентированы на будущие, а не на прошлые или настоящие события их жизни. Фактически Келли утверждал, что все поведение можно понимать как предупреждающее по своей природе [11]. Второе следствие уподобления всех людей ученым — это то, что люди обладают способностью активно формировать представление о своем окружении, а не просто пассивно реагировать на него.
В последние десятилетия, однако, персонологи начали выдвигать предположения, что поведение человека регулируется сложными взаимодействиями между внутренними явлениями (включая веру, ожидания, самовосприятие) и факторами окружения. Кульминацией таких рассуждений, являющихся развитием в различных направлениях взглядов классических бихевиористов, можно назвать социально-когнитивное направление. Особенности этого направления наиболее отчетливо представлены в работах двух выдающихся персонологов -Альберта Бандуры и Джулиана Ротгера. Теории каждого из них значительно отличается от радикального бихевиоризма Скиннера, но сохраняет строгую научную и экспериментальную методологию, которая характеризует бихевиористский подход.
Психическое функционирование, как полагает Бандура, лучше понимать в терминах непрерывного взаимодействия между факторами поведенческими, когнитивными и средовыми. Это означает, что поведение, личностные аспекты и социальные воздействия — это взаимозависимые детерминанты, то есть на поведение влияет окружение, но люди также играют активную роль в создании социальной окружающей среды и других обстоятельств, которые возникают в их каждодневных транзакциях. Эта точка зрения крайне отличается от подхода Скиннера [26], который ограничивает объяснение поведения человека от двухфакторной односторонней модели, в которой внешние события служат единственной причиной поведения. В отличие от Скиннера, который почти всегда рассматривал научение посредством прямого опыта, Бандура делает основной акцент на роли научения через наблюдение в приобретении навыков поведения
[9].
Важность самостоятельных воздействий, также подчеркивается Бандурой, как причинного фактора во всех аспектах функционирования человека — мотивации, эмоции и действиях. Это наиболее очевидно в его концепции самоэффективности — положения о том, что человек может научиться контролировать события, влияющие на его жизнь.
Другой персонолог — Джуллиан Роттер, подчеркивал роль социальных и познавательных переменных в понимании личности. Как и Бандура, он полагает, что люди — активные участники событий, влияющих на его жизнь. Сосредоточив внимание на том, как научаются поведению в социальном контексте, Роттер, кроме того, полагал, что в основном поведение определяется нашей уникальной способностью думать и предвидеть. По его утверждению, предсказывая, что люди будут делать в определенной ситуации, мы должны принять во внимание такие когнитивные переменные, как восприятие, ожидание и ценности. Также в теории Роттера существует положение, что поведение человека целенаправленно, то есть люди стремятся двигаться к ожидаемым целям [20]. Поведение человека, по Роттеру, определяется ожиданием, что данное действие приведет, в конечном итоге, к будущим поощрениям. Он полагает, что люди стремятся максимизировать поощрение и минимизировать или избегать наказания.
В понимании внутренней диспозиции поведения человека, представленные Роттером прежде всего, как убеждения человека и способа реагирования на происходящие события, большую роль сыграло введение им понятий «экстер-нальность» и «интернальность». Люди с экстернальным локусом контроля полагают, что их успехи и неудачи регулируются внешними факторами, такими как судьба, удача, счастливый случай, влиятельные люди и непредсказуемые силы окружения. «Экстерналы» верят в то, что они заложники судьбы. Напротив, люди с интернальным локусом контроля верят в то, что удачи и неудачи определяются их собственными действиями и способностями (внутренние, или личностные факторы).
Наиболее важным аспектом в понимании поведения Роттером является его непосредственная выраженность в категории — потребность. Концептуально потребность описывается как набор различных типов поведения:
1. Статус признания. Это понятие относится к нашей потребности чувствовать себя компетентным в широком спектре областей деятельности, таких как школа, физическая культура или общественная деятельность.
2. Защита — независимость. Это понятие включает в себя потребность, чтобы кто-то защитил нас от неприятностей и помог достичь значимых целей.
3. Доминирование. Это понятие включает в себя потребность влиять на жизнь других людей и иметь возможность организовывать последствия на основе такого контроля.
4. Независимость. Это понятие относится к нашей потребности принимать самостоятельные решения достигать цели без помощи других, полагаясь на собственные силы.
5. Любовь и привязанность. Это понятие включает в себя потребность, чтобы вас принимали и любили другие люди.
6. Физический комфорт. Данная категория включает в себя удовлетворение, связанное с физической безопасностью, хорошим здоровьем и свободой от боли [21].
Таким образом, поведение, с точки зрения социально-когнитивного направления представлено как опосредованное мыслительными процессами целе-
направленная форма активности, удовлетворяющая основные потребности человека и выстраивающееся в зависимости от ожиданий человека и ценности подкрепления, связанного с поведением в данной ситуации.
Позицию, придающую особое значение пониманию субъективного человеческого опыта занимают сторонники гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс). Они утверждают, что поведение обусловлено собственным образом человека, субъективным восприятием мира и потребностями в личностном росте. По предположению Маслоу [16], все потребности человека врожденные, или инстинктоидные, и что они организованы в иерархическую систему приоритета или доминирования:
1. Физиологические потребности. В эту группу включаются потребности в пище, питье, кислороде, в физической активности, сне и т. д. Эти физиологические потребности непосредственно касаются биологического выживания человека и должны быть удовлетворены на каком-то минимальном уровне прежде, чем любые потребности более высокого уровня станут актуальными.
2. Потребности безопасности и защиты. Сюда включены потребности: в организации, стабильности, в законе и порядке, в предсказуемости событий, что отражают заинтересованность в долговременном выживании.
3. Потребности принадлежности и любви. Эти потребности начинают действовать, когда физиологические потребности и потребности безопасности и защиты удовлетворены. На этом уровне люди стремятся устанавливать отношения привязанности с другими, в своей семье или группе. Групповая принадлежность становится доминирующей целью для человека.
4. Потребности самоуважения. Человеку нужно знать, что он достойный человек, может справляться с задачами и требованиями, которые предъявляет жизнь. Уважение другими включает в себя такие понятия, как престиж, признание, репутация, статус, оценка и приятие. В этом случае человеку нужно знать, что-то, что он делает, признается и оценивается значимыми другими.
5. Потребности самоактуализации, или потребности личного совершенствования. Самоактуализация характеризуется Маслоу, как желание человека стать тем, кем он может стать. Человек, достигший этого высшего уровня, добивается полного использования своих талантов, способностей и потенциала личности. Самоактуализироваться — значит достичь вершины нашего потенциала.
Удовлетворение потребностей, с нарастающей силой, по иерарархии способствует росту человека, его самоактуализации. Так, удовлетворение потребностей самоуважения порождает чувство уверенности в себе, достоинство и осознание того, что вы полезны и необходимы в мире. Напротив, фрустрация этих потребностей приводит к чувству неполноценности, бессмысленности, слабости, пассивности и зависимости. Это негативное самовосприятие, в свою очередь, может вызвать существенные трудности, чувство пустоты и беспомощности в столкновении с жизненными требованиями и низкую оценку себя по сравнению с другими. Дети, чья потребность в уважении и признании отрицается, склонны низко оценивать себя.
По основным положениям позиции Маслоу [17] и Роджерса [24; 25] относительно самореализации человека сходятся в едином концептуальном ключе. Так, в результате своих клинических наблюдений Роджерс пришел к заключению, что самая сокровенная сущность природы человека ориентирована на движение вперед к определенным целям, конструктивна, реалистична и весьма заслуживает доверия. Роджерс утверждал, что христианство культивировало представление, что люди от природы злы и грешны. Он также утверждал, что этот негативный взгляд на человечество был еще усилен Фрейдом, нарисовавшим портрет человека, движимого Ид и бессознательным, которые могут проявить себя в инцесте, убийстве, воровстве, сексуальном насилии и других ужасающих действиях. В соответствии с этой тотжи зрения люди коренным образом иррациональны, несоциализированны, эгоистичны и деструктивны по отношению к себе и другим. Роджерс допускал, что у людей иногда бывают злые и разрушительные чувства, аномальные импульсы и моменты, когда они ведут себя не в соответствии с их истинной внутренней природой [22]. Когда же люди функционируют полностью, когда ничто не мешает им проявлять свою внутреннюю природу, они предстают как позитивные и разумные создания, которые искренне хотят жить в гармонии с собой и с другим. Сознавая, что такую точку зрения на природу человека можно посчитать не более чем наивным оптимизмом, Роджерс замечал, что его заключения основаны на почти 30-летнем опыте психотерапевта. Он заявлял: «Я не придерживаюсь точки зрения Полианны на природу человека. Я понимаю, что поскольку человеку присущ внутренний страх и беззащитность, он может вести и ведет себя недопустимо жестоко, ужасно деструктивно, незрело, регрессивно, антисоциально и вредно. Все же одним из впечатляющих и обнадеживающих переживаний является для меня работа с такими людьми и открытие весьма позитивных тенденций, которые существуют в них очень глубоко» [23].
Анализ зарубежной литературы в контексте основных психологических направлений показал, что первоначально поведение акцентировалось на понятиях реакция, активность и мотивированность, и лишь затем, рассматривая его с различных позиций, акцент рассмотрения данной категории сместился на такие понятия, как ментальная обработка информации, реализация своих способностей, целеполагающая категория. Разносторонняя трактовка зарубежными авторами поведения человека, дает основание на выстраивание наиболее общей дефиниции данного понятия.
Таким образом, поведение трактуется как мотивированная социальными побуждениями и опосредованная мыслительными процессами целенаправленная форма активности человека, выстраиваемая в зависимости от ожиданий человека и ценности подкрепления, возможности реализации своих талантов, способностей и потенциала личности.
Библиографический список
1. Адлер, А, Воспитание полов. Взаимодействие полов [Текст]/ А. Адлер. -Ростов н/Д: Феникс, 1998. — 448 с.
2. Бихевиоризм: Торндайк, Э. Принципы обучения, основанные на психологии; Уотсон, Дж. Б. Психология как наука о поведении. — М., 1988.
3. Нельсон-Джоунс, Р. Теория и практика консультирования [Текст]/ Р. Нель-сон-Джоунс. — СПб. 2000.
4. Психология: Словарь [Текст]/Под ред. А. В. Петровского. -М., 1990.
5. Психология: учебник / [Текст] В. В. Буркова, Н. Б. Березанская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. — 775 с. — (Университеты России).
6. Самохвалова, В. И. Вопросы философии, № 2006. [Текст]/ В. И. Самохва-лова, — С. 34-42.
7. Adler, А. (1956) The individual psychology of Alfred Adler: A systematic presentation of selections from his writings. H. L. & R. R. Ansbacher (Eds.). New York: Basic Books.
8. Adler, A. (1964). Superiority and social interest: A collection of later writings. N. L. & R. R. Ansbacher (Eds). Evanston, IL: Northwestern University Press.
9. Bandura, A. (1989) Social cognitive theory In R Vasta Ed Annals of child development (Vol. 6, pp. 1-60) Greenwich, CT: JAI Press p. 14-15).
10.Ewen, R. 1993 An Introduction to Theories of Personality. Hillsdale, N1; Lawrence Erlbaum I nc., Publishers.
11. Fiske, S. Т., Taylor S.E., 1991. Social cognition. New York: McQraw — Hill.; Wyer R.S., Jr., Srull Т.К. (Eds.) 1984. Handbook of social cognition (Vols. 1-3). Hillsdale, NJ: Erlbaum).
12. Freud, S. 1940. p. 5 An outline of psycholoanalysis. In Standard edition (Vol. 23). London: Hoqarth.
13. Jung, C. G. (1913/1973). On the doctrine of complexes. In The collected works of
C.G Jung (Vol. 2). Princeton, NJ: Princeton University Press.
14. Jung, C. G. (1968). Analytical psychology: Its theory and practice (The Tavistock Lectures). New York: Pantheon).
15. Kelli, G. (1963) A theory of personality: The psychology of personal constructs. New York: Norton).
16. Maslow, A. H. (1950). Self-actualizing people: A study of psychological health. Personality symposia: Symposium #1 on values (pp. 11-34). New York: Grune & Stratton)
17. Maslow, A. H. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking Press.
18. Maslow, A. H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). New York: Van Nostrand.
19. Loehlin, J. C., Willerman L., Horn J.M. 1887; Plomin R. 1989; Ruchton J. P., Fulker D.W., Neale М. C, Nias D. K, Eysensk H. J. 1988.
20. Rotter, J. B. (1982). The development and applications of social learning theory: Selected papers. New York: Praeger.
21. Rotter, J. B., Hochreich D.J. (1975). Personality. Glenview, IL: Scott, Foresman).
22. Rogers, C. R. 1974. In retrospect: Forty six years. American Psychologist, 29,115.
23. Rogers, C. R. (1961) On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin).
24.Rogers, C. R. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin.
25. Rogers, С R., Stevens B. (1967). Person to person: The problem of being human. New York: Simon and Schuster.
26. Skinner, B. F. (1971) Beyond freedom and dignity. New York: Knopf.
Психология творчества и творчество в психологии
Термин «творчество» указывает и на деятельность личности и на созданные ею ценности, которые из фактов ее персональной судьбы становятся фактами культуры. В качестве отчужденных от жизни субъекта его исканий и дум эти ценности столь же неправомерно объяснять в категориях психологии как нерукотворную природу. Горная вершина способна вдохновить на создание картины, поэмы или геологического труда. Но во всех случаях, будучи сотворенными, эти произведения не в большей степени становятся предметом психологии, чем сама эта вершина. Научно-психологическому анализу открыто нечто совсем иное: способы ее восприятия, действия, мотивы, межличностные связи и структура личности тех, кто ее воспроизводит средствами искусства или в понятиях наук о Земле. Эффект этих актов и связей запечатлевается в художественных и научных творениях, причастных теперь уже к сфере, не зависимой от психической организации субъекта.
Любая трактовка этих ценностей, которая исчерпывается представлениями о работе индивидуального сознания, неотвратимо ведет к психологизму, ориентации, которая разрушает и основы изучения культуры, и саму психологию.
Культура зиждется на общественно-исторических началах. Редукция ее форм к психодинамике — будь то ассоциации идей, эмоциональные комплексы, акты воображения или интуиции — препятствует проникновению в структуру и собственные механизмы развития этих форм. Неоднократно предпринимались попытки найти их корни и законы преобразования во внутреннем устройстве личности, ее переживаниях и особенностях реакций. Возникали различные так называемые психологические школы за пределами самой психологии — в языкознании, социологии, литературоведении, правоведении, логике.
Во всех случаях эти школы усматривали в социально-исторических образованиях внешнюю проекцию актов сознания или неосознаваемых влечений, стремясь представить дело таким образом, что именно эти силы конституируют структуры языка, искусства, правовых или иных социальных норм и отношений. Обостренный интерес к человеку как творцу культуры оказался ложно направленным, ибо лишал ее создания самостоятельного значения, растворяя субъекта в интенциях, «кипящем котле» его эмоций, образах-символах и «фантазмах».
Указанные психологические школы из-за произвольности и зыбкости результатов, к которым привели их программные установки, повсеместно утратили влияние. Их бессилие перед проблемами истории культуры и ее феноменов определило резкую критику психологизма в различных разделах гуманитарного знания.
Но психологизм не менее опасен и для самой психологии. Дело в том, что исследование ее явлений только тогда приобретает достоинство научного, когда они ставятся в связь с независимыми от них реалиями. Научное знание по своей природе является знанием детерминистским. Оно устремлено на поиск переменных, закономерно производящих наблюдаемый эффект. Когда в качестве этих переменных выступили физические или биологические стимулы, регулирующие ход психических процессов, объяснение последних приобрело истинно детерминистский характер. Психология стала наукой. Но когда под переменные, с которыми соотносились эти процессы (при выяснении отношений субъекта уже не к физическому или биологическому миру, а к культуре), стали подставляться величины, заимствованные из сферы душевной жизни этого же субъекта (либо индивидуального, либо гипостазированного в образ «народного духа»), перспектива разработки проблем психологии с детерминистских позиций утрачивалась. Психическое оказывалось производным только от психического же. Именно поэтому психологизм, который, по видимости, возвеличивает психологию, превращая ее в науку наук, в фундамент познания всех творений человеческого духа, по сути своей поражает ее главный нерв — принцип детерминизма.
Реакцией на психологизм, ставший барьером на пути исследований культуры, явился антипсихологизм, вычеркнувший субъекта психических актов из процесса ее созидания, из творения — творца. Претендуя на научную строгость, на изучение свободных от субъективной «примеси» структурных отношений между различными компонентами какой-либо культуры, обычно трактуемой в виде знаковой системы, антипсихологизм столь же бесплоден для психологии творчества, как и психологизм. Ведь для бессубъектных структур, которые сами себя порождают, психическая активность личности, ее способность к преобразованию социального опыта и его продуктов, благодаря чему только и появляются новые культурные ценности, реального значения не имеет. Эти структуры в принципе не могут вступить в такие детерминационные отношения с живым человеком, при которых он мог бы что-либо изменить в их застывшем царстве.
В «Гамлете», теории атомного ядра и устройстве реактора «закодированы» способности, ценностные ориентации, интеллектуальные акты их создателей. Реализуются же эти способности соответственно запросам материального и духовного производства, В силу этого возникает основная коллизия психологии творчества — художественного, технического, научного: как соотнести изучение творческой личности, ее духовного потенциала, внутреннего мира и поведения с предметным бытием культуры?
Запечатленность психической организации человека в формах этого бытия неоднородна. Соответственно и возможность расшифровать по ним своеобразие этой организации оценивается различно. Одно дело — плоды научного и технического творчества, другое художественного. Ведь никто не предположит, что обсуждая устройство реактора или константы теории относительности, удастся извлечь сведения, касающиеся психологии.
При обращении же к продуктам художественного творчества предполагается, будто из самой их ткани можно извлечь психологическую информацию. Личностное начало здесь просвечивает повсеместно. «Знаки» искусства сами собой подают весть и о движениях человеческого сердца, воссозданных художником, и о его глубоко личностном отношении к ним.
Если по техническим устройствам или математическим формулам судить о муках, в которых они родились, не берутся, то в художественных текстах ищут их следы. Такое стремление поддерживается, в частности, тем, что в этих текстах заключены образы и переживания живых лиц, тогда как машина или формула относятся к «безличностным» объектам. Стало быть, в искусстве оседают результаты процесса познания человека человеком, т. е. процесса, в котором проявляются свойства характера, стиль поведения и мышления, пристрастия и страсти не только изображенных героев, но и автора их «словесных (живописных, музыкальных и т. п.) портретов».
Психолог имеет дело с реальными людьми. Но не обогащается ли его знание о них изучением образов персонажей, какими их запечатлел художник, черпающий материал в гуще подлинных человеческих страстей и отношений? Разве Рембрандт и Достоевский рассказали о психической реальности меньше, чем авторы научных трактатов? В особенности, если речь идет о личности и ее жизненном пути — тематике, освоение которой научным мышлением обратно пропорционально властным требованиям к психологии со стороны практики. Давняя тоска по «интересной психологии» обращает взоры некоторых авторов к искусству, побуждая утверждать, что настало время «использования художественного образа как метода психологического исследования» 12, 58].
При этом ссылаются на Б. М. Теплова, некогда задававшегося вопросом о том, нельзя ли обогатить набор методов психологии анализом художественной литературы. Не ограничившись постановкой вопроса, Теплов сам проверил свою версию на разборе нескольких пушкинских образов. Что же показала его проба? Он проследил, в частности, динамику поведения Татьяны, какой описал ее Пушкин в «Евгении Онегине», где личность героини изображена в ее «лонгитюде» (в игнорировании которого современные исследователи видят главную слабость нынешних концепций, скованных тисками «метода срезов»).
Каков же итог тепловского разбора? «Жизнь Татьяны, — писал он, подводя итог рассмотрения пушкинского романа глазами психолога, — это замечательная история овладения своим темпераментом… история воспитания в себе характера» [18]. Иначе говоря, художественное отображение Теплов перевел на язык научной психологии, используя ее традиционные термины: темперамент, характер. Пушкинский образ приобрел смысл не метода, а иллюстрации к традиционному психологическому описанию личности. Явно неудовлетворенный столь скудным результатом, Теплов отказался от публикации своих заметок (они были найдены в его архиве). И хорошо известно, каким путем он пошел в дальнейшем. Он выбрал стратегию экспериментального, факторно-аналитического изучения нейродинамики как субстрата индивидуальных различий между людьми.
Неудачу Теплова следовало бы принять во внимание нынешним психологам, возлагающим надежды на возможность превратить художественный образ в метод, способный «спасти» изучение целостной личности от математически выверенных корреляций, семантических дифференциалов и других процедур, охватывающих лишь «малый фрагмент разветвленной сети бытия личности» [2]. Слабы не сами по себе эксперименты, тесты и корреляции, а вводимые в эти методы переменные. Психология может, по нашему мнению, использовать образы искусства в трех планах: а) для иллюстрации положений, добытых с помощью ее собственных методов; б) при объяснении того, как они создаются художником, и в) при анализе того, как они осознаются и переживаются реципиентами. Последние два плана и относятся к основным проблемным областям психологии художественного творчества, ибо, как известно, в искусстве рецепция его объектов представляет собой форму сотворчества.
Вместе с тем в силу того, что в произведении искусства получают отражение личностные коллизии героев, их характеры и эмоциональная жизнь, сложности межлюдских отношений и т. п., это произведение может дать материал для научно-психологического анализа указанных феноменов. Однако такой анализ непременно требует сформулировать проблему на собственном языке научной психологии, имеющей свой категориальный аппарат и свои санкционированные историческим опытом методы.
Великих писателей, постигших диалектику души, называют великими психологами. Но они явили се миру в особой форме — в форме художественно-образной реконструкции. Научный же способ познания психики по своей природе иной и по орудиям, посредством которых он наделяет людей властью над явлениями, и по отношению к социальной практике. Напомним известный афоризм Вильяма Штерна: «Нарисованную корову нельзя доить». Наука, осваивая закономерную связь явлений, открывает возможность управлять ими, изменять их ход и т. д. Хотя психологии в этом плане далеко до физики или молекулярной биологии, мощь этих дисциплин коренится в тех же общих принципах мышления (прежде всего принципе детерминизма), распространение которых на область психического превратила ее в предмет экспериментально-теоретического знания (в отличие от обыденного сознания (здравого смысла), искусства, религии, философии и др. Наука является одним из компонентов культуры как целостного образования. Поэтому она требует исследования в системе этого целого, выяснения ее взаимоотношений с другими компонентами. Однако непременным условием продуктивного анализа этих взаимоотношений служит раскрытие ее — науки — собственной незаменимой роли в общем ансамбле этих компонентов. К чему бы ни прикоснулась рука человека, на всем остаются отпечатки его душевной жизни. Но если считать их представленность в памятниках культуры предметом психологической науки, то ее область становится необъятной, а ее специфика начисто утрачивается. Ее содержание распыляется в мифах и народной мудрости, политических трактатах и творениях художественного гения. Сама же она при таком понимании ее предмета оказывается чем-то праздным, поскольку упомянутые порождения культуры играли и играют в развитии последней несравненно большую роль, чем элементы научных знаний о поведении и сознании.
И художественный стиль и научная парадигма в равной степени детерминированы факторами культуры. Каким образом эти факторы ввели в действие интимные психологические механизмы, породившие творческий продукт, по облику последнего судить невозможно, как бы проницательно в него ни вглядываться. Ведь этот продукт воспроизводит (в форме художественного образа или научного понятия) независимую от субъекта действительность, а не предметно-преобразующую ее духовную активность конкретного субъекта, постичь которую призвана психология творчества.
Продукт творчества описывается в одних терминах, духовная активность — в других.
Возможно ли, соотнеся эти два ряда терминов, преодолеть расщепленность личности и культуры? В психологии применительно к искусству такая попытка была предпринята Л. С. Выготским. Отвергнув (в литературоведении) психологизм потебнианской школы и антипсихологизм формальной школы, он выделил в качестве основной единицы психологии искусства эстетическую реакцию, которая создается специальным построением литературного текста. Он трактовал ее, с одной стороны, как «чистую» реакцию (стало быть, хотя и психическую, но невыводимую из образов, переживаний, влечений и иных компонентов душевной жизни индивида), с другой — как представленную в самом памятнике искусства (который, стало быть, нельзя сводить к «конвергенции приемов», как учили формалисты). По его мнению, необходимо «изучать чистую и безличную психологию искусства безотносительно к автору и читателю» [5; 17].
Но такая психология не могла стать психологией творчества — созидания личностью новых культурных ценностей. Выготский явно испытывал неудовлетворенность итогом своих исканий и от публикации рукописи «Психология искусства» отказался, хотя она и вызвала большой интерес у творческой интеллигенции. Продукт творчества — это «текст», который может быть психологически осмыслен только при условии выхода за его пределы к «затекстовой» жизни автора. Каким же образом эта жизнь превращается в предмет научного исследования? Уровень познанности механизмов и процессов творчества зависит от общих объяснительных схем и исследовательских программ психологии. Сердцевину этих схем и программ составляют категориальные структуры (см. (27)). Они складываются и преобразуются по исторической «шкале», в переходе от одного витка которой к другому представлена логика развития научного познания. Своеобразие каждой из стадий этою развития определяется доминирующим в данную эпоху способом объяснения детерминации психических явлений. Этот вывод открыт для проверки опытом истории. Весь путь психологии пронизывают два подхода — детерминистский и индетерминистский. Начальной пробой детерминистской трактовки порядка и связи идей была классическая ассоциативная концепция — детище великой научной революции XVII в. Обусловив на заре экспериментальной психологии ее успехи, эта концепция не выдержала испытаний перед лицом феноменов, не выводимых из ее главных понятий, частоты сочетаний и смежности элементов сознания. Это привело к появлению представлений о «психической химии» (Д. С. Милль) как слиянии указанных элементов в качественно отличные от них единицы, о «творческом синтезе» (В. Вундт), «творческих ассоциациях» (А. Бен) и др.
Правота ассоциативной концепции при всей ее ограниченности заключалась в согласии с детерминистским идеалом научности, тогда как коррективы, которые в нее вносились, означали отступление от него, поскольку в психологию вводились силы или сущности, лишенные каузальных оснований, возникающие, по выражению И. П. Павлова, «ни оттуда, ни отсюда».
Но альтернатива: либо детерминизм в его созданном механикой образе, либо обращение к активности сознания как последней причине порождения новых психических образований, — была перечеркнута прогрессом науки. Не физика, а эволюционная биология стала определять стиль мышления в психологии. Из механодетерминистского он преобразуется в биодетерминистский. Теперь категориальный каркас научного исследования включает новую модель организма как гибкого устройства, способного перестраиваться с целью эффективной адаптации к своему изменчивому и потому требующему изобретательности окружению.
Преобразование категориальных структур меняло перспективы поиска факторов появления новых психических продуктов. Прежде, в эпоху господства ассоцианизма, эти факторы локализовались в пределах сознания души) как замкнутой системы, недра которой излучают творческие импульсы. Теперь же не сознание, а адаптивное поведение приняло на себя роль субстрата этих импульсов. Построение организмом новых психических действий объяснялось в русле бихевиоризма отбором случайно оказавшихся успешными («метод проб и ошибок»). Другим влиятельным направлением стал гештальтизм, утвердивший принцип самоорганизации психических моментальных структур (гештальтов). Возникновение нового трактовалось как акт их мгновенной перестройки (инсайта). Влияние мотивационного фактора на поведение задало основной вектор разработки Фрейдом его исследовательской программы, где указанному фактору был придан облик всепоглощающего сексуального влечения, одним из способов избавления от которого («катарсиса») служит творчество. Во всех этих концепциях — при их различии — имелась общая ориентация на определенный способ детерминистскою объяснения того, как возникают психические продукты, которых не было в прежнем опыте индивида. На этот способ указывали понятия о пробах и ошибках, инсайте, катарсисе, которые стали широко применяться с целью объяснить психологическую ипостась творчества. Но детерминизм детерминизму рознь. Концепции бихевиоризма, гештальтизма, фрейдизма не выводили психологическую мысль за пределы принципа гомеостатистической регуляции (психические акты служат достижению равновесия между организмом и средой), открытие которого имело революционное значение для биологии, ко не проливало свет на культурно-историческую детерминацию сознания, тем более творческого.
В дальнейшем предлагались другие естественнонаучные аналогии. Предполагалось, например, что рождение нотой идеи подобно генетической мутации или непредсказуемому скачку электрона с одной орбиты на другую [34]. Однако в отличие от генетики и квантовой физики эти представления не придали сколь нибудь большую степень научности объяснениям творческого процесса. Психология сознания в попытках представить динамику процессов, скрытых за предметом культуры (произведениями искусства, науки, техники и др.), не признавала за ним самим никакого детерминационного влияния на эту динамику. Но и психология поведения была не в лучшем положении: культурно-историческая ценность, создаваемая реальными индивидами, ни в каком смысле не выполняла роль самостоятельной детерминанты по отношению к их действиям.
Эта ценность могла быть только объясняемой (наибольшую активность в плане истолкования продуктов культуры действием подспудных психических сил развил фрейдизм), но она никогда не вводилась в механизм творчества в качестве его регулятора, изнутри перестраивающего психическую организацию субъекта.
Ограниченность представлений, построенных по указанным схемам, явствует уже из того, что они не смогли быть эффективно применены к анализу творчества в самой психологии, к ее теориям, открытиям, «вспышкам гения» в этой области знания.
Спорадические попытки проследить, исходя из новой психологической концепции, каким образом она сама возникла, показали бесперспективность этого пути. Поучительна, в частности, попытка приверженцев психоанализа истолковать генезис этого учения в его собственных терминах, среди которых, как известно, главное место заняли термины, связанные с психосексуальными отношениями в микросоциуме. Как известно, 3. Фрейд, прежде чем создать свою доктрину, имел репутацию крупного невролога и даже набросал проект анализа психической деятельности в понятиях нервных процессов — возбуждения и торможения. Но затем он коренным образом изменил ориентацию, отказавшись от обращения к физиологическим детерминантам. Из-за чего произошел столь радикальный сдвиг в его творчестве?
Главный биограф Фрейда, его известный последователь в Англии Э. Джонс относит это за счет того, что смерть отца позволила Фрейду избавиться от комплекса, создаваемого, согласно психоаналитической версии, ролью отца в бессознательной жизни невротической личности и благодаря этому выдвинуть формулу об «Эдиповом комплексе», ставшую основной мифологемой психоанализа. Между тем обращение к социокультурной ситуации на Западе на рубеже двух столетий, к конкретно-историческому контексту, в котором сложилась фрейдистская концепция, свидетельствует, что именно здесь следует искать почву, в которую она уходит своими корнями. Она отразила заданное этим контекстом, а не депрессивное состояние личности самого творца психоанализа. Конечно, личностное начало, перипетии жизненного пути ученого являются неотъемлемым компонентом интегрального процесса порождения нового знания. Но для адекватной реконструкции этого начала, этого пути психологии следует выработать схемы, которые позволили бы ей найти общий язык с логикой и социологией творчества.
М. Вертгеймер в беседах с А. Эйнштейном проинтерпретировал открытия великого физика, используя принятые гештальтизмом воззрения на реорганизацию, переиентрировку и другие трансформации структур индивидуального сознания [37]. Однако сколько-нибудь убедительно объяснить средствами гештальтпсихологии происхождение и построение теории относительности (соотнести изображенный им творческий процесс с творческим продуктом) Вертгеймер не смог.
Творческая активность субъекта скрыта за возникновением новых идей не только в физике, но и в психологии. Между тем, ни Вертгеймер в своих работах по продуктивному мышлению, ни другие представители его школы не претендовали на то, чтобы использовать введенные ими термины (инсайт, фигура и фон и др.) применительно к появлению на научной сцене самого гештальтизма.
Это же можно сказать и о бихевиоризме, идеологи которого никогда не связывали свой переход от субъективного метода к объективному, свою формулу «стимул — реакция» с предположением, будто эта формула направляла их собственное исследовательское поведение. Иначе говоря, считая, что «инсайт», «катарсис», «пробы и ошибки» пригодны к изучению процессов творчества, возникновения новых идей и т. д., приверженцы теорий, о которых идет речь, не применяли свои ключевые понятия к генезису и разработке собственных теорий, т. е. к творчеству в психологии.
И это не удивительно. Полагать, будто психология способна пропихнуть в тайны творчества, используя одни только собственные средства, безотносительно к истории культуры, это все равно, что уверовать в версию Мюнхгаузена о возможности вытащить самого себя за волосы из болота.
Будучи по своей природе системным объектом творчество адекватно • постижимо только в междисциплинарном исследовании.
Творчество означает созидание нового, под которым могут подразумеваться как преобразования в сознании и поведении субъекта, так и порождаемые им, но и отчуждаемые от него продукты. Такие термины, как сознание и поведение, действительно указывают на законную долю психологии в междисциплинарном синтезе. Но за самими этими терминами не стоят извечные архетипы знания. Их категориальный смысл меняется от эпохи к эпохе. Кризис механодетерминизма привел, как уже отмечалось, к новому стилю мышления в психологии.
Психические процессы стали рассматриваться с точки зрения поисков субъектом выхода из ситуации, ставшей для него из-за ограниченности его личного опыта проблемной и потому требующей реконструкции этого опыта и его приращения за счет собственных интеллектуальных усилий.
В качестве магистрального направления, сопряженного с разработкой: проблематики творчества, выступило изучение процессов продуктивного мышления как решения задач («головоломок»).
На этом пути собран со времен Э. Клапареда [29], К. Дункера [30] и О. Зельца [36] обширный и плотный массив данных. В советской психологии сложился ряд подходов, общая сводка которых представлена в работе [22], где выделяются: поиск неизвестного с помощью механизма анализа через синтез [1], [3], [4], поиск неизвестного с помощью механизма взаимодействия логического и интуитивного начал [13], [19], поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма, поиск неизвестного с помощью эвристических приемов и методов [20], [21], [23], [24]. Работа, проделанная в этих направлениях, обогатила знание об умственных операциях субъекта при решении нетривиальных, нестандартных задач. Однако, как не без основания отмечает известный югославский ученый Мирко Грмек, «экспериментальный анализ решения проблем доказал свою полезность в отношении некоторых элементарных процессов рассуждения, но мы все еще неспособны извлечь из него определенные, полезные выводы, относящиеся к художественному или научному открытию. В лаборатории изучение творчества ограничено временем и приложимо к простым проблемам: оно потому не имитирует реальных условий научного исследования» [31; 37].
Выход из подобной, невыигрышной для психологии ситуации Грмек видит в том, чтобы обратиться к документам — продуктам творчества, памятникам культуры, текстам. Но, как было сказано, в тексте — научном и художественном — записана прежде всего информация о действительности, а не о психологическом механизме его порождения и построения.
Проникнуть в этот механизм можно не иначе как посредством собственного аппарата психологического познания. Чем скуднее запас психологических представлений апробирован наукой, тем больший простор остается для соображений, навеянных обыденным сознанием с его житейскими понятиями о способностях человека, интересах, чувствах, душевных движениях и т. д. И так будет продолжаться, пока психология творчества как научное направление не снабдит исследователя культурных ценностей более надежными данными о факторах их генерирования.
Оценивая вклад психологии в комплексное изучение художественного творчества, Б. С. Мейлах имел основания для вывода: «Психология как наука не обладает методологией, которая может быть применена к изучению процессов и специфики процессов художественного творчества» [10; 20].
Главной антиномией выступает отношение между продуктом творчества и его процессом. Продукт принадлежит культуре, процесс — личности. Поэтому в поисках собственного предмета психологии творчества в основу его определения соблазнительно положить понятие о процессе. Именно так поступает Б. С. Мейлах, утверждая: «Центральным исходным является здесь (в психологии) понятие творчества как процесса» (10; 14). В этом содержится доля истины, поскольку, идя по следу того, как строится произведение во времени — начиная от отдельных наблюдений, замыслов, вариантов и т. д., — высвечивается извилистый путь от творца к творению.
Однако само по себе указание на процессуальность творчества, на наш взгляд, недостаточно, чтобы определить предмет его психологического исследования. Понятие о процессе издавна возникло в описаниях путей к открытию, разбитых самими творцами науки (начиная от А. Пуанкаре) на отрезки: подготовка, созревание замысла (инкубация), озарение, завершение (обоснование достоверности добытого результата, его критика, проверка и т. п.). В этой динамике выделяются, с одной стороны, сознательные и рациональные моменты (подготовка, завершение), с другой — бессознательные, интуитивные (инкубация, озарение), трактуемые как центральное звено творчества. Феномены интуитивных догадок и решений, невербализуемых процессов, непредсказуемых сцеплений идей не являются фикциями иррационализма. Они — реальность, удостоверяемая прямым опытом творческой личности. Но научная психология не вправе превращать феномен в детерминанту, принимать акт интуиции или неосознанное движение мысли за конечную причину возникшей в сознании модели, материализуемой в тексте или другом предмете культуры. Подсознание или интуиция должны из постулата стать проблемой, разработка которой требует адекватного категориального аппарата.
Если прежде эти категории формировались под воздействием сперва механодетерминистского стиля мышления, а затем биодетерминистского, то применительно к их разработке в контексте психологии творчества решающую роль приобретает социокультурная детерминация. Этого требует логика творчества в психологии, логика развития знания о человеке как создателе культурных ценностей. Методологические искания советских психологов со времен М. Я. Басова и Л. С. Выготского вводили эти ценности в строй психологических идей б качестве причинного начала поведения и сознания. Магистральным направлением являлось изучение онтогенеза, познание процессов формирования личности в зависимости от овладения ею общественными нормами и эталонами. Продуктивное и эвристическое в деятельности этой личности по существу исчерпывалось усвоением (по терминологии А. Н. Леонтьева, «присвоением») того, что задано социумом. Доминировал вектор — от мира культуры (языка, науки, искусства, логики и др.) к психологическому миру субъекта (образной ткани его сознания, его умственным действиям, его опредмеченным социальными ценностями мотивам и др.). Тем самым преодолевалась слабость прежних психологических концепций сознания и поведения, не вводивших в свои объяснительные схемы социокультурных детерминант (см. выше).
Однако вне каузального анализа оставался другой вектор — от личности, ее психологического строя к творениям культуры, к роли личности в филогенезе познания, ее уникальному собственному вкладу в фонд науки, техники, искусства и других культурных данностей.
Между тем общественная практика вынудила психологическую мысль обратиться к этой проблематике, прежде всего к творчеству в сфере науки.
Наступила научно-техническая революция — эпоха атома, космоса, компьютера, генной инженерии. Стало очевидно, что происходящее в мире во все большей степени зависит от того, что: рождается в умах ученых. Изучение, работы этих умов становится важнейшим социально-историческим заданием. Тысячи публикаций, специальный журнал «Творческое поведение», великое множество различных систем тестов для: диагностики творческих способностей, процедуры их стимуляции (брейнсторминг и др.), измерение мотивации различных групп лиц, занятых творческим трудом, — таков бы отклик мировой психологии на требования времени (см. [12], [35J).
И если эффективность влияния психологии творчества на социальную практику все еще крайне незначительна, все еще неадекватна вкладываемым усилиям, то причины скрыты в ограниченности методологического потенциала теоретических схем, применяемых в данной области исследований. Без внедрения в эту область принципов историзма, социокультурного детерминизма и соответствующей этим принципам системной трактовки субъекта она обречена на застой.
Системный подход к процессу творчества не может быть иным как трехаспектным, интегрирующим его составляющие: предметную, социальную и личностную. Применительно к научному творчеству в качестве интегральной единицы выступает исследовательская программа. Она рождается в психической организации субъекта как отображение запросов объективной логики развития познания. Эти запросы творческая личность запеленговывает посредством представленной в ее когнитивно-мотивационной структуре категориальной сетки.
Сама сетка изменяется по законам истории познания. Это подтверждается феноменом одновременных независимых открытий. Теорию эволюции органического мира создали независимо друг от друга Ч. Дарвин и Г. Уоллес. Великий закон сохранения энергии открыли одновременно Г. Гельмгольц, Джоуль и Майер, и еще девять ученых вплотную подошли к нему.
В психологии закономерно совершился переход от структурного анализа сознания, который служил парадигмой для одного поколения исследователей, к функционализму, ставшему парадигмой для другого, и т. д. По прекрасному слову Гете, когда время созрело, яблоки падают в разных садах. Категориальные сетки выступают перед нами как предметно-логические, а не психологические структуры. В интеллектуальном же устройстве конкретного ученого они получают проекцию в виде индивидуального семантического пространства-времени — хронотопа.
Оно и есть тот «магический кристалл «, который очерчивает угол и зону видения исследовательской ситуации и вместе с тем преобразуется при исполнении программы. Эти преобразования совершаются не по алгоритмам, что и дало основание считать их делом интуиции, а не логики. Однако детерминистская мысль требует проникнуть в психическую реальность, скрытую за указанием на интуицию. Нужен поиск эвристик, создающих в психической «ткани» новый образ предмета, который в дальнейшем ведет независимую от субъекта жизнь, когда перекодируется в научный текст — в качестве записанной в нем новой идеи, теории, открытия и др. Эти эвристики: аналогии, метафоры, сравнения, модели обычно несут смысловое содержание в визуализированной форме, на что более ста лет назад обратил внимание Ф. Гальтон, изучавший образную память ученых, в том числе и своего кузена Чарльза Дарвина. Гальтон писал: «высшие умы это, вероятно, те, у которых не утрачена способность к визуализации, но она является подчиненной, готовой быть использованной в подходящих случаях» (цит. по [35; 316]). Впоследствии психологи проанализировали эвристические образы, приведшие Дарвина к его великой теории. Среди них выделены, в частности, такие образы, как «древо природы», «коралловые рифы», «отбор домашних животных на племя» и др. (см. [33]).
При создании И М. Сеченовым его рефлекторной концепции важнейшими регулятивами послужили такие модели, как мышечная работа глаза (по образу и подобию которой сложилось представление об «элементах мысли»), реакций больных-атактиков (отсюда идея обратной связи в регуляции поведения), предохранительного клапана в паровой машине (что позволило ввести понятия о сигнале) и др.
Очевидно, что образы, о которых идет речь, не идентичны образам восприятий и представлений в их привычном для психолога значении. Вместе с тем они выполняли свою эвристическую функцию не по типу индукции, дедукции и других логических схем, равно как и не по типу «слепых» проб и ошибок.
Изучение того, как в умственном устройстве субъекта творчества возникает новое знание, требует выйти за пределы антиномии «логика — интуиция». Следует выделить те индивидуальные образы-схемы, благодаря которым организуется семантическое пространство личности ученого, творящего свою исследовательскую программу. Их своеобразие определяется интеграцией «фигуративного» (по терминологии Ж. Пиаже), операционального (поскольку схема репрезентирует не только фрагмент реальности, но и приемы его изучения) и предметно-логического (схема служит посредником между объективными запросами науки и их преломлением во внутреннем мире субъекта).
В летопись науки заносится информация о независимом от субъекта положении вещей (теория эволюции Дарвина, рефлекторная теория Сеченова и т, д.), а не об образах-схемах, посредством которых она была добыта.
Формирование указанных образов-схем может быть объяснено только в русле вероятностного, но не жесткого» однозначно- причинного детерминизма. Если уже биодетерминистский стиль мышления является вероятностным, то тем более это относится к объяснению социокультурных явлений. Ведь не было предопределено путешествие Дарвина на корабле «Бигль», позволившее ему изучить коралловые рифы, не было предопределено посещение Сеченовым клиники С. П. Боткина, где он наблюдал поведение атактиков и т. п. Очевиден случайный характер этих событий. Но случай, как говорил Пастер, благоприятствует подготовленному уму. Ощущение запросов научно-исследовательской ситуации создает преднастройку ума, который находясь в широкой зоне поисков, наталкивается на реалии, дающие по принципу аналогии ключ к открытию законов. Эти законы получают «объективное» теоретическое выражение, в котором «субъектные», психологические «леса», позволившие их возвести, в том числе и образы-схемы, убраны.
Обычно, когда говорят об образе как психологической категории, предполагается, что он осознается субъектом, Но применительно к творчеству издавна возникла потребность обратиться к неосознаваемой психологической активности, которую принято называть подсознанием. Следует, однако, разграничить различные формы этой активности, отделить ее детерминацию прошлым от детерминации потребным будущим, тем, что задано личности логикой развития социокультурной мысли. Вторую форму мы предложили назвать надсознанием [27].
В частности, образы-схемы могут выполнять свою эвристическую функцию надсознательно. Так, хотя дарвинская схема формирования коралловых рифов удивительно сходна с возникшей у него через три года теорией естественного отбора, он сам не осознавал их сходства [33; 315].
Имеются отдельные эксквизитные наблюдения ученых за собственным творческим процессом, фиксирующие своеобразие его реализации на надсознательном уровне при состояниях, близких к галлюцинаторным.
Так, по свидетельству известного физика акад. А. Б. Мигдала, «иногда во время бессонной ночи, вызванной работой, кажется, что ты присутствуешь при процессе и наблюдаешь его со стороны. Подсознание представляется как собрание знакомых и полузнакомых людей, символизирующих различные понятия. Надо, чтобы они заинтересовались друг другом и начали общаться. При этом надо знать, кто из них уже встречался раньше. Нужно почувствовать атмосферу этого собрания, и это даст ключ к нахождению недостающих идей» [25; 23]. Описанная картина напоминает сновидение. Субъект творчества наблюдает созидаемую и переживаемую им динамику идей со стороны. Вместе с тем перед его умственным взором не абстрактные знаки, а собрание людей, которые их персонифицируя, общаются между собой.
Если в образах-схемах представлен предметно-логический параметр творчества, то в «собраниях людей» — его социальный параметр. Творчество это изначально когнитивно-диалогическая активность субъекта. Между тем на нынешних представлениях о творческом акте лежит печать индивидуализма. В нем усматривают нечто исходящее из глубин безголосого, немого сознания (или подсознания), тогда как в действительности он возможен только, если применить бахтинскую метафору, в условиях «полифонии» — передачи одной и той же темы из голоса в голос, каждый из которых равноправен.
Мысль в процессе творчества всегда сталкивается с другими, без которых она просто была бы иной. Так, концепция Сеченова сложилась в оппонентном круге его научного общения, представленном такими фигурами, как Ф. Бенеке, И. Г. Гербарт, В. Вундт, Г. Гельмгольц, Г. Спенсер и др. Это была незримая полемика в отличие от захватившей широкие круги русской интеллигенции (включая Льва Толстого) знаменитой журнальной дискуссии И. М. Сеченова с Кавелиным. Концепции Выготского не было бы без его полемики с А. А. Потебней, К. Н. Корниловым, В. М. Бехтеревым, 3. Фрейдом, Ж. Пиаже и др. Поэтому оппонентный круг (см. [28]) также служит одной из детерминант исследовательской программы. Ее третьей составляющей наряду с предметной и социальной является личностная. Уровень притязаний, внутреннюю мотивационную напряженность и другие собственно личностные параметры субъекта творчества следует рассматривать не изолированно or исследовательской программы, но как обретающие в ее системной организации новые признаки.
Научно-технический прогресс, требуя от психологической науки высокого творческого накала, придает особую значимость двум ее исследовательским ориентациям. Обе обусловлены тем, что в центр современного производства — притом не только материального, но и духовного — перемещается диалог между человеком и компьютером. Социальная практика требует обратиться к психологическим проблемам компьютеризации учения, труда, общения. Но компьютер не может стать субъектом этих процессов. Им навсегда останется человек. С передачей ряда его информационных функций электронным устройствам возрастает роль непереводимых на формально-логический «микропроцессорный» язык компонентов его деятельности, порождающих новые культурные ценности, в том числе и сами эти технические устройства. В этой исторической ситуации психология творчества становится важнейшей темой научного творчества в самой психологии. Но это требует от нашей науки новых исследовательских программ, новых теоретических схем, интегрирующих в самой сердцевине психологического познания — его теоретических моделях и эмпирических орудиях — личностное, социальное и предметно-созидательное в общении человека с миром.
1. Абульханова К. Л. Деятельность и психология личности. — М., 1980.
2. Братусь Б. С. О месте художественной литературы в построении научной психологии личности. — Вестник МГУ. Сер. Психология, 1985, No 2.
3. Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирование. — М., 1979.
4. Брушлинский А. В. (ред.). Мышление: процесс, деятельность, общение. — М., 1982.
5. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.
6. Дункер К. Психология продуктивного мышления. — В кн.: Психология мышления (ред. А.Ж.Матюшкин). М., 1965.
7. Емельянов Е. Н. Психологический анализ предметно- рефлексивных отношений в научной деятельности: Реф. канд. дис. — М., 1985.
8. Иванов М. А. Научно-исследовательская программа как фактор регуляции межличностных отношений в первичном научном коллективе. Реф. канд. дис. — М., 1982.
9. Карцев В. П. Социальная психология науки и проблемы историко-научных исследований. — М., 1984.
10. Мейлах Б. С. Психология художественного творчества: предмет и пути исследования. — В кн.: Психология процессов художественного творчества. Л., 1980.
11. Мейлах Б. С. перед. Содружество наук и тайны творчества. М.,1968.
12. Научное творчество. — М., 1969.
13. Пономарев Я. А. Психология творчества. — М., 1976.
14. Проблемы научного творчества в современной психологии. М.,1971.
15. Пушкин В. II. Эвристика — наука о творческом мышлении М.,1967.
16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — М., 1940.
17. Славская К. А. Мысль в действии. — М., 1968.
18. Теплов Б. М. Избранные труды. Т. 1. — М., 1985.
19. Творческий процесс и художественное восприятие. — М., 1978.
20. Тихомиров О. К. Структуры мыслительной деятельности человека. — М., 1969
21. Тихомиров О. К. (ред.). Психологические механизмы исследования творческой деятельности. — М., 1975.
22. Калошина И. П. Структура и механизмы творческой деятельности. — М., 1983.
23. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений. М., 1970.
24. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обуче-61
ним. — М., 1972.
25. Мигдал А. Б. Поиски истины. — М., 1978.
26. Художественное и научное творчество. — Л., 1972.
27. Ярошевский М. Г. Структура научной деятельности. — Вопросы философии, 1974, No 11.
28. Ярошевский М. Г. Оппонентный круг и научное открытие. — Вопросы философии, 1983, No 10.
29. Claparcde Е. La genese de 1hipothyeses, Geneva, 1934.
30. Dunker K. A qualitative study of productive thinking, Journal of Genetic Psychology, 1926, 642-708.
31. Grmek M. D. A plea for freeing the history of scientific discoveries from myth. In: On scientific discovery, Boston, 1981.
32. Grmek M., Cohen R. and Cimino G. On scientific discovery, Boston, 1981.
33. Gruber H. E. Cognitive psychology, scientific creativity and the case study method. In: On scientific discovery, Boston, 1981.
34. Nicolle C. Biologic de 1invention, Paris, 1932.
35. Scientific creativity: Its recognition and development. New York, 1963.
36. Selz O. Die Gesetze des geordneten Denkverlauf. 2 Vols, 1913-1922.
37. Wertheirner M. Productive thinking. New York, 1945.
Вопросы психологии, No 6, 1985, с. 14-26.
12 книг по экономике, которые должен прочитать каждый: советы РЭШ
Эксперты Российской экономической школы рекомендуют популярные книги, которые помогут составить представление о разных областях экономики и финансов.
1. «Почему одни страны богатые, а другие бедные», Дарон Аджемоглу, Джеймс Робинсон
Книга об историях успехов наций
Рубен Ениколопов, ректор РЭШ, колумнист «Ведомостей»:
«Уже ставшая классической книга, которую абсолютно необходимо прочитать всем, кто интересуется долгосрочным развитием стран. В конечном итоге ее суть – это ответ на вопрос, вынесенный в заголовок. Авторы показывают, что определяющую роль в «успехе» государств оказывают институты, а не, например, наличие ресурсов. В долгосрочной перспективе именно институты определяют, какие страны оказываются богатыми, а какие – бедными. Кстати, у авторов скоро выйдет новая книга, а Джеймса Робинсона этой осенью можно будет послушать в Москве на почетных лекциях в РЭШ».
2. «Фрикономика», Стивен Левитт, Стивен Дабнер
Главный экономический научно-популярный бестселлер
Евгений Яковлев, профессор РЭШ:
«В 1990-х годах в США неуклонно рос уровень преступности. Политики, журналисты, общественные деятели ожидали только худшего. Однако затем в течение нескольких лет этот тренд внезапно изменился. Почему? Экономисты выяснили, что причину надо было искать 30 лет назад. Тогда во многих штатах легализовали аборты и девушки из неблагополучных районов получили возможность делать выбор и не растить детей в нищете. В итоге целое поколение потенциальных преступников просто не выросло. Эту историю в числе многих других в своей книге «Фрикономика» рассказывает известный экономист, профессор Чикагского университета Стивен Левитт. Его ставшая уже классической книга – собрание подобных сюжетов. И хотя некоторые из его выводов вызывают жаркие споры среди профессиональных экономистов и по сей день, одно можно сказать с уверенностью – эти истории будут любопытны как тем, кто только начинает интересоваться экономикой, так и тем, кто уже немало знает о ней».
3. Economics for the Common Good («Экономика общего блага»), Жан Тироль
О роли экономики в современном обществе
Рубен Ениколопов, ректор РЭШ, колумнист «Ведомостей»:
«Книга нобелевского лауреата Жана Тироля объясняет, как инсайты экономической науки могут применяться в совершенно разных аспектах жизни. В том числе при решении вопросов, которые очень сильно влияют на наше будущее. Речь идет не только про «стандартные» вещи, такие, как финансовые кризисы, безработица и так далее, но и про инновации, глобальное потепление, цифровую революцию и многое другое. Тироль борется с распространенным убеждением, что экономика – это бесполезная наука, которая никак не помогает улучшить жизнь людей. Кстати, на своей недавней лекции в РЭШ профессор пообещал, что скоро книга выйдет на русском языке».
4. «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс», Джоэль Мокир
О технологическом прогрессе как основном источнике экономического роста
Валерий Черноокий, профессор РЭШ:
«На долгосрочный экономический рост могут оказывать влияние множество факторов, но единственным неограниченным источником, всесильным рычагом роста мирового дохода и богатства, остается технический прогресс. В этой книге историк экономики Джоэль Мокир задается рядом вопросов. Откуда берутся новые знания и инновации? Почему античные цивилизации были настолько успешны в геометрии и философии, смогли придумать сложнейший антикитерский механизм, но в то же время были так безразличны в использовании этого знания в хозяйстве и экономике? И наоборот, почему средневековая Европа, часто рассматриваемая нами как темные века, так охотно внедряла водяные и ветровые мельницы, трехпольную систему земледелия, тяжелый плуг и другие инновации в сельском хозяйстве? В этой книге есть как экскурс в тысячелетнюю историю технологий и инноваций, так и попытки ответа на вопрос, что необходимо для устойчивого технического прогресса и экономического роста».
5. «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис
Увлекательная история финансового кризиса 2007-2009 годов
Олег Шибанов, профессор РЭШ, директор программы «Финансы, инвестиции, банки»:
«Даже если вы не разбираетесь в оценке стоимости опционов – не отказывайтесь от этого текста: автор смог описать процессы на Уолл-Стрит столь простым языком, что понять их сможет читатель с любой подготовкой. Эта книга – своего рода «экономический триллер», автор которого отталкивается не от научных концепций, а от личностей. Отдельные люди в разных частях света стали участниками огромной машины, производившей новые деривативные финансовые инструменты. Это повлияло как на их благосостояние, так и на реальную экономику многих стран мира. Благодаря этой книге вы сможете глубже понять финансовый рынок и проблемы, которые на нем возникают».
6. «Экономические гангстеры: коррупция, насилие и бедность национальных масштабов», Эдвард Мигель, Раймонд Фисман
О корнях коррупции и преступности
Рубен Ениколопов, ректор РЭШ, колумнист «Ведомостей»:
«Эта книга показывает, как с помощью научных экономических методов можно обнаружить коррупцию. Кажется, что эта важная тема должна лежать где-то в области интересов юристов, но на самом деле ее активно изучают экономисты. Им интересны и причины, и последствия коррупции, и то, как организация государств или рынка больше или меньше способствует развитию этого явления. Все эти вещи стали изучаться в экономике строгим и аккуратным способом не так давно. Книга дает обзор современных методов и показывает, как можно увидеть, например, является ли распространение коррупции следствием культуры или все объясняется тем, наказывают за нее или нет».
7. Principles for Navigating Big Debt Crises («Принципы преодоления больших долговых кризисов»), Рэй Далио
Мысли основателя самого крупного хедж-фонда в истории
Максим Буев, проректор РЭШ по стратегическому развитию, колумнист «Ведомостей»:
«В 2008-м мировая финансовая машина сломалась. Рэй Далио – легендарный инвестор и основатель самого большого хедж-фонда в истории – сделал на кризисе много денег. Потому что он знал, как работает экономическая машина. Секрет Далио – в тщательном изучении истории. Далио убежден, что все уже было и повторится не раз. Такова человеческая природа – постоянно повторять ошибки прошлого. В книге Далио приводит великолепную историю финансовых кризисов, и по ходу дела объясняет свое понимание механизма работы экономической машины. Этот взгляд успешного практика бесценен, как с точки зрения финансового регулятора, сидящего в центральном банке, или чиновника из министерства экономики или финансов, так и с точки зрения инвестора».
8. «Spiritus Animalis, или как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма», Роберт Шиллер, Джордж Акерлоф
Истории об иррациональном поведении людей
Олег Шибанов, профессор РЭШ, директор программы «Финансы, инвестиции, банки»:
«Книга двух нобелевских лауреатов Акерлофа и Шиллера – живая, полная примеров работа. Этот текст помогает глубже понять, как функционируют экономики мира, как центробанки могут повлиять на выход из рецессии, как устроены рынки недвижимости в разных странах и даже отвечает на некоторые вопросы о личных финансах. Авторы оттолкнулись от общей для всех глав концепции «иррационального начала» (animal spirits). Оказывается, что многие экономические явления хорошо описываются, если принять во внимание существенную толику иррациональности как людей, так и рынков. А как иначе объяснить эйфорию, сменяющуюся паникой? На русском языке книга нобелевских лауреатов была издана при поддержке РЭШ».
9. «Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни», Нассим Талеб
Книга, популяризовавшая понятие «черного лебедя»
Максим Буев, проректор РЭШ по стратегическому развитию, колумнист «Ведомостей»:
«Выражение «черный лебедь» теперь используют все, кому не лень. В обиход его ввел Нассим Талеб, но не в одноименной популярной книге, а чуть ранее – в «Одураченных случайностью». Однако основная тема книги – не в описании редких, но потенциально возможных и неожиданных событий. Книга о том, что люди часто не осознают, что многие происходящие вокруг них вещи на самом деле случайны, и не являются логичным следствием работы какого-то механизма или реализации теории заговора. Люди часто пытаются подвести ошибочную логику под случайные явления. При этом мы имеем тенденцию переоценивать причинно-следственную связь (мы видим не просто облака, а летящих белых слонов). Мы ищем объяснения там, где их нет. После выхода первого издания книги в 2005 году журнал Fortune включил ее в число 75 Smartest Books of All Time («самых умных» книг всех времен)».
10. «Новая поведенческая экономика», Ричард Талер
Нобелевский лауреат об эмоциях покупателей
Максим Буев, проректор РЭШ по стратегическому развитию, колумнист «Ведомостей»:
«Автор получил Нобелевскую премию за то, что в своих статьях показывал, как люди предсказуемо ведут себя не так, как они должны по рациональным предсказаниям экономической теории. Люди нерациональны. Чтобы подтолкнуть их к рациональности Талер придумал так называемую «теорию подталкивания» – инжиниринг разумного выбора, написал про нее книгу и стал широко известным. В книге про «Новую поведенческую экономику» автор идет дальше: показывает, как нерациональное поведение людей влияет на рынки – они не настолько эффективны, как считали экономисты-классики. Эта книга – библия поведенческой экономики. Она написана живым языком, через призму собственного опыта профессора, которому приходилось бороться с истеблишментом экономической теории, доказывая, что люди шалят и ведут себя легкомысленно гораздо чаще, чем принято считать академиками».
11. «Думай медленно… решай быстро», Даниэль Канеман
Об основных ошибках мышления
Валерий Черноокий, профессор РЭШ:
«Мы часто ведем себе нерационально, делаем ошибки и объясняем это эмоциями или невнимательностью. Нобелевский лауреат по экономике 2002 года, ученый-психолог Даниель Канеман в своем бестселлере дает другое объяснение такого нерационального поведения – ошибки нашего мышления заключены в нем самом, а точнее, в его сложной структуре. Автор выделяет два уровня мышления: «Cистему 1» и «Cистему 2». «Система 1» реагирует на привычные нам события, работает быстро, автоматически и без особых усилий. Но если мы сталкиваемся с чем-то необычным, выходящим за рамки нашего повседневного опыта, включается «Система 2», работающая медленно и требующая значительных умственных усилий с нашей стороны. Проблема лишь в том, что на многие неизвестные нам вопросы часто отвечает не критически мыслящая «Система 2», а автоматическая «Система 1», принимая неизвестное событие за что-то знакомое. А это приводит к серьезным ошибкам в нашем мышлении и поведении, примеры которых и обсуждаются в этой книге».
12. Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence («Машины прогнозирования: Простая экономика искусственного интеллекта»), Джошуа Ганс, Аджай Агравал и Ави Голдфарб
Об экономике искусственного интеллекта
Рубен Ениколопов, ректор РЭШ, колумнист «Ведомостей»:
«Книга предлагает анализ того, что такое искусственный интеллект и какова его практическая роль для бизнеса. Вокруг этой темы сейчас много хайпа, многие говорят, что технология решит все наши проблемы. Но нужно понимать, что единственное, что искусственный интеллект делает очень хорошо – это что-то предсказывает. Не более и не менее. Чтобы понять, как технология влияет на развитие бизнеса, нужно разобраться в двух вещах. Во-первых, что именно человек делает и будет продолжать делать самостоятельно помимо предсказаний (например, сравнивать альтернативы и принимать решения). Во-вторых, если предсказания становится делать гораздо легче – как можно на них заработать?»
Российская экономическая школа занимает первое место в рейтинге лучших вузов страны Forbes (2018)*. В Школе есть бакалавриат, магистратура, вечернее и корпоративное образование. Узнать больше о программах обучения в РЭШ можно по ссылке.
Статьи
Актуальность. В статье обсуждается актуализация понятия «региональной идентичности» для психологической науки. Во многом впервые происходит сравнение категориальной структуры представлений о страАктуальность. В свете изменений, происходящих в системе образования России, перехода к компетентностной парадигме, особое значение имеет изучение ресурсов и потенциалов как составляющих образовательного капитала. Этот вопрос еще недостаточно исследован в эмпирической плоскости.
Цель. Изучить индивидуально-интеллектуальные интеграции в 3-х периодах времени (в настоящем, в будущем, в будущем как обновленном настоящем — как раздельно, так и совместно) при исследовании выборки студентов гуманитарных специальностей.
Метод. В основу исследования положены представления о кросс-теоретическом синтезе теории интегральной индивидуальности В.С. Мерлина (1986) и структурно-динамической теории интеллекта Д.В. Ушакова (2011). В исследовании приняли участие 252 студента вузов г. Перми, из них 190 девушки и 62 юноши в возрасте от 17 до 22 лет. Гипотезы тестировались методом структурного моделирования. Были построены четыре модели индивидуально-интеллектуальных интеграций по критерию времени. В 3 моделях изучались индивидуально-интеллектуальные интеграции по отдельности в настоящем, в будущем, в будущем как обновленном настоящем. В 4-ю, медиаторную модель индивидуально-интеллектуальных интеграций настоящее, будущее, будущее как обновленное настоящее включались совместно.
Результаты. Обнаружено, что индивидуально-интеллектуальные интеграции возникают в каждом периоде времени по отдельности. В настоящем их можно трактовать предпосылками ресурсов, в будущем — предпосылками реализованных потенциалов, в будущем как обновленном настоящем — предпосылками обновленных ресурсов. Взятые совместно во всех периодах времени, индивидуально-интеллектуальные интеграции также были установлены. Они позволили расширить представление о «спирали развития» в дополнение к предыдущей трактовке (Дорфман, Калугин, 2020 а) и рассматривать ее по схеме «настоящее — будущее — реализованное будущее (обновленное настоящее)».
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что индивидуально-интеллектуальные интеграции, представленные в трех периодах времени (в настоящем, в будущем, в будущем как обновленном настоящем), как раздельно, так и совместно, могут рассматриваться предпосылками ресурсов и потенциалов.
Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 19-29-07046.не и о собственном регионе.
Цель. Сравнение образа России и образов собственных регионов у молодежи, проживающей в различных субъектах страны.
Методика. Методика семантического шкалирования с дальнейшей факторизацией полученных данных. В исследовании приняло участие 318 респондентов из 8 различных макрорегионов страны.
Результаты. Была получена 6-факторная структура представлений образа России и образа собственного региона. Данные структуры имеют свои существенные различия, как по самой структуре факторов, так и по степени важности иерархии факторов. Региональная идентичность молодёжи в определённой степени обуславливает модальность принятия гражданской идентичности.
Выводы. По результатам исследования можно утверждать следующее, что для тех представителей молодёжи, у которых складывался положительный образ собственного региона, формировался и положительный образ страны в целом.
Благодарности. Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 19-313-90069.
Особая благодарность за помощь в организации сбора данных Звездиной Анастасии, начальнику отдела Центра молодежных проектов АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД».
Ключевые слова: интегральная индивидуальность; интеллект; индивидуально-интеллектуальная интеграция; ресурсы; потенциалы; структурное моделирование
Эго и Самость: их определение и различие
| Комментарий: Глава из книги М. Кларк «Отношения Эго и Самости в клинической практике: путь к индивидуации» (2013), вышедшей в свет в издательстве Когито-Центр. |
«Исследователь должен хотя бы попытаться придать своим концепциям некоторую определенность и точность.»
(Jung, 1921, 409)
В этой главе рассматриваются некоторые затруднения, возникающие в связи с употреблением терминов «эго» и «самость», а также предпринята попытка ответить на вопрос: почему это важно?
Эго
Приверженцы разных школ едины в своем стремлении обосновать существование в психике некоего гипотетического «органа», подобного органу физическому – который они могли бы называть «эго». Определение, данное в «Критическом словаре юнгианского анализа» (Samuels, Shotter & Plaut, 1986) вполне подошло бы и «Критическому словарю психоанализа» Райкрофта (1968), равно как и «Словарю Кляйнианского психоанализа» Хиншелвуда (1989). Это определение устроило бы и Фэйерберна с Винникоттом, и многих других современных учёных, и звучит оно так: «понятие эго связано с такими вопросами, как личностная идентичность, сохранность личности, неизменность во времени, посредничество между сферами сознания и бессознательного, процессы познания и проверка реальности» (Samuels, Shotter & Plaut, 1986, 50).
Лишь в продолжении этой фразы возникает расхождение между юнгианскими взглядами и другими теориями: «оно (т.е. эго) мыслится как нечто, откликающееся на требования некой высшей инстанции, самости, упорядочивающего принципа всей личности». Эта часть определения уточняет положение эго в иерархии структур психики. В 1907 году, когда Юнгу было 32 года (Jung, 1907, 40), он, как и другие учёные, считал, что эго – король замка. Однако позже Юнг пришел к мнению, что эго – узурпатор, а законный король – самость.
Существует единое мнение, что понятие эго связано с восприятием человеком себя и своего тела. Но даже и это положение не столь однозначно. Большинство людей, говоря это, подразумевают лишь ограниченную область осознанного переживания человеком своих телесных ощущений. Так, например, мы определяем форму своего тела и имеем представление о коже как его границе, знаем о пространстве, которое можем охватить руками, узнаём о своём весе, когда сидим или двигаемся. Мы осознаём возрастные изменения в собственном теле. Некоторые телесные функции – ходьба, хватание, мочеиспускание, дефекация, выделение слюны или слёз осознаются и частично поддаются нашему контролю.
Однако, параллельно с механизмом осознания телесного опыта, у нас имеется основанное на эго отношение к внешней и внутренней реальности. В состоянии психического здоровья мы помним об ограничениях, налагаемых на нас временем и пространством, то есть о своих физических и психических возможностях. Мы способны более или менее верно судить о том, что является для нас реально достижимым в материальном или эмоциональном отношении, а от чего можно без ущерба для себя отказаться – будь то нечто материальное (остатки пищи, одежда, которая стала мала) – или из области эмоций. Если же кто-либо уверен, что он может летать как птица или разрушить мир одним своим чихом, то это означает, что он не обладает эго, способным реалистически оценить собственные телесные функции; люди, не умеющие избавляться от излишнего материального балласта (старых газет, стаканчиков из-под йогурта, мебели, денег и прочих накоплений) – как правило, имеют аналогичные проблемы с освобождением от физических и эмоциональных излишков.
Телесные функции, которые в определённой степени могут контролироваться – например, дыхание или работа сердца – но в основном являются непроизвольными и не подаются осознанному восприятию, относятся к области бессознательного и частично связаны с эго – которое Юнг, вслед за Фрейдом, порой считал не полностью осознаваемым. Находясь на стыке сознания и бессознательного, эти функции организма часто становятся местом проявления психосоматических симптомов, если какой-либо неосознанный материал стремится проникнуть в сознание через телесные проявления.
Юнг пошёл дальше Фрейда и рассмотрел психические отображения тех телесных функций, которые мы не осознаём и не можем контролировать: поток крови, рост и разрушение клеток, химические процессы органов пищеварения, почек и печени, деятельность мозга. Он считал, что эти функции представляет та часть бессознательного, которую он называет «коллективным бессознательным». (Jung, 1941, 172f; см. Главу 1).
Взгляды на функции эго у большинства крупных учёных, за исключением Лакана, в основном совпадают. Лакан единственный, кому эго представляется совершенно иначе, в качестве психической инстанции, назначение которой – искажать правдивую информацию, поступающую из внутренних и внешних источников; по мнению Лакана, эго по самой своей сути склонно к нарциссизму и искажению (Benvenuto & Kennedy, 1986, 60). Другие авторы рассматривают эго как посредника в переговорах как с внешней, так и с внутренней реальностью.
Наблюдается большой разброс мнений относительно того, есть ли в сознании нечто большее, чем эго. Продолжаются и споры о том, существует ли эго уже в момент рождения человека или нет, развивается ли оно постепенно из «ид» или первичной самости, первично ли эго, тогда как самость (имея в виду самость как осознанное Я) развивается позже, вслед за развитием эго.
Различные подходы к клиническому понятию самости
Большинство авторов сходятся во мнении, что человек обладает психическим опытом, который следует считать опытом переживания Я. Таким образом, Я или «самость» – это название ещё одного предполагаемого объекта психики. Однако нет единства в представлении о том, является ли самость, наряду с эго, действующим психическим органом-посредником, или же это более пассивная сущность. С употреблением термина «самость» связано гораздо больше сложностей, и его использование гораздо менее последовательно, чем в случае c «эго». Эта непоследовательность встречается не только в работах разных теоретиков, но нередко и в трудах одного и того же автора. Особой сложностью и неоднозначностью толкования понятия «самость» отличаются труды Юнга, при том, что эта концепция для него играет важнейшую роль. Весьма поучительно проведенное Редферном всестороннее исследование той, по его словам, «настоящей неразберихи», что царит нынче в использовании обоих терминов (Readfearn, 1985, 1-18).
Хиншелвуд сетует, что Кляйн «нередко подменяет друг другом термины «эго» и «самость» (Hinshelwood, 1989, 284).
Кохут под самостью подразумевает нечто вроде «чувства собственной идентичности». Однако он также включает в это понятие многое из того, что другие авторы приписывают эго, в том числе посредническую деятельность и целенаправленность (и в этом он солидарен с Юнгом). Самость представляется ему «сердцевиной личности» (Kohut, 1984, 4-7).
Винникотт упоминает «процесс созревания», предполагащий «эволюцию эго и самости»( Winnicott, 1963, 85). В его трактовке «самость» имеет отношение к «Истинному Я» — «спонтанной, развивающейся самопроизвольно» составляющей личности; если «истинной самости не позволяют проявлять себя открыто, то её защищает податливая «ложная самость, ложное Я» (Winnicott, 1960а, 145). Kaлшед ссылается на эти представления Винникотта, когда упоминает «личностный дух» и его архетипические защиты (Kalched, 1996, 3).
Стерн (подходя к вопросу с точки зрения теории развития) говорит о четырёх видах восприятия своей самости, проявляющихся, в частности, у младенца и маленького ребёнка (Stern, 1985).
Фонаджи с коллегами соотносят теорию привязанности с развитием у ребёнка способности к рефлексии и возникающим восприятием себя. Они прослеживают также, каким образом самость участвует в развитии ребёнка (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002, 24).
Райкрофт определяет место самости в теории психоанализа следующим образом: «самость субъекта – это то, каким он воспринимает самого себя, в то время как эго — это его личность как структура, о которой может быть вынесено безличное обобщающее суждение» (Rycroft, 1968, 149). Такое специфическое толкование самости в психоанализе исключает какие-либо бессознательные составляющие психики. Это распространенное определение, не используемое в качестве специального.
Mилрод обобщает различные значения термина «самость», встречающиеся в новейшей психоаналитической литературе: этот термин может относиться к человеку, его личности, к его эго как психической структуре, к психическому отображению индивидуальности, к некоему над-порядку, четвёртой психической составляющей, существующей наряду с «ид», эго и суперэго, или к фантазии. Согласно собственной точке зрения Милрода, психическая репрезентация «Я» (самости) представляет собой подструктуру эго (Milrod, 2002, 8f).
Юнг, со своей стороны, употребляет термин «самость» особым образом, позволяющим включить в это понятие бессознательную часть психики, и в его системе самость определённо не заключена внутри эго. По Юнгу, самость наблюдает за эго и противостоит ему, или на других стадиях психологического развития включает его в себя. В этом — наиболее существенное различие между психоанализом и аналитической психологией, которое сказывается и на клинической работе. Юнг разрабатывал свою концепцию долго и не всегда был последователен в процессе своих попыток определить и понять коллективное бессознательное. Впервые он использует термин «самость» ещё в 1916 году, однако в словаре терминов его книги «Психологические типы», изданной в 1921 году, понятие «самость» отсутствует. Лишь спустя 40 лет, в 1960 году, издавая свои «Избранные труды», Юнг включает этот термин в глоссарий. Там он определяет самость как «единство личности как целого» — это «психическая целостность, состоящая из сознательных и бессознательных содержаний» и, таким образом, она — «лишь рабочая гипотеза», поскольку бессознательное не может быть познано (Jung,1921, 460f). В других работах, будучи еще в поисках этого определения, Юнг обозначает этим термином то бессознательную психику, то совокупность сознательного и бессознательного, которая не есть эго. В любом случае, здесь предполагается возможность диалога между эго и самостью, в котором самости отводится роль «короля».
Структура самости — различные гипотезы: ид, бессознательная фантазия, архетип
И Фрейд, и Кляйн считают эго основной организованной частью психики. Оба пишут и о структуре супер-эго, а также ищут ответ на вопрос, обладает ли «ид» также какой-либо внутренней структурой и способно ли оно способствовать структуризации наших переживаний помимо физических, инстинктивных реакций. Разумеется, в рассуждениях такого рода они не находят места для самости.
Фрейд полагал, что «ид» не имеет ни внутренней организации, ни иной задачи, кроме удовлетворения инстинктивных потребностей и поиска удовольствия. Вместе с тем, начиная с 1916-1917 годов и до самой смерти в 1939 году он пишет о «следах воспоминаний в нашем архаическом наследии», следах, которые побуждают человека реагировать на определённые стимулы определённым образом. Эти следы, по-видимому, включают в себя не только субъективные содержания, но и предрасположенности, и могут активизироваться как альтернатива воспоминаниям о личном опыте, когда личная память подводит (Freud 1916-1917, 199; 1939a, 98ff; сравни также 1918, 97).
М. Кляйн считала, что бессознательные фантазии существуют у человека с рождения и предназначены структурировать инстинктивные импульсы в ментальные репрезентации (формирование внутренних объектов). (Написание зд. слова «фантазии» в греческом варианте, “phantasy”, а не “fantasy”, как обычно, позволяет отличать бессознательные образы от фантазирования, которое является осознанным процессом). По мнению Кляйн, импульсы, эмоции и фантазии младенца являются «врождёнными»; они встречаются с внешней реальностью через проекции. Затем они вновь интроецируются в преобразованном виде и формируют ядро внутреннего объекта, представляя собой сплав врожденной пред-существующей фантазии и внешнего мира (Klein, 1952, 1955, 141). В последнее время психологи, придерживающиеся теории развития, и учёные-неврологи оспаривают это мнение, полагая, что такая способность психики может проявляться у ребенка не раньше шестимесячного возраста. (Knox, 2003, 75f).
Бион, посещавший некоторые семинары Юнга, описывает процесс достижения младенцем удовлетворения примерно так же, как Кляйн:
«младенец обладает некой врожденной предрасположенностью, — ожиданием груди… Когда младенец входит в контакт с реальной грудью, его пред-знание, врожденное ожидание груди, априорное знание груди, «пустая мысль» о ней, соединяется с узнаванием реальности, и одновременно с этим развивается понимание»[1] (Bion, 1962, 111).
Таким образом, и Кляйн, и Бион представляли себе, что новорождённый ребёнок уже в момент рождения обладает неким структурным элементом, не относящимся к эго; это психическая, а не просто инстинктивная структура, и она является посредником при встрече младенца с внешним миром.
Архетип в концепции Юнга подобен этой, не относящейся к эго, врождённой психической структуре, которая определяет, каким образом мы будем воспринимать внешнее и внутреннее окружение и реагировать на него. Идея архетипа стала центральной в его представлении об устройстве всей психики в целом, о её потенциальных возможностях и развитии. Юнг разрабатывал свою теорию в течение долгого периода, начиная с 1912 года, постепенно преодолевая препятствия и противоречия. Согласно этой теории, подобно тому, как человек рождается с определенным строением тела, приспособленным к «совершенно определённому миру, где есть вода, свет, воздух, соли, углеводы», точно так же он обладает и врожденной психической структурой, приспособленной к его психической окружающей среде (Jung, 1928a, 190). Эта структура — архетипы. Архетипы обеспечивают возможность нашего развития как человеческих существ. Они объединяют каждого из нас со всем человечеством, поскольку одни и те же у всех людей – как ныне живущих, так и умерших тысячелетия назад – так же как строение костей, органов и нервов. Юнг, в отличие от Фрейда, не считает их «следовой памятью», поскольку в архетипах передается не субъективное содержание, а структура. Несмотря на свой ранний не вполне удачный термин «первичный образ», который, вроде бы, подразумевает наличие содержаний, Юнг настаивал, что архетипы есть незаполненные формы, пригодные для наполнения универсальным общечеловеческим опытом в любое время и в любом месте, будь то рождение, сексуальность, смерть; любовь и утрата, рост и увядание, радость и отчаяние. Каждый архетип содержит в себе полярности как инстинктивных телесно-физических, так и не связанных с телом психических реакций – на холод и тепло, на чёрное и белое, на любые жизненные события.
Утверждают, что всеобъемлющее учение Юнга об архетипах соответствует современным представлениям нейронаук (Knox, 2003). Архетипы являются психическими эквивалентами так называемых нейронных связей головного мозга: мы рождаемся на свет с этими структурами, но активизируются ли они или нет, — зависит от нашего жизненного опыта. (Pally, 2000,1). Если человек испытывает какое-либо конкретное переживание (например, боится рассерженной матери), то этот опыт регистрируется в определеной нейронной связи, уже готовой к активации. Подобно этому, конкретный опыт должен быть зарегистрирован психикой в соответствующей архетипической структуре (в данном случае, внутри архетипа Ужасной Матери). Таким образом, архетип является одним из способов размышлять о «разуме» в связи с «мозгом», но без отождествления. Глубокие взаимные связи между физическим и психическим лежат в основе как теории архетипов, так и нейронауки. После интенсивной психотерапии регистрируются изменения в нейронных связях – именно интенсивность аффекта вызывает физические изменения (Tresan, 1996, 416). Теория архетипов и нейронаука открывают нам прямой путь к постижению психосоматических симптомов во всём единстве телесного и психического.
Важная роль самости
Наш подход к клиническому материалу определяется тем, как мы понимаем отношения между самостью и эго. Фрейд считал, что эго развивается из «ид», по мнению Юнга – его основой является бессознательное. Фрейд, как правило, усматривал в «ид» постоянную угрозу для эго, хоть и отмечал, что «сотрудничество» – один из способов, с помощью которых бессознательное строит отношения с сознанием (Freud,1915e, 190). При этом Фрейд не считал, что бессознательное способно внести в сознание нечто полезное; по его мнению, задачей эго является «укротить» «ид»: «подчинить» его, «поставить под контроль», «управлять» им. (Freud, 1937, 220-235). Юнг придерживался другой точки зрения. Он полагал, что бессознательное может обогатить эго, если только не переполнит его. Он писал о «диалоге» между эго и бессознательным/самостью, в котором оба участника имеют «равные права». (Jung, 1957, 89). По мнению Юнга, цель психического развития состоит не в том, чтобы эго «подчинило» себе бессознательное, а в том, чтобы оно признало силу самости и уживалось с ней, приспосабливая свои действия к потребностям и желаниям своего бессознательного партнера. Он утверждал, что самость обладает мудростью, превышающей понимание отдельным человеком себя, поскольку самость одного человека связана с самостями всех остальных человеческих (а возможно, и не только человеческих) существ.
По Фрейду, в состоянии психического здоровья эго является главной действующей силой психики. «Психоаналитическое лечение, – пишет он, – основано на влиянии, которое бессознательное испытывает со стороны сознания». (Freud, 1915e, 194; курсив Фрейда). Активность бессознательного, внедряющегося в сознание, говорит Фрейд, «подкрепляет» деятельность, задуманную эго. Такое сотрудничество возможно лишь тогда, когда энергия, поступающая из бессознательного, может быть преобразована в эго-синтонную. Юнг рассматривает эту взаимосвязь прямо противоположным образом. По его мнению, в основе анализа лежит такое влияние на сознание со стороны бессознательного, при котором сознание обогащается и совершенствуется. Установки эго не подкрепляются, но видоизменяются таким образом, что его погрешности компенсируются за счёт установок бессознательного. Констеллируется нечто новое – третья, прежде неизвестная позиция, невообразимая для эго самого по себе (Jung, 1957, 90). Более того, в то время как у Фрейда инициатива всегда принадлежит эго, даже если не осознаётся им, у Юнга инициатором является самость, которая «хочет» реализовать себя.
Для Юнга самость первична: она приходит в мир первой и уже на ее основе возникает эго. Фордхэм идет вслед за Юнгом, полагая, что первичной самостью младенца является изначальное психосоматическое единство, которое постепенно, по мере роста эго, дифференцируется на психику и сому. Самость для Юнга первична ещё и в том смысле, что это более широкое понятие, чем эго; кроме того, она постоянно, на протяжении всей жизни, подпитывает творческие силы психики, которые проявляются в сновидениях с их еженощно-обновляемыми образами, в стихах или в разрешении научных головоломок. Она кажется неистощимой – ведь нам становится известной лишь та её часть, что проникает в наше сознание, и мы никогда не сможем оценить весь спектр её возможностей. Но мы по опыту знаем, что именно самость «правит» в нашей жизни – если мы тут допустим некоторый антропоморфизм (а он, пожалуй, допустим), то можно сказать, что именно ее потребности, желания и замыслы определяют то, какой будет наша жизнь: чем мы будем заниматься, с кем вступим – или не вступим – в брак, какими болезнями заболеем, вплоть до того, когда и как умрём. Это как в теории хаоса, принятой в современной физике: в кажущейся случайности и неупорядоченности жизни скрыта глубокая упорядоченность и целенаправленность.
Фрейд сравнивает аналитика с детективом, который пытается решить загадку преступления, используя в качестве ключа проявления бессознательного (Freud, 1916-1917, 51). Подход Юнга принципиально иной: он рассматривает весь клинический материал – сны, психосоматические симптомы, особенности поведения, невротические или психотические проявления, феномены переноса или контрпереноса – как «ангелов», то есть посланников бессознательного, пытающихся донести весточку до сознания. Юнг считал, что наша задача в том и состоит, чтобы помочь пациенту осознать эти послания, со всеми их содержаниями и смыслами; «посланцы» смогут освободиться от вахты, только когда «письмо» будет доставлено, тогда потребность в них отпадет.
Юнг часто очеловечивает самость, говоря о ней как о личности, живущей внутри бессознательного и имеющей собственные цели и устремления. Самость, пишет он, «это, так сказать, как бы, тоже наша личность» (Jung, 1928a, 177; курсив Юнга). Он пытается отделить от «второго я» эту «бессознательную» личность, возможно, «спящую» или «грезящую» (Jung, 1939, 282f). На практике мы неспособны отличить инстинктивный, безличностный импульс, исходящий от архетипа (или от «ид»), и неосознанное побуждение самого субъекта. Однако наши установки, а возможно, и клиническая практика изменятся, если мы согласимся с тем, что пишет Юнг в том же отрывке:
«Сотрудничество бессознательного [ с сознанием ] осмысленно и целенаправленно, и даже если оно действует в противовес сознанию, его проявление всё же является разумно компенсаторным, как бы восстанавливая нарушенный баланс». (Там же, 281).
Если мы представляем себе бессознательное именно таким образом, это значит, что мы всерьез прислушиваемся к нему, как к другому человеку, ожидая от него целенаправленных, разумных действий, компенсирующих установки сознания. Эта другая личность может причинять беспокойство, но мы знаем, что она приносит не только проблемы.
Архетип самости у Юнга
В 1912 году, после разрыва с Фрейдом, у Юнга наступил период преднамеренного, осознанного сотрудничества с тем, что он ощущал как сильнейшее давление своего бессознательного, (хотя ещё не думал тогда о нем как о «самости»). Кульминацией этого периода стал 1927 год, когда ему приснилось однажды, будто он с товарищем в Ливерпуле.
Юнг пишет:
«Мы вышли на широкую площадь, слабо освещённую уличными фонарями. К площади сходилось много улиц, а городские кварталы были расположены вокруг нее по радиусам. В центре её находился округлый пруд с маленьким островком посередине. В то время как всё вокруг было смутно различимо из-за дождя, туманной дымки и плохого освещения, островок сиял в солнечном свете. На нем стояло одинокое дерево, магнолия, осыпанная розовыми цветами. Все выглядело так, будто дерево было освещено солнцем – и в то же время само служило источником света». (Jung, 1962, 223)
Юнг комментирует:
«Сон отражал мое состояние в тот момент. Я до сих пор вижу серовато-жёлтые плащи, блестящие от дождя. Ощущение было крайне неприятное, все вокруг темно и тускло – именно так я чувствовал себя тогда. Но в том же сне возникло видéние неземной красоты, и только благодаря ему я мог продолжать жить». (там же, 224)
Юнг понял, что для него «целью является центр, и всё направлено к центру», а центр – это самость, «принцип и архетип направления и смысла». Из этого переживания возник «первый намек на мой личный миф», на психический процесс, направленный к индивидуации. (там же)
Архетип самости – это организующий принцип, функция которого – интегрировать, объединять, подталкивать по направлению к центру все бесконечные возможности, существующие в психике, и создавать таким образом состояние большей психологической целостности. Более поздние исследователи отмечают, что, согласно теории архетипов, архетип самости включает в себя и противоположный полюс: предрасположенность психических единиц к дезинтеграции, противоборству или стагнации. Этот вопрос изучали два современных юнгианских аналитика: Редферн в книге «Взрывающаяся самость» (The Exploding Self,1992) и Гордон, которая cчитает, что тенденция к объединению может стать разрушительной, если она настолько сильна, что совсем не допускает процессов де-интеграции, дифференциации и сепарации (Gordon, 1985, 268f). Эти исследования предостерегают нас от идеализации архетипа самости как центрирующего принципа, от ориентации психотерапии на него как на уравновешенную и упорядоченную целостность. Предпочтение, которое Хиллман отдает политеистическому взгляду на структуру психики в противовес монотеистическому, также побуждает нас ценить разнообразие в устройстве внутреннего мира и не уповать на незыблемый порядок в нем. (Hillman, 1976, 35).
В работе «Аion» (1951, 222-265) Юнг посвятил целую главу перечислению и детальному рассмотрению нетсчерпаемого изобилия символов самости. Поскольку самость есть архетип и, значит, незаполненная форма, один образ может выразить лишь ограниченную часть ее потенциальных возможностей. Каждый из нас заполняет эту форму образами из собственного опыта, так что наше переживание персонализируется и гуманизируется. Конкретный опыт отдельного человека, его индивидуальность, воплощается (начинает бытие) в конкретный момент времени – так Иисус приходит в мир как сын Бога.
Тот особый язык, которым говорят о Боге – для тех, кому это важно – может стать связующим звеном между теориями глубинной психологии и другими важными сферами человеческого опыта. Нам, психотерапевтам, он предоставляет способ понять язык и проблемы тех пациентов, которые пребывают в состоянии тяжёлого стресса, не в силах наладить отношения с собственным «Богом»; он позволяет нам не ограничиваться размышлениями о «Боге как внутреннем объекте», в соответствии с теорией Кляйн. Блэк (Black,1993) предлагает свой вариант этой модели Кляйн, учитывающий существование нашего внутреннего Бога.
Индивидуация
Юнг часто использует образ спирали: мы движемся, вращаясь в пределах своего эго вокруг самости, постепенно приближаясь к центру, снова и снова встречаясь в разных контекстах и под разными углами, с сердцевиной своей самости. Мы часто сталкиваемся с этим в клинической практике: образ себя, с которым пациент приходит на первую сессию, может служить ключом ко всей нашей будущей работе.
Индивидуация – это путь всё более и более полного осознания самого себя. Юнг дал определение индивидуации в 1928 году:
«Пройти путь индивидуации – значит стать не-разделённым индивидуумом, и поскольку индивидуальность охватывает нашу сокровенную, самую глубокую, ни с чем не сопоставимую уникальность, индивидуация также подразумевает становление собственной самости, приход к самому себе. Мы можем, таким образом, перевести слово “индивидуация” как “становление личности” или “само-реализация”». (Jung, 1928a, 173).
Игнорируемые прежде или казавшиеся неприемлемыми аспекты личности достигают сознания; устанавливается контакт. Мы перестаём быть домом, перегороженным на отдельные изолированные друг от друга части; мы становимся индивидуальностью, нераздельным целым. Наше «Я» становится реальным, приобретает фактическое, а не только потенциальное существование. Оно существует в реальном мире, «реализуется» — как говорится об идее, воплощённой в жизнь. Юнг пишет: «Психика – это уравнение, которое не может быть «решено» без учёта фактора бессознательного; это совокупность, которая включает как эмпирическое эго, так и его транс-сознательную основу». (Jung, 1955-1956, 155).
Процесс индивидуации – работа по решению этого уравнения. Она не завершается никогда.
Примечания
[1] Цитируется по: У.Р. Бион. Теория мышления // Журнал практической психологии и психоанализа (Ежеквартальный научно-практический журнал электронных публикаций). 2008, 1 марта, iv. Пер. З. Баблояна.
(PDF) Определение психологии
Психологический формализм 193
Психические процессы либо включают в себя подавляющее большинство поведений животных с общим
определением «ментального» (как здесь предлагается), либо чрезвычайно борются с двусмысленностью —
из того, что поведение животных, которое следует учитывать, если оно закреплено за концепцией ментального как
, эквивалентным чувствительности или сознанию, или бестелесной нематериальной силе
, которая вызывает поведение. Во-вторых, американская психология на протяжении большей части двадцатого века определялась как наука о поведении животных
; таким образом, уже существует
, существует богатая традиция, в которой эта концепция была правилом.В-третьих, люди, конечно же,
, это вид животных и, следовательно, явно включены. В-четвертых, было обнаружено, что даже самые простые нервные системы, такие как у планарии, демонстрируют основные психологические явления, такие как ассоциативное обучение. В-пятых, определение психологии
исключительно с точки зрения человеческого поведения открывает множество серьезных проблем. Например,
, если только человеческое поведение является психологическим поведением, какие явления
— это ощущения, восприятие, мотивация, эмоции, двигательное развитие, память, привязанность,
менталитет, доминирование, еда, совокупление и т. Д.что в настоящее время изучается на животных? Наконец,
, согласно системе ToK, есть четкая граница между Жизнью и Разумом,
, предполагая, что существует определенный способ отличить биологию от психологии.
Чтобы понять природу разделительной линии между биологией и психологией
, мы можем задать вопрос: сводится ли поведение животных к биологической теории? Другими словами, может ли стандартная биологическая теория адекватно объяснить поведение животных или требуется
новых теоретических идей для достижения полного объяснения? Интересно, что
двух ученых, занимавших видное место в этой книге, предлагают поразительно
разных взглядов на этот вопрос.Эдвард О. Уилсон, выдающийся социобиолог,
считает, что поведение животных сводится к биологии. Напротив, как упоминалось выше,
Б. Ф. Скиннер принципиально не соглашался с этим утверждением и решительно утверждал, что поведение
животного в целом не может быть сведено к биологической теории. Вместо этого он утверждал, что наука о поведении животных так же концептуально отличается от биологии
, как биология от химии и физики, и по очень похожей причине.Поведение животных
, как и жизнь в целом, развивается как следствие вариаций и отбора
, порождая возникающие свойства, и, таким образом, может быть понято только с помощью психо-
логических концепций (например, оперантных принципов), а не биологических (см. Наур,
2009).
В отличие от версии реальности Уилсона, система ToK демонстрирует четкую границу между биологией и психологией и, таким образом, согласуется с утверждением Скиннера
Уилсона о том, что поведение животных с нервной системой представляет собой
качественный сдвиг в сложности, который не полностью сводится к теории биологии.Система ToK
добавляет точку, что поведение животных, опосредованное нервной системой, представляет собой качественный сдвиг, потому что поведение организовано второй системой обработки информации
(нервная система в дополнение к генетической системе). Я ассоциирую
Скиннера с психологическим формализмом из-за его взгляда на поведение животных
как на возникающий уровень сложности.
Учитывая эту формулировку, какие дисциплины составляют формальную науку
психологии? Список будет включать в себя следующее: Сравнительный / Животный
Психология, Анализ поведения, Этология, Поведенческая экология, Поведенческая
Генетика, Когнитивная и компьютерная неврология, Поведенческая нейронаука,
Психофизиология, Психопсихология и Психопсихология.Единое
определений психологии | SpringerLink
БЕНДЖАМИН, Л. Т. (1981). Наука и профессионализм Американской психологической ассоциации, старое пальто с новыми морщинами . Документ, представленный Психологической ассоциации Эль-Пасо, март 1981 г.
Google ученый
БРАУН, Р., & ХЕРРНШТЕЙН, Р. (1975). Психология . Бостон: Маленький, Браун.
Google ученый
КУН, Д.(1982). Основы психологии (2-е изд.). Сент-Пол: Запад.
Google ученый
ГОЛСОН, Б., & БАРКЕР, П. (1985). Кун, Лакатос и Лауден. Американский психолог , 40, 755–769.
Артикул Google ученый
ГИОРГИ, А. (1970). Психология как гуманитарная наука . Нью-Йорк: Харпер и Роу.
Google ученый
ХЭББ, Д.О. (1974). Что такое психология. Американский психолог , 29, 71–79.
Артикул Google ученый
ХЭББ, Д. О. (1975). Учебник психологии (4-е изд.). Филадельфия: Сондерс.
Google ученый
ГЕРБАРТ, Дж. (1891). Учебник психологии . Нью-Йорк: Эпплтон.
Google ученый
HILGARD, E., АТКИНСОН, Р., & АТКИНСОН, Р. (1975). Введение в психологию (6-е изд.). Нью-Йорк: Харкорт, Брейс и Йованович.
Google ученый
ДЖЕЙМС У. (1890). Основы психологии . Холт: Нью-Йорк.
Книга Google ученый
КЕССАН, У., и Кахан, Э. Д. (1986). Век психологии: от субъекта к объекту к агенту. Американский ученый , 74, 640–650.
Google ученый
КИМБЛ Г.А. (1984). Две культуры психологии. Американский психолог , 39, 833–839.
Артикул Google ученый
КУН, Т. (1970). Структура научных революций (Ред. Ред.) Чикаго: Чикагский университет.
Google ученый
LAPOINTE, F.Х. (1970). Происхождение и эволюция термина «психология». Американский психолог , 25, 640–646.
Артикул Google ученый
МАТАРАЦЦО, Дж. Д. (1987). Есть только психология, специальностей нет, но много приложений. Американский психолог , 42, 893–903.
Артикул Google ученый
МИЛЛЕР Г. А. (1956). Магическое число семь плюс-минус два. Психологический обзор , 63, 81–97.
Артикул PubMed Google ученый
МИЛЛЕР Г. А. (1962). Некоторые психологические исследования грамматики. Американский психолог , 17, 748–762.
Артикул Google ученый
МИЛЛЕР, Г., ГАЛАНТЕР, Э., ПРИБРАМ, К. (1960). Планы и структура поведения . Нью-Йорк: Холт.
Книга Google ученый
НЬЮЭЛЛ, А.(1973). Вы не можете задать вопрос о природе и выиграть. В У. Чейза (ред.), Обработка визуальной информации . Нью-Йорк: Академ.
Google ученый
ПАЛЕРМО Д. С. (1971). Происходит ли научная революция в психологии? Исследования в области науки , 1, 135–155.
Артикул Google ученый
ПЕТЕРСОН Д. Р. (1976). Психология — это профессия? Американский психолог , 31, 553–560.
Артикул Google ученый
PIAGET, J. (1978). Что такое психология? Американский психолог , 33, 648–652.
Артикул Google ученый
РОДЖЕРС К. Р. (1973). Некоторые новые вызовы. Американский психолог , 28, 379–387.
Артикул Google ученый
РАССЕЛ, Р.W. (1970). «Психология»: существительное или прилагательное. Американский психолог , 25, 211–218.
Артикул Google ученый
СКИННЕР, Б.Ф. (1975). Крутой и тернистый путь к науке о поведении. Американский психолог , 30, 42–49.
Артикул PubMed Google ученый
СКИННЕР, Б.Ф. (1987). Что случилось с психологией как наукой о поведении? Американский психолог , 42, 780–786.
Артикул Google ученый
Уотсон, Дж. Б. (1913). Психология с точки зрения бихевиориста. Психологический обзор , 20, 158–177.
Артикул Google ученый
ВЕЙМЕР, В. Б., & ПАЛЕРМО, Д. С. (1973). Парадигмы и нормальная наука в психологии. Исследования в области науки , 3, 211–214.
Артикул Google ученый
Педагогическая психология — определение, объем и сущность
Что такое психологияСлово «психология» представляет собой сочетание двух греческих слов «психе» («душа», «разум», «я» и «логия» (изучать, исследовать).Проще говоря, психология исследует психический процесс и его проявления в социальных отношениях человека и животных. На этом фоне психология имеет большое значение для того, чтобы все больше и больше понимать человеческий разум и логику его / ее поведения в социальных отношениях.
Что такое образованиеЭто процесс, при котором навыки и информация передаются следующему поколению, чтобы развить человека умственно, эмоционально и технически, чтобы он стал счастливым и ценным персонажем в социальном порядке.
Что такое педагогическая психологияЕсли объединить оба приведенных выше абзаца, нам станет ясно, что образование, которое является важной социальной и человеческой деятельностью, имеет тесную связь с психологией.
Психология дает понимание и информацию о менталитете учащихся, в то время как образование выполняется и действует в определенном направлении для достижения целей, поставленных педагогами-психологами. Другими словами, педагогическая психология научно изучает психические и поведенческие вопросы тех, кто прямо или косвенно связан с образованием.
Определение педагогической психологииНиже приведены определения педагогической психологии известными психологами:
- «Педагогическая психология — это та отрасль психологии, которая занимается преподаванием и обучением, а также охватывает весь диапазон и поведение личности в отношении образования». Скиннер
- «В то время как общая психология — это чистая наука, педагогическая психология — это ее применение в области образования с целью социализации человека и изменения его поведения.” Андерсон
- «Это систематическое исследование образовательного роста и развития ребенка». Стивен
- «Это наука об образовании». E.A. Кожура
- «Именно изучение этих фактов и принципов психологии помогает объяснить и улучшить процесс обучения». Уолтер Б. Колесинк
С.С. Чанхан дал подробные и исчерпывающие заявления о природе и сфере педагогической психологии, которые заключаются в следующем:
- Он применяет психологические открытия в образовании.
- Педагогическая психология систематически изучает индивидуальное развитие в образовательной системе.
- Это позволяет учителю выполнять свою роль очень эффективно, чтобы сделать процесс обучения и преподавания продуктивным.
- Педагогическая психология — это научное исследование развития отдельных жизненных этапов от рождения до смерти и так далее.
Что такое определение познания в психологии?
Автор: Joy Youell
Обновлено 19 мая 2020 г.
Медицинское заключение: Одри Келли, LMFT
Хотите знать, что такое определение познания в психологии?
Получите ответы сейчас.Поговорите с экспертом по когнитивно-поведенческому поведению в Интернете. Этот веб-сайт принадлежит и управляется BetterHelp, который получает все комиссии, связанные с платформой.Источник: pixabay.com
То, как кто-то думает, может сильно повлиять на его поведение. Образцы мышления влияют на психическое здоровье. Понимание компонентов психического здоровья может стать важным шагом на пути к душевному спокойствию и благополучию. В этой статье обсуждается, как ваша мысленная жизнь влияет на психическое здоровье и как с этим можно справиться с помощью консультирования.
Что такое познание?
Что вы думаете, когда слышите слово «познание»? Это слово не встречается в повседневном разговоре, но этот термин может вызывать в воображении мысли о том, как мы, люди, думаем. Вполне вероятно, что, если вы не посещаете какие-либо курсы психологии, вы редко встретите слово «познание». Поскольку все мы стремимся к психическому благополучию, понимание отдельных элементов, которые способствуют нашему целостному благополучию, может быть важным. В этой статье рассматривается вопрос о том, как познание определяется в психологических кругах.Как мы можем определить его технически и просто и каковы его компоненты?
Техническое определение
Согласно Американской психологической ассоциации (APA), познание можно определить как процессы познания, включая внимание, запоминание и рассуждение. Его также можно определить как содержание этих процессов, таких как концепции и воспоминания.
Простое определение
Psychology Today предлагает альтернативное определение познания, заявив: «Проще говоря, познание относится к мышлению.«Познание обычно относится к процессам мышления и познания. Но что именно представляют собой мышление и знание? И как они соотносятся с вниманием, памятью и рассуждением?»
Мышление
Мы все думаем, но если бы кто-то спросил вас, что такое мышление, было бы нелегко дать ему определение. Мышление — это процесс, который постоянно происходит в нашем сознании, но его трудно описать каким-либо осязаемым образом. Согласно Scientific American, «когда срабатывает единственный нейрон, это изолированный химический всплеск.Когда много пожаров вместе, они образуют мысль ». Итак, существует биологический процесс, который может помочь объяснить, что такое мысль с одной точки зрения, но это только начинает касаться поверхности.
Если вы думаете о своем уме как о компьютере, вы можете определить мышление как процесс обработки информации, который кажется более практичным способом рассмотрения концепции. Эта обработанная информация, когда-то сохраненная в памяти, может считаться знанием или знанием.
Знания
« Истинное знание существует в знании того, что вы ничего не знаете.»- Сократ
Мы можем думать о знании как о информации, которая хранится в нашем сознании, но это лишь один из способов взглянуть на концепцию. Мы можем рассматривать знание как целостное человеческое понимание, которое было развито с начала нашего коллективного существования, но оно может быть слишком широким для наших целей здесь.
Если мы продолжим сомневаться в том, что такое знание, мы можем обнаружить, что выходим из области психологии в область философии.«В повседневном использовании знание относится к осознанию или знакомству с различными объектами, событиями, идеями или способами выполнения вещей», согласно Psychology Today. Есть термин, который используется для описания изучения знаний. Это называется эпистемология. По данным Стэнфордского университета,
«Как изучение знания, эпистемология занимается следующими вопросами: каковы необходимые и достаточные условия знания? Каковы его источники? Какова его структура и каковы его пределы?»
Источник: unsplash.com
То, как мы определяем этот термин, зависит от того, насколько технически и детально мы хотим быть. Познание связано с мышлением и знаниями. Знания строятся через внимание.
Внимание
Процесс накопления знаний, по сути, начинается с внимания. Мы можем думать о внимании как о направлении, в котором мы фокусируем наше осознание. Например, если мы сидим в классе или на собрании, мы можем не усвоить какие-либо новые знания, которые фасилитатор может передать нам, если наше понимание сосредоточено на разговоре с человеком, который сидит рядом с нами.Мы можем получать новые знания о человеке, с которым разговариваем, но, вероятно, мы не должны направлять свое внимание в этой обстановке.
Скорее всего, мы не думаем о внимании постоянно. Когда мы действительно задумываемся об этом, мы можем обнаружить, что используем обычную фразу «обращай внимание», особенно при работе с детьми. Но мы, скорее всего, связываем внимание с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью или СДВГ. По данным Национального института психического здоровья,
«Расстройство дефицита внимания / гиперактивности (СДВГ) — это заболевание головного мозга, характеризующееся постоянным проявлением невнимательности и гиперактивности-импульсивности, которое мешает функционированию или развитию.Невнимательность означает, что человек отвлекается от задачи, ему не хватает настойчивости, ему трудно удерживать внимание и он дезорганизован ».
Невнимательность, связанная с СДВГ, может проиллюстрировать внимание как противоположное: оставаться на задаче, сохранять настойчивость, поддерживать концентрацию и оставаться организованным. Развитие умения направлять и фокусировать внимание там, где оно необходимо, является ключом к обучению и накоплению новых знаний. То же самое и с сохранением этой новой информации в нашей памяти.
Память
Память — это ключевой компонент знаний, а следовательно, и познания, поскольку мы храним информацию.Это среда, с помощью которой мы можем накапливать наши знания. Когда мы получаем новую информацию, мы связываем ее с существующей информацией и сохраняем ее для дальнейшего использования. Как и компьютер, мы не можем этого сделать без памяти.
Скорее всего, мы не очень часто думаем о своей памяти, за исключением, может быть, случаев, когда мы теряем наши ключи. Если у нас есть член семьи, страдающий слабоумием, мы можем довольно часто задумываться о памяти или о ее отсутствии. Согласно Ассоциации Альцгеймера, «деменция — это общий термин, обозначающий потерю памяти и других умственных способностей, достаточно серьезную, чтобы мешать повседневной жизни.»Рассмотрение того, как потеря памяти может повлиять на нашу жизнь, может помочь нам получить некоторое представление о ее важности.
Помимо потери памяти, деменция также характеризуется изменениями личности и нарушением мышления. Рассуждения — это еще один аспект познания, на который может влиять психическое здоровье.
Рассуждения
Словарь Мерриама-Вебстера определяет рассуждение как способность сформировать мнение или прийти к заключению на основе собранной информации.Другое определение дано Американской психологической ассоциацией, в которой говорится, что рассуждение — это «процесс мышления, в котором выводы делаются из набора фактов; мышление направлено на поставленную цель или задачу».
Размышляя, мы конструируем знания. По сути, рассуждение — это процесс создания базы знаний. Рассуждения — это то, как мы обрабатываем информацию, которую мы получаем, и формируем из нее знания. Познание — это слово, которое используется, когда мы говорим о мышлении, но оно включает в себя не только один компонент.Также включает:
- Знание
- Внимание
- Память
- Рассуждения
Познание — это то, как мы обрабатываем, храним и используем информацию обо всем, от способа приготовления утреннего кофе до того, как устроена Вселенная.
Лечение когнитивных проблем
Хотите знать, что такое определение познания в психологии?
Получите ответы сейчас. Поговорите с экспертом по когнитивно-поведенческому поведению в Интернете.Источник: rawpixel.com
Некоторые проблемы или заболевания психического здоровья напрямую связаны с нарушениями когнитивных функций. В сценариях, когда человек пытается понять или обдумать вещи, специалист по психическому здоровью может помочь выявить основные причины когнитивных проблем. При консультировании можно использовать различные подходы, в том числе:
- Консультации по питанию для корректировки диеты
- Лечебная физкультура для оздоровления
- Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)
Эти и многие другие ресурсы доступны, чтобы помочь людям преодолеть легкие когнитивные расстройства.
BetterHelp — это сеть квалифицированных консультантов, с которыми вы можете встретиться через Интернет. В удобное для вас расписание и у вас дома лицензированный терапевт может оказать вам поддержку, если вы боретесь с когнитивными, эмоциональными, поведенческими или другими проблемами психического здоровья. Ниже приведены некоторые обзоры консультантов BetterHelp от людей, испытывающих различные проблемы.
Отзывы консультанта
«Марк очень внимательно относился ко всему, что я раскрываю.Он не только оказал мне поддержку, но и дал мне понять и ободрить, чтобы я знал, что я нахожусь на правильном пути к самосовершенствованию и открытиям. Кроме того, Марк дал мне ценную информацию о моих романтических отношениях, в частности, узнав больше о динамике отношений и о том, как построить более крепкие и здоровые отношения ».
«Я надолго откладывал поиск терапевта. Я боялся своего первого разговора с Нилом и всех неловких, неуклюжих объяснений, которые мне пришлось бы дать о моей депрессии и тревоге.Все, что казалось мне маленькими грязными секретами, причинило мне столько боли. Но я был так приятно удивлен тем, как Нил точно уловил то, что я говорю, и дал мне больше информации о том, как работает мой мозг. Это сделало мою проблему не столько личной проблемой, сколько универсальной проблемой, которую мы могли бы изучить вместе. Он всегда дает мне вдумчивый ответ в течение дня или двух, когда я отправляю сообщение. Я действительно думаю, что мы добились большего прогресса в перерывах между сессиями, просто имея возможность общаться в режиме реального времени.Нил умен и добр. Я очень ценю его стиль общения и очень рекомендую его ».
Заключение
Понимание того, как мы думаем и формируем знания, может помочь нам в нашей жизни и отношениях. Это также может помочь нам распознать, когда у нас возникают проблемы, чтобы мы знали, когда нам следует обратиться за помощью. Когда мы обращаемся за помощью, мы можем обратиться к терапевту, подобному тому, которого можно найти в BetterHelp. Они могут помочь нам определить источник проблем и найти способы их решения.Они также могут помочь нам лучше понять, что такое познание и как оно относится к нам как личности, что в конечном итоге может помочь нам жить лучше. И кто бы не хотел об этом думать?
1.2: Определения и описания личности
Казалось бы, имеет смысл начать наше изучение личности с определения этого термина. К сожалению, не существует единого определения, которое подходило бы к разнообразию теорий, разработанных в области исследования личности.Большинство психологов согласны с тем, что термин «личность» происходит от латинского слова persona — термина, относящегося к маскам, которые носили актеры, исполняющие древнегреческие пьесы. Часто не хватало актеров, чтобы сыграть все роли в спектакле, поэтому они носили эти маски, чтобы зрители знали, что они играют разные роли. Но являются ли наши личности просто масками? Фрейд определенно считал бессознательное очень важным, Кеттелл считал исходные черты более важными, чем поверхностные черты, а буддисты считали мир природы (включая себя) иллюзией.Адлер считал, что лучший способ изучить личность — это взглянуть на стиль жизни человека, а Роджерс считал, что единственный человек, который может по-настоящему понять вас, — это вы сами. Какое определение могло бы охватить все это?
Тем не менее, нам нужно рабочее определение в качестве отправной точки для обсуждения. В общих чертах заимствуя определение личности Олпорта, личность можно рассматривать как динамическую организацию внутри человека различных психологических факторов, которые определяют характерные мысли и поведение человека.Проще говоря, множество факторов смешиваются вместе, чтобы создать каждого человека, и в результате этих факторов человек, скорее всего, будет думать и действовать в некоторой степени предсказуемым образом. Однако, учитывая сложность человеческой жизни, эти прогнозы могут оказаться неуловимыми. Теодор Миллон (1996, 2004; Millon & Grossman, 2005), известный клиницист и теоретик в области расстройств личности, искал определение личности, достаточно широкое, чтобы охватить как нормальную, так и ненормальную личность.Миллон описывает современный взгляд на личность как сложный образец психологических характеристик, которые глубоко укоренились, в значительной степени бессознательны и устойчивы к изменениям. Эти внутренние и всеобъемлющие черты возникают из сложной матрицы биологических диспозиций и экспериментального обучения и автоматически выражаются почти во всех аспектах уникального паттерна восприятия, чувств, мышления, совладания и поведения человека (например, Millon, 1996).
Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся при определении личности, — это то, как мы в первую очередь подходим к вопросу.Традиционно существует два основных подхода к изучению личности: номотетическая перспектива и идиографическая перспектива . Номотетическая перспектива стремится идентифицировать общие правила, относящиеся к личности, как конструкт (рабочая гипотеза или концепция, используемая для идентификации того, что мы можем описать, но не увидеть, например, IQ или себя). Таким образом, он может быть довольно абстрактным и часто не учитывает уникальность людей. Напротив, идиографическая перспектива фокусируется конкретно на индивидуальности и уникальности каждого человека.Хотя идиографический подход часто кажется студентам более привлекательным, особенно с учетом того, что он повышает их самооценку, считая их индивидуально важными, любой теории личности трудно охватить исследование, в котором одновременно рассматривается только один человек. Такая теория, естественно, страдает проблемами обобщения и может быть полезна для терапевтов, работающих с одним пациентом или клиентом одновременно, но она не будет особенно полезна для улучшения нашего общего понимания личности в целом.Однако важно отметить, что многие ранние теории личности были основаны на индивидуальных исследованиях, и эту критику мы еще несколько раз увидим в этой книге.
Как это часто бывает в психологии, лучшим подходом может быть попытка смешать номотетическую и идиографическую точки зрения, стремясь к обобщению общих принципов номотетической точки зрения на личность и развитие личности — при сохранении признательности за признание ценности идиографической точки зрения. уникального характера человека.Миллон (1996) предлагает интегративный подход к определению личности. Интегративный подход не только сочетал бы номотетическую и идиографическую точки зрения, он также помог бы объединить две широкие традиции клинической и прикладной психологии. Клинические психологи вынуждены в силу характера своей работы с пациентами или клиентами пытаться понять человека. Таким образом, им необходимо придерживаться более идиографического подхода. Напротив, прикладные психологи (например, психологи-экспериментаторы) более сконцентрированы на построении и считают номотетический подход более привлекательным и полезным для разработки обобщаемых теорий о природе различных аспектов личности.Если личность может быть определена удовлетворительным образом с помощью интегративного подхода, тогда клиницисты могут получить больше пользы от прикладных исследований, а психологи-экспериментаторы могут увидеть, что их работа более непосредственно применяется в клинических условиях, где она может помочь людям в нашем обществе.
Чтобы лучше понять, как различные дисциплины в области психологии способствуют нашему определению личности, давайте кратко рассмотрим некоторые из широко известных факторов, которые имеют значение:
Вопрос для обсуждения: Номотетическая и идиографическая точки зрения подходят к личности по-разному.Считаете ли вы, что ваша личность может быть описана таким образом, который также может быть использован для описания личностей других людей (возможно, ваших друзей), или вы считаете необходимым описать каждого человека как личность?
Психодинамические факторыСамо слово «психодинамический» предполагает постоянное взаимодействие между различными элементами разума. Зигмунд Фрейд не только предложил названия для этих элементов (ид, эго и суперэго), но и предложил разные уровни сознания.Поскольку бессознательный разум был очень могущественным, согласно Фрейду, одним из первых и наиболее устойчивых элементов психодинамической теории является то, что мы часто не осознаем, почему мы думаем и действуем именно так. Добавьте к этому веру в то, что наша личность определяется в раннем детстве, и вы быстро поймете, что психологические проблемы будет очень трудно лечить. Возможно, что еще более важно, поскольку мы не осознаем многих наших собственных мыслей и желаний, для нас было бы трудно или даже невозможно сделать выбор в пользу изменения нашей личности, независимо от того, насколько сильно мы этого хотим.
Большинство теоретиков психодинамики со времен Фрейда расширили влияющие на нас влияния, включив больше внешнего мира. Те теоретики, которые остались верными Фрейду, обычно известные как неофрейдисты, подчеркивали эго. Поскольку эго функционирует в основном в реальном мире, человек должен учитывать влияние других людей, вовлеченных в его жизнь. Некоторые теоретики, значительно отличавшиеся от традиционной фрейдистской точки зрения, в первую очередь Альфред Адлер и Карен Хорни, сосредоточили большую часть своих теорий на культурных влияниях.Адлер считал, что социальное сотрудничество необходимо для успеха каждого человека (и человечества в целом), тогда как Хорни предоставил интригующую альтернативу сексистским теориям Фрейда в отношении женщин. Хотя Хорни основывала свои теории о женщинах на культурном уровне между мужчинами и женщинами в викторианскую эпоху, в значительной степени ее теория остается актуальной и сегодня.
Факторы обучения и познанияКак вид, люди отличаются высокоразвитым мозгом.Животные с менее развитой нервной системой полагаются в первую очередь на инстинктивное поведение, но очень мало на обучение. Хотя изучение инстинктивного поведения животных увлекательно и привело к общей Нобелевской премии для этологов Николааса Тинбергена, Конрада Лоренца и Карла фон Фриша, поведение животных остается явно ограниченным по сравнению со сложными учебными и когнитивными задачами, которые люди могут легко выполнять. (Бек, 1978; Гулд, 1982). В самом деле, глубокая ценность нашей способности думать и учиться лучше всего может быть отражена в том факте, что, согласно строгому определению инстинкта Тинбергеном (см. Beck, 1978), у людей больше нет инстинктивного поведения.Тем не менее, мы более чем восполнили это своей способностью к обучению, а теория обучения и бихевиоризм стали доминирующими силами в первые годы американской психологии.
Джон Б. Уотсон и Б. Ф. Скиннер — одни из самых известных и влиятельных американских психологов. Изучение их новаторских исследований классической и оперантной обусловленности — стандартная плата за обучение на курсах психологии. Совсем недавно Альберт Бандура пользовался такой же популярностью и уважением в области теории социального обучения.Любой, у кого есть дети, прекрасно знает, с каким нетерпением они наблюдают за нами и подражают нашим действиям и речи. Важным аспектом перспективы обучения является то, что наша личность может развиваться в результате вознаграждений и / или наказаний, которые мы получаем от других. Следовательно, мы должны иметь возможность формировать личность человека так, как мы хотим. Ранние бихевиористы, такие как Уотсон, предположили, что они действительно могут взять любого ребенка и вырастить его, чтобы добиться успеха в любой карьере, которую они выберут для себя. Хотя большинство родителей и учителей стараются оказывать хорошее влияние на детей и подавать им хороший пример, на детей часто больше влияют их сверстники.То, что дети находят полезным, может быть не то, что родители и учителя считают полезным. Вот почему социально-когнитивный подход к обучению становится очень важным для понимания развития личности. Социально-когнитивные теоретики, такие как Бандура, признают, что дети взаимодействуют со своим окружением, частично определяя для себя, что поощряет или наказывает, а затем реагируют на окружающую среду по-своему.
Как предполагает смесь бихевиоризма и познания, предложенная Бандура и другими, существует тесная связь между бихевиоризмом и областью когнитивной психологии.Хотя строгие бихевиористы отвергли изучение ненаблюдаемых когнитивных процессов, когнитивная область фактически следовала руководящим принципам бихевиоризма в отношении беспристрастного и логического наблюдения за выражением когнитивных процессов через поведение человека и то, что он говорит. Таким образом, способность людей думать, рассуждать, анализировать, предвидеть и т. Д. Побуждает их действовать в соответствии со своими идеями, а не просто на основе традиционных поведенческих средств контроля: вознаграждения, наказания или ассоциации с безусловными стимулами.Успех когнитивного подхода в применении к терапии, такого как методы, разработанные Аароном Беком, помог сделать когнитивную теорию одной из наиболее уважаемых областей в изучении личности и аномальной психологии.
Биологические факторыХотя люди могут не проявлять инстинктивного поведения, в конечном итоге мы все же являемся продуктом нашей биологической структуры, нашей специфической структуры ДНК. Наш индивидуальный образец ДНК уникален, если только мы не являемся однояйцевыми близнецами, и он не только обеспечивает основу для наших познавательных и когнитивных способностей, но также устанавливает условия для определенных аспектов нашего характера.Возможно, наиболее характерных этих характеристик — это темперамент, , который можно условно охарактеризовать как эмоциональный компонент нашей личности. Помимо темперамента, исследования близнецов показали, что все аспекты личности, по-видимому, в значительной степени зависят от нашей генетической наследственности (Bouchard, 1994; Bouchard & McGue, 1990; Bouchard et al., 1990). Было обнаружено, что даже на такие сложные личностные переменные, как благополучие, традиционализм и религиозность, сильно влияет наш генетический состав (Tellegen et al., 1988; Waller et al., 1990).
Социобиологи и эволюционные психологи также подчеркивают роль генетики и адаптации во времени. Социобиологи рассматривают влияние биологических факторов на социальное поведение. Например, они предполагают, что мужчины склонны предпочитать нескольких сексуальных партнеров, потому что мужчины биологически способны иметь много детей, в то время как женщины будут склонны отдавать предпочтение одному успешному и устоявшемуся партнеру, потому что женщина должна физически инвестировать год или больше в каждого. ребенок (9-месячная беременность с последующим периодом кормления грудью).Точно так же эволюционные психологи рассматривают, как человеческое поведение адаптировалось для нашего выживания. Люди произошли от приматов, питающихся растениями, и мы не очень хорошо приспособлены для защиты от крупных хищников, питающихся мясом. Однако как группа, используя свой интеллект для изготовления оружия из палочек и камней, мы смогли выжить и процветать с течением времени. К сожалению, те же самые адаптивные влияния, которые определяют развитие каждого здорового человека, могут в неблагоприятных условиях привести к дисфункциональному поведению и, как следствие, психологическим расстройствам (Millon, 2004).
Вопрос для обсуждения: Некоторые исследования показывают, что личность во многом определяется генетикой. Видите ли вы сходство в своей личности по сравнению с вашими родителями, бабушкой и дедушкой, братьями, сестрами и т. Д.? Считаете ли вы, что ваше окружение, такие вещи, как ваше сообщество, ваши друзья, телевидение, фильмы, Интернет и т. Д., Имеют большее влияние, чем ваше биологическое наследство от ваших родителей?
Собственные приводыФрейд считал, что нами движут в первую очередь психосексуальные импульсы, а во вторую — склонность к агрессии.Конечно, для выживания вида необходимо производить потомство, и нам необходимы элементы агрессии, чтобы получить то, что нам нужно, и защитить себя. Но это особенно мрачный и несколько животный взгляд на человечество. Психологи-гуманисты Карл Роджерс и Абрахам Маслоу верили в положительный взгляд на людей, они предположили, что каждому из нас присуще стремление быть лучшим, на что мы способны, и делать все, на что мы способны. Роджерс и Маслоу назвали этот драйв самоактуализацией .Интересно, что этой концепции на самом деле тысячи лет, и, проведя время в Китае, Роджерс хорошо знал буддийские и йогические взгляды на себя.
Экзистенциальная перспектива в некоторой степени связана с гуманистической концепцией самоактуализации. Экзистенциальные теоретики, такие как Ролло Мэй, считают, что люди могут быть по-настоящему счастливы только тогда, когда они найдут какой-то смысл в жизни. С точки зрения восточной философии, восходящей к йоге и буддизму, смысл жизни определяется осознанием того, что жизнь — это иллюзия, что внутри каждого из нас заключена сущность одного универсального духа.Действительно, Йога означает «союз», имея в виду союз с Богом. Таким образом, внутри нас есть смысл, но иллюзия нашей жизни — это то, что отвлекает нас от осознания этого.
Вопрос для обсуждения: Чувствуете ли вы, что вас побуждают достичь чего-то великого или найти какой-то особый смысл в жизни? Верите ли вы, что могут быть пути, которые помогут вам, особенно духовные или религиозные пути?
Социокультурное влияниеКультура в широком смысле может быть определена как «все, что люди имеют, думают и делают как члены общества» (Ferraro, 2006a), и, по всей видимости, она такая же древняя, как сам род Homo (род которого мы, как и Homo sapiens , являются нынешними представителями; Haviland et al., 2005). Культуру также называют памятью общества (см. Triandis & Suh, 2002). Культура изучается и разделяется членами общества, и это то, что делает поведение человека понятным для других членов этой культуры. На все, что мы делаем, влияет культура, от еды, которую мы едим, до характера наших личных отношений, и она сильно варьируется от группы к группе. Что делает жизнь понятной и предсказуемой в одной группе, может быть непонятно для другой.Однако, несмотря на различия в деталях, существует ряд культурных универсалий, тех аспектов культуры, которые были идентифицированы в каждой культурной группе, которая была исследована исторически или этнографически (Murdock, 1945; см. Также Ferraro, 2006a). Следовательно, если мы действительно хотим понять теорию личности, нам нужно знать что-то о социокультурных факторах, которые могут быть одинаковыми или различаться в разных группах.
В 1999 году Стэнли Сью предположил, что психология систематически избегает изучения межкультурных факторов в психологических исследованиях.Это произошло не из-за предвзятости самих психологов, а из-за присущей им природы психологического исследования (комментарии см. Также Tebes, 2000; Guyll & Madon, 2000; и Sue, 2000). Хотя некоторые могут не согласиться с аргументами, изложенными в первоначальном исследовании Сью, очевидно, что подавляющее большинство исследований было проведено здесь, в Америке, в первую очередь профессорами американских колледжей, изучающими американских студентов-психологов. И история нашей страны четко идентифицирует большинство этих людей, как профессоров, так и студентов, как белых, представителей среднего и высшего классов.В том же году Ли и др. (1999) собрал воедино мультикультурные взгляды на личность с отдельными главами, написанными очень разными группами авторов. Как в предисловии, так и во вступительной главе редакторы подчеркивают, что ни человеческая природа, ни личность не могут быть отделены от культуры. И все же, как предполагает Сью (1999), они признают общий недостаток кросс-культурных или мультикультурных исследований в области личности. Однако времена начали меняться.В 2002 году Американская психологическая ассоциация (APA) приняла политику, озаглавленную «Рекомендации по поликультурному образованию, обучению, исследованиям, практике и организационным изменениям для психологов» (которая доступна в Интернете по адресу www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html). ). В 2002 году в престижном Ежегодном обзоре психологии появилась глава о том, как культура влияет на развитие личности (Triandis & Suh, 2002). В увлекательной статье о том, действительно ли психология имеет значение в нашей жизни, бывший президент АПА и известный социальный психолог Филип Зимбардо (2004) описал работу Кеннета и Мейми Кларк о предрассудках и дискриминации, которая была представлена в Верховный суд США в году. Браун vs.Board of Education of Topeka, дело KS (которое привело к прекращению сегрегации в школах в Америке) как одно из наиболее значительных воздействий на американскую жизнь, которому психология оказала непосредственное влияние (см. Также Benjamin & Crouse, 2002; Keppel, 2002; Пикрен и Томес, 2002). Наконец, исследование American Psychologist (основной журнал APA) и Psychological Science (основной журнал Американского психологического общества) с 2000 года выявило исследования, демонстрирующие важность кросс-культурных исследований во многих областях психологии. (см. Таблицу \ (\ PageIndex {1} \)).Таким образом, хотя теоретики личности и область психологии в целом несколько медлили с решением проблем межкультурного многообразия и разнообразия, в последние годы психологи, похоже, быстро осознают важность изучения человеческого разнообразия во всех его проявлениях. формы.
Как упоминалось в первых абзацах этой главы, одна из основных целей этой книги — включить различные культурные точки зрения в наше изучение теории личности, чтобы взять более глобальную перспективу, чем это делалось традиционно.Почему это важно? На самом деле очень легко указать ответ на этот вопрос. В Соединенных Штатах Америки проживает менее 300 миллионов человек. В Индии проживает почти 1 миллиард человек, а в Китае — более 1 миллиарда человек. Таким образом, только в двух азиатских странах проживает почти в 7 раз больше людей, чем в Соединенных Штатах. Как мы можем утверждать, что изучаем личность, если мы не принимаем во внимание подавляющее большинство людей в мире? Конечно, мы не полностью игнорировали эти две страны, потому что два самых известных теоретика личности проводили время в этих странах, когда были молоды.Карл Юнг провел время в Индии, и его теории явно находились под влиянием древней ведической философии, а Карл Роджерс провел время в Китае, когда учился на священника. Таким образом, можно провести связь между йогой, буддизмом, психодинамической теорией и гуманистической психологией. Иногда это будет связано с изучением различий между культурами, а в других случаях мы сосредоточимся на сходствах. В конце книги, я надеюсь, вы оцените не только разнообразие личностей и личностных теорий, но и те связи, которые связывают всех нас вместе.
Вопрос для обсуждения: Вы каждый день замечаете культурные различия вокруг себя или живете в небольшом сообществе, где все во многом похожи? С какими проблемами вы сталкиваетесь в результате культурных различий, потому что вы сталкиваетесь с ними ежедневно или потому что у вас мало возможностей испытать их?
Некоторые основные вопросы, общие для всех областей теории личностиВ дополнение к широким перспективам, описанным выше, существует ряд философских вопросов, которые помогают взглянуть на природу личности в перспективе.Размышление о том, как каждая теория отвечает на эти вопросы, может помочь нам сравнить и сопоставить различные теории.
Унаследована ли наша личность или мы являемся продуктом окружающей среды? Это классический спор о природе и воспитании. Рождаемся ли мы с определенным темпераментом, с генетически детерминированным стилем взаимодействия с другими людьми, с определенными способностями, с различными моделями поведения, которые мы даже не можем контролировать? Или мы сформированы нашим опытом, обучением, мышлением и отношениями с другими? Многие психологи сегодня находят эту дискуссию забавной, потому что независимо от того, какую область психологии вы изучаете, обычно ответ будет и тем, и другим! Мы рождаемся с определенным диапазоном возможностей, определяемых нашей ДНК.Мы можем быть определенного роста, иметь определенный IQ, быть застенчивыми или общительными, мы можем быть черными, азиатскими, белыми или латиноамериканцами и т. Д. В зависимости от того, кем мы являемся генетически. Однако окружающая среда может иметь огромное влияние на то, как реализуется наша генетическая структура. Например, ребенок, подвергшийся насилию, может стать застенчивым и замкнутым, даже если генетически он был более общительным. Ребенок, мать которого злоупотребляла алкоголем во время беременности, может страдать от алкогольного синдрома плода — основной причины предотвратимой умственной отсталости, даже если ребенок был генетически наделен возможностью быть гением.Таким образом, лучшая перспектива может заключаться в том, что наша генетическая структура предоставляет ряд возможностей для нашей жизни, а среда, в которой мы растем, определяет, где именно мы попадаем в этот диапазон.
Уникальны ли мы или есть общие типы личности? Многие студенты хотят верить, что они особенные и поистине уникальные, и склонны отвергать теории, которые пытаются классифицировать людей. Однако, если бы теории личности были уникальными для каждого человека, мы бы никогда не смогли охватить все теории! Кроме того, как бы вы ни были уникальны, разве многие люди, такие как ваши друзья, не похожи на вас? Чтобы понимать и сравнивать людей, теоретики личности должны учитывать, что есть общие аспекты личности.Каждый из нас должен решить, хотим ли мы по-прежнему находить уникальное и особенное в каждом отдельном человеке.
Что важнее: прошлое, настоящее или будущее? Многие теоретики, особенно теоретики психодинамики, считают, что личность в значительной степени определяется в раннем возрасте. Точно так же те, кто твердо верит в генетическую детерминацию личности, будут учитывать множество факторов, установленных еще до рождения. Но какие перспективы роста это открывает, могут ли люди изменить или выбрать новое направление в своей жизни? Когнитивные и поведенческие теоретики сосредотачиваются на конкретных мыслях, убеждениях и поведении, которые влияют на нашу повседневную жизнь, тогда как экзистенциальные теоретики ищут смысл в нашей жизни.Другие теоретики, такие как гуманисты и сторонники духовно ориентированных взглядов, которые мы будем исследовать, считают будущее главным в наших целях и устремлениях. Самоактуализация — это то, над чем мы можем работать. В самом деле, это может быть врожденный драйв.
Имеем ли мы свободу воли или наше поведение определяется? Хотя этот вопрос кажется похожим на предыдущий, он больше относится к тому, сознательно ли мы выбираем жизненный путь, по сравнению с тем, определяется ли наше поведение конкретными факторами, находящимися вне нашего контроля.Мы уже упоминали о возможности наличия генетических факторов выше, но в нашей окружающей среде также могут быть неосознанные факторы и стимулы. Конечно, люди полагаются на обучение во многом из того, что мы делаем в жизни, так почему бы не развивать нашу личность? Хотя некоторые студенты не хотят думать о себе как о продуктах подкрепления и наказания (то есть оперантного обусловливания) или ассоциаций, образованных во время классического обусловливания (у кого-нибудь есть фобия?), Как насчет разнообразия обучения с наблюдением? И все же многим людям кажется гораздо более достойным проявлять свою волю и делать разумный выбор.Возможно ли развить нашу волю, чтобы помочь нам сделать лучший выбор и выполнить его? Да, согласно Уильяму Джеймсу, ведущему психологу Америки. Джеймс считал нашу волю очень важной и включил главы о воле в две классические книги: Психология: краткий курс, , опубликованный в 1892 году, и Беседы с учителями по психологии и со студентами о некоторых идеалах жизни, , которые была опубликована в 1899 году. Джеймс не только думал о важности воли, но и рекомендовал ее применять.В «Беседах с учителями…», он устанавливает следующие обязанности учителей психологии:
Но давайте теперь немного подробнее остановимся на вопросе воспитания воли. Ваша задача — воспитать в учениках характер; а характер, как я часто говорил, состоит из организованного набора привычек реагирования. В чем же состоят сами такие реакции? Они состоят из склонностей к характерным действиям, когда нами обладают одни идеи, и к характерным воздержаниям, когда мы одержимы другими идеями.
Таблица \ (\ PageIndex {1} \): Выборка межкультурных исследований в избранных Психологические журналы с 2000 года | ||
|---|---|---|
| Приставка | Чао, 2001; Gjerde, 2001; Кондо-Икемура, 2001; Посада и Джейкобс, 2001; Ротбаум и др., 2000; Ротбаум и др., 2001; van Ijzendoorn & Sagi, 2001 | |
| Развитие ребенка | Callaghan et al., 2005; Голдин-Мидоу и Зальцман, 2000; Лал, 2002 | |
| Когнитивный диссонанс | Китайма и др., 2004 | |
| Познание и творчество | Антонио и др., 2004; Герман и Барретт, 2005; Hong et al., 2000; Леунг и др., 2008; Норензаян и Нисбетт, 2000; Томаселло, 2000 | |
| Конфликт и представления о безопасности | Эйдельсон и Эйдельсон, 2003; Грэм, 2006; Juvonen et al., 2006; Van Vugt et al., 2007 | |
| Сотрудничество | Вонг и Хонг, 2005 | |
| Культурные исследования и культурная компетентность в психотерапии | Goldston et al., 2008; Гейне и Норензаян, 2006; Леонг, 2007; Мацумото и Ю, 2006; Смит и др., 2006; Сью, 2003; Васкес, 2007; Уэйли и Дэвис, 2007 | |
| Образование | Tucker & Herman, 2002 | |
| эмоции | Эльфенбейн и Амбади, 2003; Фриджда и Сундарараджан, 2007; Hejmadi et al., 2000; Цай, 2007 | |
| Глобализация, национальность, расовые отношения | Арнетт, 2002; Heine et al., 2008; Генри и Хардин, 2006; Инглхарт и др., 2008; Маккрэй и Терраччиано, 2006; Сью, 2004 г .; Тропп и Петтигрю, 2005 | |
| Семейная динамика | Дадли-Грант, 2001; Халперн, 2001; Камегучи и Мерфи-Шигемацу, 2001; Каслоу, 2001 | |
| Целенаправленное поведение | Elliot et al., 2001; Маркус и др., 2006 | |
| Разведка | Daley et al., 2003; Штернберг, 2004 | |
| Обучение | Gurung, 2003; Ли, 2003; Ли, 2005; Макбрайд-Чанг и Трейман, 2003; Твид и Леман, 2002; Твид и Леман, 2003 год | |
| Память | Коэн и Гунц, 2002; Фивуш и Нельсон, 2004 | |
| Нейронные субстраты внимания | Hedden et al., 2008 | |
| Восприятие и пространственное представление | Bar-Haim et al., 2006; Коэн и Ганц, 2002; Добель и др., 2007; Feng et al., 2007; Джи и др., 2001; Китайма и др., 2003; Леунг и Коген, 2007; Маасс и Руссо, 2003; Миямото и др., 2006 | |
| Самооценка, самооценка, социальная перспектива | Perunovic & Heller, 2007; Ван, 2006а, б; Ву и Кейсар, 2007; Ямагиши и др., 2008; Ямагути и др., 2007 | |
| Реакция на стресс | Тейлор и др., 2007 | |
Таблица \ (\ PageIndex {2} \): Краткое сравнение факторов, влияющих на личность | ||
|---|---|---|
| Психодинамические факторы | Акцент делается на бессознательном разуме, взаимодействии между элементами разума, опыте раннего детства, стадиях развития, защитных механизмах и т. Д. | |
| Факторы обучения и познания | Акцент делается на стимулы окружающей среды и / или образ мышления, которые предсказуемо влияют на поведение; основное внимание уделяется наблюдаемому поведению или идентифицируемым мыслям. | |
| Биологические факторы | Акцент делается на генетических факторах, которые устанавливают диапазоны, в которых может развиваться человек. Этот подход не игнорирует окружающую среду, но генетические факторы (например, врожденные черты и темперамент) могут вызывать сходные ощущения влияния окружающей среды одинаковым образом или, наоборот, могут вызывать сходные влияния окружающей среды по-разному. | |
| Собственные приводы | Психологи-гуманисты сосредоточены на самоактуализации; экзистенциалисты и духовно ориентированные психологи сосредотачиваются на поиске смысла жизни. | |
| Социокультурное влияние | Межкультурные и мультикультурные психологи напоминают нам, что все вышеперечисленные категории следует рассматривать с точки зрения богатого разнообразия человеческого опыта. Учитывает различия и сходства между группами людей по всему миру. | |
Что такое социальная психология? — Определение и профессии в поле — Видео и стенограмма урока
Социальная психология и другие области
Как вы, наверное, догадались, социальная психология охватывает множество областей! И поскольку она охватывает очень много разных вещей, социальная психология пересекается со многими другими областями исследований.
Антропология — это исследование человеческой культуры. Антропологи изучают верования и традиции общества.Их внимание сосредоточено на обществе в целом, тогда как социальные психологи хотят изучать, как общество влияет на мысли, чувства и поведение людей.
Подумайте об этом так: антропологи могут изучать определенные религиозные традиции, например, то, как различные христианские церкви празднуют Пасху. Но социальных психологов интересует взаимодействие отдельных людей с обществом, поэтому они могут изучать, как религиозные люди ведут себя иначе, чем нерелигиозные люди в определенных ситуациях.
Социология имеет много общего с социальной психологией. Социологи, как и антропологи, изучают общество в целом. Но вместо того, чтобы смотреть на верования и традиции общества, они сосредотачиваются на организациях и на том, как эти организации влияют на людей внутри них. Подобно социальным психологам, социологов интересует пересечение общества и личности. Но социологи больше сосредоточены на обществе, а социальные психологи больше на личности.
Например, представьте, что вы хотите изучить, почему так много браков заканчиваются разводом. Если вы социолог, вы будете собирать всевозможные данные о количестве разводов из года в год. Затем вы можете сравнить эту информацию с тем, что происходит в обществе. Например, вы можете заметить, что по мере увеличения доли домохозяйств, в которых работает жена, растет и количество разводов. Вы также можете наблюдать различия в уровне разводов в зависимости от класса, расы или религии.
Социальный психолог может подойти к проблеме иначе.Вместо того, чтобы смотреть на общество в целом и на количество разводов, они могут опросить множество пар, которые развелись, и многих, которые остались вместе. Они могли сравнить различия в двух типах пар и, поговорив с десятками пар, выдвинуть теорию относительно того, что вызывает рост количества разводов. Социальный психолог мог дать тот же ответ, что и социолог, но они подошли к нему с другой точки зрения.
Помимо антропологии и социологии, социальная психология имеет много общего с другой отраслью психологии, называемой психологией личности. Психология личности — это именно то, на что это похоже: изучение индивидуальных черт личности. Подобно социальным психологам, теоретиков личности интересуют мысли, поведение и чувства людей. Но в то время как социальные психологи, как правило, сосредотачиваются на том, как мир влияет на эти аспекты человека, психологи-личностные психологи сосредотачиваются на внутренних свойствах человека и на том, как они влияют на его действия и мысли.
Допустим, мы хотим изучить, почему некоторые люди тихие и замкнутые, а некоторые экстраверты и стремятся быть частью компании.Психолог может рассматривать интровертов и экстравертов как черты личности, влияющие на поведение; их интересует, что вызывает эти черты. Это что-то из детства человека? Это биологическая особенность, с которой мы родились? Комбинация двух?
Между тем социальные психологи больше смотрят на ситуацию: этот человек более замкнутый, потому что ее учили, что хорошие девушки должны быть тихими и скромными? Развлекает ли этот человек весь бар, потому что он американец ирландского происхождения и ожидает, что в барах будет весело?
Помимо антропологии, социологии и психологии личности, социальная психология имеет некоторые общие черты со многими другими областями.От истории до экономики и от нейробиологии до права — у социальной психологии есть свои руки, так сказать, по разным сосудам.
Карьера в социальной психологии
Итак, мы знаем, что такое социальная психология, но чем социальные психологи зарабатывают себе на жизнь?
Есть много разных видов работы для людей, изучающих социальную психологию. Большинство социальных психологов предпочитают проводить исследования и преподавать в университетах, но есть много других вариантов. Некоторых нанимает правительство или некоммерческие организации для проведения исследований.Школы иногда нанимают социальных психологов, чтобы помочь им улучшить школу. Некоторые работают в корпоративной Америке, помогая компаниям выбирать лучших сотрудников и создавать наиболее продуктивную рабочую среду. Некоторые из них даже работают в рекламных агентствах, используя свои знания для создания рекламы, которая убеждает людей покупать товары.
Как видите, вариантов для социальных психологов очень много!
Краткое содержание урока
Социальная психология — это изучение того, как люди действуют, думают и чувствуют в контексте общества.Другими словами, социальные психологи задаются вопросом о том, как на мысли, чувства и действия человека влияет ситуация и окружающие его люди. Социальная психология имеет много общего с антропологией, социологией и психологией личности, а также со многими другими областями исследований. Карьера в социальной психологии широко варьируется: от работы учителем в колледже до работы в рекламе, в правительстве или в корпоративной Америке.
Результаты обучения
После просмотра этого урока вы должны уметь:
- Определить психологию и социальную психологию
- Сравните и сопоставьте социальную психологию с антропологией, социологией и психологией личности
- Назовите карьеры социальных психологов
Что из этого является наиболее точным определением дисциплины в психологии? — Мворганизация.org
Какое из них является наиболее точным определением дисциплины в психологии?
1. Правильный ответ: а) научное изучение поведения и психических процессов.
Что из перечисленного является основными психологическими областями?
Домен 1: Биологический (включает нейробиологию, сознание и ощущения) Домен 2: Когнитивный (включает изучение восприятия, познания, памяти и интеллекта) Домен 3: Развитие (включает обучение и кондиционирование, развитие продолжительности жизни и язык)
Какие 5 областей в психологии?
Термины в наборе (5)
- Биологический.изучение психических процессов, нейробиологии, ощущений и сознания.
- Развитие. изучение обучения, кондиционирования и развития продолжительности жизни.
- Когнитивный.
- Социальная и социальная личность.
- Психическое и физическое здоровье.
Каковы 5 основных областей психологии?
Быстрый просмотр:
- Психология — это научное исследование человеческого мышления, чувств и поведения.
- Пять основных точек зрения в психологии: биологическая, психодинамическая, поведенческая, когнитивная и гуманистическая.
- Каждая перспектива дает свое собственное представление о причинах того, почему вы делаете то, что делаете.
Какие три области психологии?
Основные разделы психологии
- Обзор.
- Аномальная психология.
- Поведенческая психология.
- Биопсихология.
- Клиническая психология.
- Когнитивная психология.
- Сравнительная психология.
- Психология консультирования.
Что такое психология разных авторов?
Ответ.Ответ: Определение психологии. Зигмунд Фрейд-Уильям Джеймс определял психологию как «науку о душевной жизни, как о ее явлениях, так и о их состояниях». Джон Б. Уотсон определил информационную дисциплину психологии как получение информации, полезной для управления поведением.
Кто самые известные психологи?
10 самых влиятельных психологов
- Б. Ф. Скиннер.
- Жан Пиаже. Теория когнитивного развития Жана Пиаже оказала глубокое влияние на психологию, особенно на понимание интеллектуального развития детей.
- Зигмунд Фрейд.
- Альберт Бандура.
- Леон Фестингер.
- Уильям Джеймс.
- Иван Павлов.
- Карл Роджерс.
Что такое психология по Уильяму Джеймсу?
исследование причин, условий и непосредственных последствий. насколько это можно установить, состояний сознания. . . такие как ощущения, желания, эмоции, познания, рассуждения, решения, волитоны и тому подобное. в людях.
Какова цель биопсихологии?
Биопсихология помогает нам понять роль человеческого мозга не только в болезнях, но и в здоровье. Вещи, которые могут изменить поведение человека под влиянием мозга, включают травмы, химический дисбаланс или болезнь.
Нейропсихология — это то же самое, что биопсихология?
Нейропсихология — это дисциплина, изучающая структуру и функции мозга, связанные с конкретными психологическими процессами и явным поведением.Биопсихология — это раздел психологии, который анализирует, как мозг и нейротрансмиттеры влияют на наше поведение, мысли и чувства.
Является ли нейропсихология биологической?
Нейропсихология — это область, которая связывает биологический процесс в мозге с психологическим процессом. Нейропсихология — это область науки, основанная на областях психологии, физиологии и биологической психологии. Он играет важную роль в связывании измеримой активности мозга и разума.
Проводят ли нейропсихологи терапию?
Нейропсихологи изучают взаимосвязь между тем, что делает мозг человека, и тем, как он действует в жизни — эмоционально, физически, социально и так далее.Нейропсихологи могут сами провести когнитивную реабилитацию. Очень часто это отсылают к другим дисциплинам, трудотерапии, логопедии.
Что такое биопсихологическая перспектива?
Биологическая перспектива — это способ взглянуть на психологические проблемы путем изучения физических основ поведения животных и человека. Это одна из основных перспектив психологии, которая включает в себя такие вещи, как изучение мозга, иммунной системы, нервной системы и генетики.
Почему важна биопсихосоциальная перспектива?
Биопсихосоциальная модель помогает врачам первичной медико-санитарной помощи понять взаимодействия между биологическими и психосоциальными компонентами болезней, чтобы улучшить диадические отношения между клиницистами и их пациентами и мультидисциплинарные подходы к уходу за пациентами.
Какой пример биопсихосоциального подхода?
БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД: Люди могут начать курить по ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ причинам, например, думая, что это снижает их стресс, или из-за личных качеств (экстраверты чаще курят). Люди могут начать курить из-за СОЦИАЛЬНЫХ связей или общепринятых культурных норм.
Какой пример поведенческой точки зрения?
Эта теория утверждает, что человека может побудить к действию что-то, что находится вне его самого.Например, покупка новой машины мотивирует подростка окончить среднюю школу. Получение денег будет мотивировать взрослого ходить на работу каждый день. Различные типы мотивации можно использовать по-разному.

 Ребенок начинает приспосабливаться к социуму. Он начинает решать конфликтные ситуации, познает о своих достоинствах и недостатках. Среди сверстников ребенок может менять свои ценности и взгляды на жизнь. Он становится членом общества, где выделяется своими уникальными качествами.
Ребенок начинает приспосабливаться к социуму. Он начинает решать конфликтные ситуации, познает о своих достоинствах и недостатках. Среди сверстников ребенок может менять свои ценности и взгляды на жизнь. Он становится членом общества, где выделяется своими уникальными качествами.